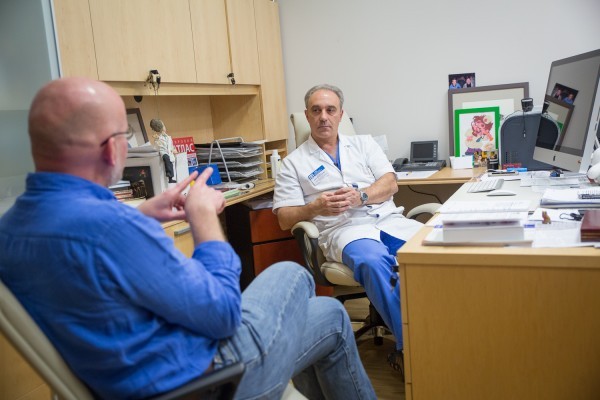Алексей Масчан: Чтобы дети не умирали
Клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва – крупнейший в Европе центр лечения тяжелых детских болезней – удивляет еще до того, как ты зашел внутрь. Не похоже на больницу. Не похоже на больницу, где лечат тяжелые болезни. Оранжевые стены, цветные скамейки, детские площадки. В вестибюле сломя голову носятся двое мальчишек в масках, рядом идет мастер-класс по рисованию, а за стенами врачи насмерть бьются за то, чтобы дети выздоравливали. Совсем. Полностью. Чтобы никогда сюда не возвращались.
Стол Алексея Масчана, заместителя директора ФНКЦ Димы Рогачева, завален медицинскими научными журналами, профессор говорит по телефону с коллегами. Говорит по-русски, но непонятно ничего – диагнозы, протокол лечения, названия медикаментов. Вот «прокапать» – это понятно.
Алексей Масчан
Один из ведущих онкологов России. Заместитель Директора Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Росздрава
Д.м.н., профессор, врач — педиатр, детский гематолог, г. Москва.
Воспламеняющий коктейль солидарности
– Профессор, ты из тех людей, которые совершили революцию. Когда ты начинал, умирало?..
– Когда я начинал, умирало 89–94% пациентов с лейкозами.
Такие же примерно были цифры для больных с другими тяжелыми заболеваниями. Чуть лучше была ситуация с более излечимыми опухолями, но в целом, конечно, эта история отталкивается именно от таких трагических цифр.
– Теперь выздоравливают 75–80%, да?
– Если брать ситуацию в целом, как мы говорим, «на круг», (не очень хорошее выражение, экономическое какое-то), то да, сегодня мы способны вылечить 80% всех больных опухолями детей.
Но эти результаты достигнуты довольно давно, и каждое новое улучшение, каждый новый шаг на пути прогресса дается гораздо большими усилиями, чем давался раньше. Тогда, научившись буквально мыть руки и правильно пользоваться теми препаратами, которые уже в течение сорока лет были в доступе, можно было в десять раз увеличить выживаемость пациентов буквально за пять лет.
Сейчас эта ситуация совсем другая. И о дальнейшем прогрессе мы можем говорить, только отталкиваясь от дальнейших научных достижений. В этом самая главная проблема нашей специальности.
– Подожди, давай по порядку. Тогда в середине, в конце 90-х годов всё дело было просто, грубо говоря, в производственной дисциплине, в том, чтобы начать правильно работать.
– Это была середина-конец 80-х годов. И тогда действительно, раз мы начали пользоваться такими производственными терминами – это в какой-то мере была производственная дисциплина, которая хромала на обе ноги.
Мы не знали, как пользоваться препаратами химиотерапии, как управлять осложнениями, как использовать современные антибиотики. Да и не было их у нас. Ничего такого героического в том, что нам удалось сделать («нам» – это всем врачам, детским гематологам, онкологам по всей стране). Достаточно было трехмесячной стажировки в Германии, овладения довольно простыми терапевтическими приемами – и результат, можно сказать, лежал в кармане.
Прибавь к этому еще то, что нам очень много и щедро помогала та же Германия в плане обеспечения материалами, лекарствами, консультациями.
Чтобы я смог стать гематологом, родители содержали меня до сорока лет
– Что тобой тогда двигало: научный интерес, некоторая профессиональная гордость? Или тебе было жалко людей, детей? Почему ты всё это стал делать, упираться? Почему вы сбились в команду, в которой появились разные люди, которые вам помогали? Что было главным двигателем?
– Всё вместе.
В первую очередь, когда я ещё учился в институте и собирался стать детским гематологом – конечно, доминировало желание бороться с раком, с лейкозом, который косил детей. Потом появился научный интерес. Как только ты сталкиваешься с первым погибшим пациентом, ты понимаешь, что научный интерес отступает на второй план, и начинает тобой двигать желание, чтоб дети не умирали, чтобы они выздоравливали, чтобы ты сделал максимум для них, даже если ты не можешь многого сделать.
Эта, если хочешь, смесь, где и научный интерес, и ощущение человеческой солидарности, ощущение бессилия перед тем, что ты не можешь спасти ребенка, желание быть просто доктором – воспламеняющийся коктейль, который заставлял нас работать.
Нам повезло, собралось очень много людей примерно с такой же психологией, как моя, которые очень мало просили материально. По разным причинам. Меня, например, до сорока лет содержали родители, и я мог спокойно отдаваться своей работе. Все в нашей команде были одинаково мотивированы, одинаково преданы делу. Те, кто по каким-то причинам не мог быть так же полностью погруженным, уходили очень часто, хотя не были плохими докторами, и уж тем более не были плохими людьми.
– Раз уж мы заговорили об этом, как ты переживаешь смерть пациента? Как можно видеть это всё время и не сойти с ума?
– Это то, о чем я спрашиваю своих коллег-реаниматологов. Потому что для меня, к счастью, само понятие «видеть смерть и уход ребенка» – в большей степени умозрительное. Я не стою рядом в сам момент смерти (хотя и это со мной бывало).
Это очень тяжело переживать, тем более, что всегда рядом стоит мама ребенка, да и вообще вся семья. Это очень и очень тяжелое чувство, которое переживать никому не пожелаешь, но это приходится делать. И когда ты понимаешь, когда ты экстраполируешь эту ситуацию хотя бы в самой малой степени на себя, это как раз и придает дополнительные силы, чтобы дальше и дальше этим заниматься. Именно такие моменты, никакие не публикации, не 90%, не 95%, а один умерший маленький человек как раз и дает силы и заставляет дальше и дальше бороться.
Тайна жизни и смерти
– В конце 80-х движение вашей медицинской практики вперед – это было, скорее, дисциплина. Сейчас это, как ты говоришь, сложные научные эти маленькие шажки. И вы где-то там копаетесь уже, в общем, очень близко к тому месту, где у человека душа, зарождение жизни и всё такое. Ты можешь про это рассказать так, чтобы понятно было, про что вы думаете, где вы сейчас, в смысле исследований?
– Борьбу с раком, наверно, нельзя представить неким забегом в одном направлении и на определенную дистанцию. Скорее, это, если будет позволена такая аналогия, если много-много народа соберется в центре круга, и каждый со своей скоростью побежит по радиусу – вот это движение к излечению рака. Когда весь этот круг будет заполнен, тогда будет победа.
Где мы находимся, – сказать, на самом деле, достаточно трудно, потому что в отношении излечения одних опухолей очевидно, что мы должны их вылечивать на 100%. Это тот результат, который является единственно приемлемым для любого детского гематолога. Для других опухолей, понятно, что с помощью стандартных подходов мы вылечиваем половину пациентов, но чтобы вылечить вторую половину пациентов, нужно исследовать и биологию самой опухоли, и закономерность иммунного ответа на эти опухоли, и особенности обмена веществ в организме, и так далее, и тому подобное.
То есть нет такой точки, где мы находимся.
Это, наверно, всё-таки не будет уподобление такой структуре атома, но точки, в которой в данный конкретный момент находится детская онкология, её не существует. Это движение, ещё раз, во многих направлениях, многих коллективах. И что самое смешное, что ранее забытые или оставленные за неэффективностью направления вдруг приобретают совершенно новое звучание и новую жизнь.
Например, иммунотерапия рака. Идея, которая переживала свои взлеты и падения в течение, наверно, уже сорока лет, с тех пор, как были открыты лимфоциты, которыми фильтрируют опухоли, которые могут против этой опухоли бороться. Потом после своего кратковременного расцвета эта идея была полностью забыта, потому что оказалось, что невозможно полностью вылечить опухоль никакими лимфоцитами. Потом эта идея снова приобрела новое звучание, потом опять была забыта.
Сейчас идет совершенно новый этап, когда открыли некоторые закономерности взаимодействия опухолей и иммунной системы и научились открывать опухоль воздействию иммунной системы. Это, пожалуй, одно из самых перспективных направлений в лечении опухолей, рядом с которым лежит и генетика опухоли, и понимание того, как эта опухоль развивается, с какой скоростью, почему одни опухоли развиваются быстро, другие – медленно, почему одни опухоли видны иммунной системе, другие – нет, почему одни опухоли устойчивы к химиопрепаратам, а вторые, наоборот, очень чувствительны. И в этой области многое-многое делается.
Когда вообще смотришь на то, над чем работают люди – детские ли, взрослые ли онкологи, биологи, биохимики, молекулярные биологи – становится настолько больно и противно за то, чем занимается наша страна в целом, вместо того, чтобы стать таким уважаемым и полноценным членом международного сообщества, которое борется, пусть высоко звучит, но за высшие гуманистические цели, за здоровье человека, здоровье и жизнь ребенка, то, конечно, становится очень противно.
– Очень противно, в том смысле, что мы там, по большей части, занимаемся войной и всякой ерундой вместо того, чтобы заниматься наукой?
– Да-да. Да, именно это я и имею в виду.
Ставить какие-то суррогатные жизненные цели, заниматься ровно обратным тому, чем я занимаюсь, и тому, чем нужно, по моему мнению, заниматься нормальной стране, на это смотреть действительно ужасно противно. И смотреть на людей, которые отчитываются, врут в глаза и своим собственным людям, своему народу, и своему даже президенту, которые рассказывает о том, каких мы невероятных успехов добиваемся в медицине, в науке. Хочется всегда этим людям посмотреть в глаза как следует. Но глаза они прячут.
– Давай попробуем определить эти ценности, которыми, по-твоему, стоит заниматься.
– Эти ценности, по-моему, общеизвестны, они изложены в проповедях. Очень простые ценности. Главная ценность – это человеческая жизнь, главная ценность – это уважение одного человека к другому, из-за этого же неспособность одного человека унизить другого. Я ненавижу, когда при мне унижают людей, да и не при мне – тоже. Помощь слабому, любовь. Какие еще ценности нужны?
Отломанные вирусы и непонимание
– Когда мне рассказывают про лекарства, сделанные из отломанного вируса, я даже вообразить себе это не могу. Когда мне рассказывают про трансплантацию костного мозга и про то, что меняется, например, группа крови, я представить себе этого не могу, потому что мне с детства бабушка-доктор объясняла, что вот уж что точно не может измениться у человека, так это группа крови. У тебя есть ощущение, что ты находишься среди огромного количества людей, которые не понимают, что ты делаешь, и ты не можешь им этого объяснить? Или можешь объяснить?
– Это ситуация двойная.
Для обывателя то, что мы делаем, чудно и диковинно. Но точно так же для меня чудно и диковинно, что делают ученые, которые режут вирусы, которые их вставляют в клетки, которые изучают тонкие биохимические, молекулярные, биологические процессы.
Простой бытовой пример, ты водишь машину, и эти машины всё современней и современней, и тебе их водить всё легче и легче, скоро они сами вместо нас будут ездить. То же самое испытывает доктор. Простой, не ученый, а практический доктор. Он садится в комфортную машину. Да, ему нужны какие-то базовые знания, но эти базовые знания можно в любой момент, как известно, почерпнуть из компьютера.
Это невероятные привилегии по сравнению с теми врачами, которые были до нас, которые действительно были клиническими гениями, у которых, кроме эндоскопов и анализов мочи и крови, не было фактически ничего. Это я, наверно, утрирую, но знаний было мало.
Клиницисты были настолько гениальными, что мы по сравнению с ними – просто малые дети.
Ситуация современного практического доктора очень тяжелая. Его не понимают пациенты, его не понимают даже многие коллеги, которые занимаются менее сложными вещами. И, в то же время, он совершенно не понимает то, что делают ученые, которые, собственно, и ответственны за весь тот прогресс, который был достигнут. Ведь то, чем мы пользуемся, то, что определяет наше движение к наилучшим результатам, к излечению каждого ребенка сделано не нами, не гением врачебным, а гением научным.
– Как изменилась профессия врача? Помню из своего детства, что словом «обход» называлось, когда группа врачей идет по палатам, склоняется над пациентом, вертит его так и сяк, слушает, смотрит и всё такое. А у вас обходом называется такая штука, когда вы сидите в ординаторской за столом и смотрите какие-то таблички, бумажки и разговариваете на птичьем языке. Что изменилось в профессии врача?
– Во-первых, обход остался обходом, и я раз в неделю в сопровождении своих докторов иду по отделению, которым заведую, и подхожу к каждому пациенту и хотя бы внешне его осматриваю.
Конечно, основная работа происходит уже в кабинете, где есть компьютер, на котором отображаются анализы, данные компьютерных томограмм и, прежде всего, конечно, анализируется гораздо более глубокий процесс, чем можно проанализировать у постели больного.
В этом плане медицина изменилась совсем до неузнаваемости: и по нашим возможностям поставить правильный диагноз, по пониманию того, что происходит с пациентом, по прогнозированию вероятности положительного или отрицательного исхода всё совсем по-другому. Все поменялось буквально за 30–40 лет. Вообще, современной медицине всего лет 25–30, не больше, именно тогда качество работы врача поменялось кардинально. И будет еще больше меняться.
Совсем апокалиптические прогнозы, говорят, что врачи скоро будут практически не нужны, по крайней мере, в таком количестве, в котором они существуют сейчас, что стандартные ситуации будут решаться с помощью компьютеров фельдшерами – людьми с ограниченным медицинским образованием, а врачи нужны будут только для решения ситуации оставшихся десяти процентов. Я такие прогнозы слышал.
В общем, это недалеко от правды. Другое дело, что пациенту, конечно же, нужен не фельдшер и не компьютер. Пациенту нужен врач, который ответит на все вопросы. И причем не в компьютерном формате, в человеческом, как говорил Сент-Экзюпери. Конечно, я всегда предпочту старорежимного пожилого доктора, который придет, откашляется и выслушает меня через платок. Как в те времена, когда даже не у всех были стетоскопы, врачи слушали пациентов через платочек.
Хорошие и плохие врачи
– А как ты отличаешь хорошего врача от плохого?
– Это вопрос очень сложный.
Во-первых, мы принимаем на работу молодых врачей, которых мы сами учили в течение двух лет. Но каким человек станет врачом, как долго он сможет поддерживать это невероятное напряжение, которого требует наша работа, никогда непонятно. И остаются лучшие.
Во-вторых, остаются далеко не все, если не сказать – меньшинство. Требования, которые предъявляются сегодня нашей профессией, необычайно высоки. Конечно, предсказать невозможно, и мы ошибаемся и расстаемся с людьми. И наоборот, те люди, которые нам кажутся достаточно невзрачными и серыми, вдруг начинают сверкать всеми гранями, и из них вырастают прекрасные клиницисты и исследователи. Поэтому нет ответа на этот вопрос. Только метод проб и ошибок. Я не владею методами и секретами подбора персонала.
– И всё-таки я добьюсь своего. Во враче главное, чтобы он по четыре часа каждый день читал научные журналы, или чтобы он внимательно относился к пациенту, или в каких пропорциях это всё должно быть в нем?
– Самый простой ответ – это должно быть гармонично. Врач, который не читает, а пользуется только собственным накопленным опытом, в нашей среде не может существовать, он деградирует и начинает сам ощущать свою абсолютную несостоятельность. Поэтому мне нужен врач, который будет, прежде всего, прогрессировать и как клиницист, и как исследователь. Но, главным образом, конечно, как клиницист. А это невозможно без чтения литературы, без анализа данных исследований, без критического осознания собственного индивидуального опыта, который, может быть, и очень большой, как, например, у меня.
Я видел сотни редких больных. И, тем не менее, иногда садишься с журналом, читаешь описание случая и думаешь: «Надо же, а я об этом не знал». А это именно то, что у меня было, то, о чем я не догадался, то, что я не смог для своего больного сделать. Поэтому это, прежде всего, клинический дар, способность синтезировать полученную информацию от многих-многих исследований, которым подвергается больной, и, конечно, анализ клинической и научной литературы.
Клиника с Марса
– Когда входишь в эту клинику, совершенно полное ощущение, что попадаешь в какое-то, не знаю, будущее, на Марс, фантастический роман. Почему? Что тут такого сделали? Из чего это состоит, это ощущение. Кроме веселенькой архитектуры и того, что тут очень чисто? Я тут видел однажды семинар для уборщиц про то, как проводить уборку. Но ты можешь объяснить, из чего складывается это ощущение о клиники из фантастического романа?
– Ощущение складывается как раз из того, что видно, что мы во главу угла в качестве своей главной ценности поставили благо, здоровье, комфорт ребенка и его семьи и действительно мы именно об этом думали. Это касается и размеров палат, и окраски фасадов, и того, что у нас есть для родителей специальные раскладушки, которые на день убираются в специальные комнаты, кухня для родителей, пансионат для семей.
Наша главная ценность – чтобы нашим детям и их родителям было комфортно. Естественно, глупо было бы отрицать, что возможности наши были несоизмеримы с другими. Но главная ценность – это удобство, комфорт, а не зарабатывание денег, не получение невероятных научных результатов, не сдача площадей в аренду, не высоченные зарплаты и так далее. Тебя может догнать охранник и сказать: «Наденьте, пожалуйста, бахилы, а то нашим детям опасна может быть инфекция, которую вы принесете на своих ботинках», – это оттуда же. Всё очень и очень просто.
Мы, конечно, ещё раз скажу, имели такие возможности, которых никогда не имел никто в этой стране. И нам удалось их, слава Богу, реализовать, несмотря на то, что нас пытаются засунуть в рамки обычной одноканально финансируемой медицины.
– Про воздух в палатах расскажи, про медсестер расскажи, про врачей расскажи. Это же всё состоит из множества мелочей, про которые просто никто не понимает, что они так устроены.
– Собственно, в твоем вопросе кроется и ответ. Мелочей в нашем деле не бывает. Например, у нас работала полтора или два года инструктор из компании, которая производит пробирочки для забора крови, и она обучала наших сестёр правильно забирать кровь на анализы, что очень важно, чтобы получать анализы валидными, то есть правильными.
– Перечисли, пожалуйста, хотя бы пять-десять элементов, про которые важно думать. Не в смысле, закатывать глаза и думать о пациенте: «Бедненький», а ради этого пациента устроить постоянное обучение медсестер, устроить давление в палатах. Перечисли что-то, чтобы было понятно, что эта мысль о пациентах – не просто складывание бровей домиком, а целая куча всяких мероприятий, которые нужно сделать.
– Перечислить это действительно всё невозможно.
Первое и главное, чтоб пациенту никогда не было больно. Это абсолютный приоритет. Отсюда все болезненные манипуляции под наркозом, абсолютно свободное пользование наркотиками без раздумий, когда это нужно.
Создание комфорта пациента начинается именно с адекватного обезболивания, то, на чем стоит вообще медицина как таковая. Это первое.
Второе – это создание среды для пациента и для его мамы. И отсюда удобные двухместные палаты, место для ночевки родителей, кухня для родителей, где они могут готовить себе чай, еду, отдельная комната для мамы в отделении трансплантации и так далее.
Третье, это сделать так, чтобы больной получал самое современное и самое нужное лечение. Отсюда самый современный, самый быстрый и самый правильный диагноз, для этого выстроена огромная лабораторная служба, для этого оснащено отделение патологической анатомии, совершенно невероятное, работающее с невероятными космическими технологиями, которые позволяют установить диагноз в течение 24-х часов, если это действительно необходимо. Причем сложнейший диагноз с использованием самых современных техник и молекулярной биологии, и иммуногистохимии. Я один раз спросил, сколько стоил диагноз одного пациента, который был поставлен за 24 часа. То ли 12, то ли 15 тысяч долларов.
Количество исследований на одном образце, количество реакций, количество окрасок было такое, что оно стоит дороже, чем лечение пяти таких пациентов, согласно квотам Министерства здравоохранения. И этот пункт тоже называется думать о пациенте, сделать так, чтобы пациент получил правильный диагноз в максимально короткое время.
Следующее, это обеспечить пациенту самое лучшее лечение. Это значит, что у нас должны быть все самые лучшие препараты. Те препараты, которые не производятся в России или не закупаются в России, нужно иметь возможность привезти из-за границы. Еще десять лет назад, когда Путин посещал наш центр, мы получили благодаря ему специальное разрешение на ввоз незарегистрированного препарата, это разрешение теперь закреплено законодательством, и каждый может иметь этот препарат. И теперь мы можем ввезти любой препарат, если он нужен нашему пациенту, и если его есть кому оплатить. А у нас, по счастью, есть, кому оплатить, потому что есть Фонд «Подари жизнь», который покупает нам все те препараты, которые отсутствуют в нашей стране.
Чтобы пациент мог получить вовремя операцию, самую лучшую операцию, выполненную самыми лучшими хирургами. Для этого к нам приезжает оперировать один из лучших нейроонкологов Германии и один из лучших онкоортопедов Германии, которые учат наших хирургов делать уникальные операции, которые сами оперируют вместе с нашими хирургами.
Я назвал пять пунктов, но, по-моему, этого достаточно. Да, ты упомянул чистый воздух. Войди в любую отечественную больницу, даже самую хорошую, – и ты увидишь, что система вентиляции там просто-напросто отсутствует. Соответственно, лечить больных, у которых подавлен иммунитет, там невозможно, потому что эти больные имеют очень высокий риск подхватить смертельную грибковую инфекцию.
Клининг, который ты только что назвал очень важен. И у нас проходит семинар для «Бойцов клининга», для нашей киргизской команды, которые убираются у нас в центре. Они знают, как правильно проводить уборку, не путать тряпки между палатами, какими растворами протирать какие стены, какие поверхности.
При просмотре фильмов, конечно, кажется, что думать о пациенте – это сделать бровки домиком и помолиться за пациента. Но на самом деле, современные технологии – это очень и очень сложная система, которая, между прочим, не устает совершенствоваться, и поддержание которой, на самом деле, – это очень сложная и дорогая задача.
Быть глобальным пессимистом, а бытовым оптимистом
– Ты ругаешься всё время на государство за то, что оно придумало одноканальное финансирование. То есть, видимо, что-то неправильно понимает. Что государство неправильно понимает, когда финансирует медицину?
 – Действительно, я всегда ругаю государство, но когда-то я должен, в конце концов, сделать этому государству реверанс. Я его делаю сейчас. Конечно, ситуация с финансированием медицины в России на порядки, просто небесно лучше, чем в странах бывшего Советского Союза. Есть страны, где медицина не оплачивается совсем – вообще никак. Есть страны более приличные.
– Действительно, я всегда ругаю государство, но когда-то я должен, в конце концов, сделать этому государству реверанс. Я его делаю сейчас. Конечно, ситуация с финансированием медицины в России на порядки, просто небесно лучше, чем в странах бывшего Советского Союза. Есть страны, где медицина не оплачивается совсем – вообще никак. Есть страны более приличные.
Есть такие страны как Украина, в которой до войны всё равно больные были вынуждены покупать лекарства сами. Есть, конечно, такой пример как Белоруссия, где диктатор Лукашенко сделал всё, чтобы сохранить лучшие черты советской медицины и помножить эти достижения на современные достижения западной медицины.
При всем том, что я государство ругаю, что оно делает, конечно, недостаточно, но ситуация в нашей стране гораздо лучше, чем в странах Содружества. И, более того, всё-таки хотя и туго, хотя и с огромными усилиями, мы эту ситуацию хоть как-то можем изменить. Я не говорю, что в корне и быстро, но можем.
А теперь к критике.
Что такое одноканальное финансирование? Это значит, что лечение любого пациента оплачивается из Фонда обязательного медицинского страхования и только оттуда. Это то, что тебе гарантировано по Конституции. Оплачивается по одному тарифу. Что это значит?
Есть некий тариф, допустим, пересадки костного мозга. И где бы эта пересадка ни происходила – здесь ли у нас в центре или, скажем, в Нижнем Новгороде, где тоже есть отделение трансплантации, стоить эта трансплантация будет абсолютно одинаково.
Но мало того, что эти тарифы взяты просто с потолка, мы считали, сколько стоит у нас трансплантация. Шесть с половиной миллионов рублей, а получаем мы за тариф на трансплантацию два миллиона триста рублей, и гуляйте, как говорится, ребята, и ни в чем себе не отказывайте.
А у нас, между прочим, только обработка трансплантата от неродственного донора, то есть самый начальный этап трансплантации, который кончается в «день ноль», то есть фактически, когда производится трансплантация, и когда впереди еще такая дорога к выздоровлению, это стоит миллионы рублей. Это, конечно, абсолютно глупая система, технократическая в самом таком отвратительном и бесчеловечном смысле этого термина, ставит нас в такие рамки.
– Как вообще тебе живется? Ты замдиректора по науке прекрасного центра, у тебя технократическое финансирование, у тебя страна ориентирована не на те ценности, которые ты считаешь главными. Как тебе живется?
– Я арендую подземный гараж, выезжаю из подземного гаража, и здесь у меня тоже место на стоянке в подземном гараже. Я выхожу из одной части своего мира и проникаю в другую часть своего же мира. И в этом мире мне живется очень хорошо.
 Но когда я вынужден взаимодействовать с внешним миром, конечно, мне становится не очень хорошо. Главным образом, потому, что я отвечаю за огромное количество людей, за молодых моих коллег, за ученых, за врачей, за исследователей, которым бы я хотел, чтобы так же жилось комфортно в профессиональном отношении, как и мне. И когда я сталкиваюсь с невозможностью создать им этот комфорт, конечно, мне начинает житься очень плохо. Я не говорю про бытовые трудности, которых у меня вовсе нет, и про политические трудности, которые у всех абсолютно одинаковые.
Но когда я вынужден взаимодействовать с внешним миром, конечно, мне становится не очень хорошо. Главным образом, потому, что я отвечаю за огромное количество людей, за молодых моих коллег, за ученых, за врачей, за исследователей, которым бы я хотел, чтобы так же жилось комфортно в профессиональном отношении, как и мне. И когда я сталкиваюсь с невозможностью создать им этот комфорт, конечно, мне начинает житься очень плохо. Я не говорю про бытовые трудности, которых у меня вовсе нет, и про политические трудности, которые у всех абсолютно одинаковые.
– Что ты делаешь? Кроме того, что ты живешь между гаражом и гаражом, у тебя есть еще какие-то способы относиться к событиям, происходящим за окнами, спокойно, с пониманием, с терпением, как-то адаптироваться?
– Я не адаптировался. Я свою информацию о внешней жизни черпаю, главным образом с сайта «Эхо Москвы», при прочтении газет Figaro, Le Monde. Как учит меня мой папа, надо быть глобальным пессимистом, а бытовым оптимистом. Вот, наверное, так я и живу, верю, что со мной, с моими близкими, с милыми мне людьми всё будет хорошо каким-то образом, пытаясь для этого сделать всё, что могу. А исторический пессимизм – это национальное.
Читайте также:
- Чулпан Хаматова: Когда темнеет в глазах, я знаю – это пройдет
- Онкогематолог Алексей Масчан: Бинтов сделать не могут, а импортные томографы запрещают