7 февраля 2012 г. — 200 лет со дня рождения Чарлза Диккенса
Диккенса я ощущаю как счастье своей жизни — не единственное, не главное, но такое, за которое время от времени благодаришь Бога. Без него моя жизнь и даже моя вера были бы скуднее и мельче, — а я бы так об этом и не узнала.
Того, кто ни холоден, ни горяч, Господь «извергает из уст своих». Вот уж не о нем! С начала журналистского и писательского пути и до финальной точки он клокочет, как вулкан, творческой энергией. Он горяч к любому человеку — или уж холоден до абсолютного нуля, до леденящего ужаса; он населяет свои очерки, а потом романы совершенно невероятным количеством персонажей, типов, лиц, — он неутолимо жаден до жизни, до людей , до самого этого творчества .
Воистину, Диккенс — это целая планета, а не одна «старая добрая Англия» (которая поворачивается у него и самой недоброй и ужасной стороной, и самой идиллической). Недаром он так заворожил Достоевского, что тот первую треть своих «Униженных и оскорбленных» чуть ли не буквально списал с «Лавки древностей» (прочитанный мною много после повести Достоевского, этот роман поразил меня тем, что вся его атмосфера уже знакома мне и прожита мною).
Во всех его произведениях присутствуют два типа людей, вызывающих у него непримиримую ненависть и язвительный сарказм: это религиозные ханжи (обычно — сектанты) и облеченные властью бездушные чиновники и крючкотворы; нередко эти типы сливаются в одном персонаже, а чаще — просто отлично ладят между собой. Именно их посредством вершится всё зло в романах Диккенса. О чиновниках, пожалуй, достаточно, а о ханжах приведу авторское пояснение из предисловия к «Пиквику»:
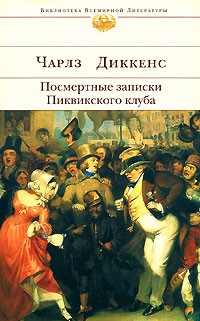 «Если найдутся такие благонамеренные люди, которые не замечают разницы между религией и ханжеством, между благочестием истинным и притворным, между смиренным почитанием великих истин Писания и оскорбительным внедрением буквы Писания — но не духа его — в самые банальные разногласия и в самые пошлые житейские дела, — пусть эти люди уразумеют, что в настоящей книге сатира направлена всегда против последнего явления и никогда против первого. Далее: в этой книге последнее явление изображено в сатирическом виде, как несовместимое с первым (что подтверждает опыт), не поддающееся слиянию с ним, как самая губительная и зловредная ложь, хорошо знакомая в человеческом обществе… Пожалуй, лишнее продолжать рассуждения на эту тему, столь самоочевидную, но всегда уместно протестовать против грубой фамильярности со священными понятиями, о которых глаголят уста и молчит сердце, или против смешения христиан с любой категорией людей, которые, по словам Свифта, религиозны ровно настолько, чтобы ненавидеть, и недостаточно для того, чтобы любить друг друга»
«Если найдутся такие благонамеренные люди, которые не замечают разницы между религией и ханжеством, между благочестием истинным и притворным, между смиренным почитанием великих истин Писания и оскорбительным внедрением буквы Писания — но не духа его — в самые банальные разногласия и в самые пошлые житейские дела, — пусть эти люди уразумеют, что в настоящей книге сатира направлена всегда против последнего явления и никогда против первого. Далее: в этой книге последнее явление изображено в сатирическом виде, как несовместимое с первым (что подтверждает опыт), не поддающееся слиянию с ним, как самая губительная и зловредная ложь, хорошо знакомая в человеческом обществе… Пожалуй, лишнее продолжать рассуждения на эту тему, столь самоочевидную, но всегда уместно протестовать против грубой фамильярности со священными понятиями, о которых глаголят уста и молчит сердце, или против смешения христиан с любой категорией людей, которые, по словам Свифта, религиозны ровно настолько, чтобы ненавидеть, и недостаточно для того, чтобы любить друг друга»
Но не о них, не о них сегодня, в день памяти великого писателя. А о тех, кого он любил больше всех, о тех, кто есть в каждом — кажется, без исключений — значительном произведении Диккенса: о тех, кто «безумен для мира сего».
Мне кажется, именно эти персонажи особенно выделяют Диккенса из общего строя английской и протестантской литературы. Я не припомню другого западноевропейского писателя, который с таким постоянством и дерзновением изображал бы идеал человека в тех, кто не вписывается в рамки мира, вплоть до тех, кого даже любящий читатель сперва готов назвать дураками и безумцами.
«Посмертные записки Пиквикского клуба», которыми он по-настоящему прославился, начинались, судя по всему, как карикатура — и едва ли не чем-то вроде нашего Козьмы Пруткова задумывался поначалу мистер Пиквик. В отрочестве я так и не смогла продраться через первые главы романа — это сборище идиотов меня просто шокировало. Но «Пиквик», как и предшествовавшие ему карикатурно-нравоописательные «Очерки Боза», сочинялся и выходил выпусками, и герои романа, подобно пушкинской Татьяне (ведь «Онегин» тоже создавался выпусками!), «удрали штуку» с автором. Эта странная компания — «ученейший муж» с «гигантским мозгом», автор Теории Колюшки, и его друзья — вечный воздыхатель-теоретик Тапмен, поэт без единого стихотворения Снодграсс, спортсмен Уинкль, не владеющий ни одним видом спорта, — эти чудаки с начала до конца романа попадают в дурацкие положения, нелепы, несообразны, смешны. Комизм, как известно, основывается на законе несоответствия; мы смеемся над их несоответствием миру, и вдруг оказывается, что смех нас обличает не «пиквикистов», а мир, в который они не вписываются.
Чудаками они остаются до последних глав этого живого и растрепанного романа, но уже к середине мистер Пиквик является нам идеальным героем. Сэм Уэллер (конечно же, достойный отдельного очерка) заявляет: «Я никогда не слыхал, заметьте это, и в книжках не читал и на картинках не видал ни одного ангела в коротких штанах и гетрах — и, насколько я помню, ни одного в очках, хотя, может быть, такие и бывают, — но заметьте мои слова: несмотря на все это, он — чистокровный ангел, и пусть кто-нибудь посмеет мне сказать, что знает другого такого ангела!». А ведь не будь мистер Пиквик законченным до полной округлости чудаком — никакого ангела из него не получилось бы… Но и друзья его, над нелепостью которых мы потешались на первых страницах, не теряя этих сразу резко очерченных автором свойств, вскоре становятся милы и симпатичны нам. Все они — не от мира сего, и это мы в них любим, — и как мир проигрывает рядом с ними, нелепыми и чудаковатыми!
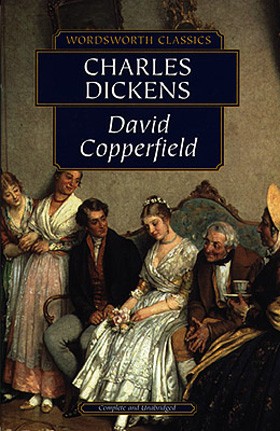 Ну хорошо, чудаки, чудаки… Все-таки чудаков в английской и мировой литературе хватает, и ничего тут такого исключительного нет. Но вот в «Дэвиде Копперфильде» появляется мистер Дик, вернейший друг бабушки героя. Он не чудак, он слабоумный и душевнобольной, которого Бабушка спасла от сумасшедшего дома … Но невозможно, выговорив эти слова — « слабоумный и душевнобольной» — не прибавить что-то вроде «с общепринят ой точки зрения», хотя чего уж там оговориваться: сам мистер Дик признает свое слабоумие, заботы из отрубленной головы короля Карла Первого раздирают его бедную голову , а листки бесконечного Мемориала, который мистер Дик не допишет никогда, в виде воздушного змея летят ввысь, куда-то туда, где это путаное повествование только и может быть прочитано и понято.. . А права оказывается все-таки Бабушка, которая постоянно твердит: «Никто не знает, кроме меня, какой ум у этого человека!». У мистера Дика абсолютно зоркое сердце, — чистое сердце Заповеди Блаженства. Поэтому он становится другом ученейшего доктора Стронга, который тоже «не от мира сего» и тоже чист сердцем; мудрая ученость и абсолютная, клиническая простота сходятся:
Ну хорошо, чудаки, чудаки… Все-таки чудаков в английской и мировой литературе хватает, и ничего тут такого исключительного нет. Но вот в «Дэвиде Копперфильде» появляется мистер Дик, вернейший друг бабушки героя. Он не чудак, он слабоумный и душевнобольной, которого Бабушка спасла от сумасшедшего дома … Но невозможно, выговорив эти слова — « слабоумный и душевнобольной» — не прибавить что-то вроде «с общепринят ой точки зрения», хотя чего уж там оговориваться: сам мистер Дик признает свое слабоумие, заботы из отрубленной головы короля Карла Первого раздирают его бедную голову , а листки бесконечного Мемориала, который мистер Дик не допишет никогда, в виде воздушного змея летят ввысь, куда-то туда, где это путаное повествование только и может быть прочитано и понято.. . А права оказывается все-таки Бабушка, которая постоянно твердит: «Никто не знает, кроме меня, какой ум у этого человека!». У мистера Дика абсолютно зоркое сердце, — чистое сердце Заповеди Блаженства. Поэтому он становится другом ученейшего доктора Стронга, который тоже «не от мира сего» и тоже чист сердцем; мудрая ученость и абсолютная, клиническая простота сходятся:
«Когда я думаю о них, прогуливающихся взад и вперед под окнами классной комнаты. — о докторе, о том, как время от времени он помахивает листами рукописи, сопровождая чтение любезной улыбкой или важным покачиваньем головы, и о мистере Дике, который внимает чтению как зачарованный, тогда как его бедный разум витает на крыльях непонятных слов Бог весть где, — когда я думаю о них, это зрелище представляется мне одним из самых умилительных, которые я когда-либо наблюдал. Мне кажется, что, если бы они могли вечно прогуливаться взад и вперед, мир стал бы лучше и что тысячи вещей, о которых так много шумят, приносят меньше пользы и миру и мне, чем эти прогулки мистера Дика и доктора».
И когда силы зла обступили семью доктора Стронга и добрые, хорошие, умные герои бессильны что-либо сделать — спасение приходит от мистера Дика:
«Бедняга-сумасшедший, сэр! — воскликнул мистер Дик. — Дурак! Слабоумный! Это я о себе говорю, вы знаете! — еще один удар в грудь. — И он может сделать то, чего не могут сделать замечательные люди. Я их помирю, мой мальчик, постараюсь все уладить !»
И помирил. И уладил. И разом разорвались кошмарные путы подозрений, лжи, клеветы, и просияло лицо Любви…
…В протестантском мире больше нашего читают и знают Библию, и в том числе, конечно, слова апостола Павла: « Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом …» (1 Кор. 3, 18–19), — да и другие слова его о безумии Христа ради, о юродстве проповеди, о том, что « Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное » (1 Кор. 1, 27). А вот вместить это в бытовом, человеческом и художественном плане западная культура в целом не умела. У Диккенса же этот мотив— сквозной, постоянный. С фантастическим богатством и разнообразием он находит все новые и новые вариации этой темы и дает образы «чистых сердцем», которых не вмещает мир.
 Начав с чудаков, продолжив «слабоумным и сумасшедшим», я закончу простаком, простодушным, одним из любимых моих диккенсовских героев — Джо из «Больших надежд» (самого, быть может, совершенного его романа — как «Дэвид Копперфильд» самый задушевный, любимое дитя автора). Он крайне симпатичен с самого начала, и с самого начала его чистое простодушие пленяет. Но весь путь этого романа воспитания мы проходим вслед за героем, Пипом, а тот смотрит на Джо любящими, но все более критическими глазами, и на определенном этапе критическое отношение почти перевешивает… Но этим, конечно, для читателя обличается сам Пип, а в Джо все яснее проявляется не только сердечная чистота но и подлинное здравомыслие, и мудрость, а к финалу романа, когда разбиты все большие надежды Пипа, а Джо буквально вынянчивает его из тяжкой болезни и потрясения — подлинное величие .
Начав с чудаков, продолжив «слабоумным и сумасшедшим», я закончу простаком, простодушным, одним из любимых моих диккенсовских героев — Джо из «Больших надежд» (самого, быть может, совершенного его романа — как «Дэвид Копперфильд» самый задушевный, любимое дитя автора). Он крайне симпатичен с самого начала, и с самого начала его чистое простодушие пленяет. Но весь путь этого романа воспитания мы проходим вслед за героем, Пипом, а тот смотрит на Джо любящими, но все более критическими глазами, и на определенном этапе критическое отношение почти перевешивает… Но этим, конечно, для читателя обличается сам Пип, а в Джо все яснее проявляется не только сердечная чистота но и подлинное здравомыслие, и мудрость, а к финалу романа, когда разбиты все большие надежды Пипа, а Джо буквально вынянчивает его из тяжкой болезни и потрясения — подлинное величие .
Величие тех, кто не вписывается в законы мира сего,— чистых сердцем, которые Бога узрят, кротких , которые наследуют землю, — чувствовал, чтил и умел передать Диккенс. В сущности, ангел — вестник Божией любви и Божией правды — в нашей жизни может явиться именно что «в коротких штанах, гетрах и в очках», как Пиквик, или дурачком с воздушными змеем, как мистер Дик, — а не в благолепном обличии правильности и уж тем более не с крыльями и в сиянии. Во всей западноевропейской литературе этого никто не умел так почувствовать и передать, как Диккенс.
А есть и еще огромное количество областей, в которых он первенствует среди западноевропейских классиков. Отношение к «униженным и оскорбленным», ужасы нищеты, благотворительность подлинная и мнимая, религиозное ханжество, моральное лицемерие и буржуазное фарисейство… Эти и другие проблемы, стоящие перед совестью человека, а значит, и перед его верой, не устарели, и Диккенс дает нам множество ответов на вопросы, важные для нашей души сейчас, сегодня.
Читайте также:
Рождественская история Земекиса: Время, деньги и Рождество


