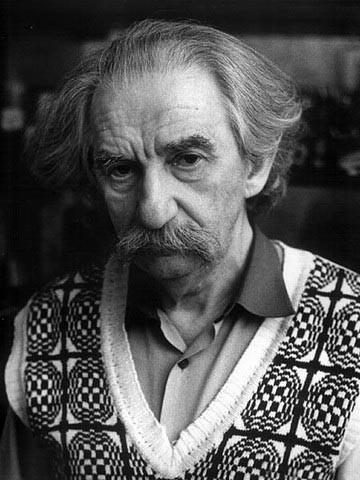С поэтом, лингвистом и богословом Ольгой Седаковой беседует Анна Гальперина
Воспоминание о рае
— Ольга Александровна, каким было самое яркое детское впечатление?
— Я плохой рассказчик. Плохой в этом жанре – рассказывать о себе и по порядку. Я предпочитаю другие сюжеты и другую ситуацию: невольно приходящий на ум сюжет. Вот это я люблю рассказывать – и это у меня получается! Даже Татьяна Толстая отметила этот мой «дар рассказчика». Похвала прозаика льстит. А «немного о себе» — нет, не выйдет.
Тем более, что о детстве я писала и, конечно, лучше, чем могла бы теперь повторить. Я имею в виду прозу «Похвала поэзии». Она начинается с воспоминаний о самом раннем детстве, о дословесном опыте, о первых встречах реальности с языком.
О младенчестве: ведь младенец, infans по-латыни – это «не говорящий». Насколько я знаю, почти неописанная в литературе эпоха жизни. Только Лев Толстой помнил себя младенцем, которого купают. Но о первых встречах со словом он ничего не рассказывает. Раннее детство меня и интересует больше всего. Это другой мир, в который еще не вошла социализация и не разложила все по своим полочкам. По психоаналитическим, например. В сознании современника (я имею в виду европейского современника) с детством фатально связаны темы травмы, комплексов, подавления. Это уже готовые рамки для рассказа – даже рассказа себе самому. Мне такой дискурс не просто не нравится, но не кажется реалистичным.
Первое, что с нами происходит еще до всякой травмы – это захваченность реальностью, богатой, значительной, чудесной. Любая попадающаяся на глаза вещица видится сокровищем. Я до сих пор люблю эти сокровища. Но говорить о них уместнее в стихах или прозе прустовского типа, а не в «рассказе о себе». Странно, как многие люди остались без этого воспоминания о рае. Я уверена, что это опыт каждого ребенка. Что вытесняет его?
Если говорить конкретно, я родилась в Москве, на Таганке, на улице, которой теперь возвращено имя Николо-Ямской. В моем детстве она называлась Ульяновской.
Больше всего времени мы проводили с няней Марусей, крестьянкой из Орловской области, и с бабушкой. У многих моих ровесников были такие няни, девушки и женщины, сбежавшие из голодных колхозов и поступившие в домработницы – что обещало московскую прописку через сколько-то лет. Иногда они становились как бы членами семьи – помните, рассказ Лилианы Лунгиной о Моте, няне ее сыновей? Такие няни много значили в жизни московских «интеллигентских» детей. Они приносили нам совсем другой мир, другой язык.
Маруся говорила на южном, орловском диалекте. Моя бабушка, мать отца – на северном, владимирском. Их речь меня увлекала больше, чем «обычный» язык родителей. Родители уходили на работу, поздно возвращались и только в выходные дни мы могли побыть вместе. Но мне и это помнится так, будто они всегда были заняты. Для серьезных разговоров были няня и бабушка. Они со мной не скучали и не «воспитывали». О Марусе я писала (рассказ «Маруся Смагина»), о бабушке тоже. В упомянутой прозе я говорю и том образе молитвы (о двух разных образах), который я увидела в их лице: как молилась Маруся и как бабушка.
К бабушке и тете я временами уезжала гостить, и надолго. Они жили в деревянном доме в Перовом Поле, которое тогда еще не входило в Москву. Это была пригородная деревня. И этот мир мне нравился несравненно больше, чем московская квартира. Я не городской житель по душе.
А летом мы переезжали на дачу в Валентиновку.
Наш участок был на углу улицы Гоголя и улицы Пушкина. Улица Гоголя была значительно длиннее, и потому в детстве я думала, что Гоголь важнее Пушкина.
Младшая сестра Ирина родилась, когда мне было пять лет. Теперь она известный славист, доктор наук.
Об именах, кстати. Называли меня не по святцам. Отец очень любил Татьяну Ларину и хотел, чтобы его первая дочь была на нее похожа. Но придя регистрировать младенца (меня), родители увидели, что все девочки перед ними записываются Татьянами. Далеко от «Онегина», видно, было не уйти, и потому я стала Ольгой. Дальше пришлось отсчитывать от другого классического сочинения – «Трех сестер». Родители решили, что среднюю, Машу, можно пропустить. Так получилась Ирина.
Ни с пушкинской, ни с чеховской Ольгой я не нахожу в себе никакого сходства.
Когда мне было шесть лет, мы уехали в Китай: отец работал там военным советником. Полтора года мы жили в Пекине, в замкнутом городке для советских. На время нашей жизни в Пекине приходится перелом в отношениях Китая и СССР. В 1956 году поезд из Москвы выходил под песню «Москва – Пекин! Москва – Пекин! Идут-идут вперед народы!» Уезжали мы в конце 1957 года из другой атмосферы. Это было заметно даже ребенку. В Пекине я и пошла в первый класс, в русскую школу.
Уже в нынешнем веке на фестивале поэзии в Кельне мы встретились с китайским поэтом, который эмигрировал из Китая и писал по-английски. Выяснилось, что он был одним из тех пекинских детей, с которыми мы перекидывались подарками через каменную стену, которая окружала Седжиминь, наш городок. Мы сидели в кельнском кафе, и я сказала: «Посмотрите, какие они (кельнцы) беззаботные! Они не знают, от чего они спасены! Что было бы с ними, если бы мы с вами тогда не рассорились!» И мы взялись воображать, как для них стал бы обязательным в школе русский и китайский, и они бы учили наизусть наши стихи…
— Нет, — трезво сказал мой собеседник. – Они бы учили другого китайского и другого русского поэта.
— Теперь в Пекине и в Китае все по-другому? – спросила я.
— Да, — ответил мне китайский поэт, не желающий возвращаться в родную Поднебесную. – Все по-другому. Только люди те же.
Он шутил, как англичане.
Встретила я и другого мальчика из моего китайского детства – в Риме, в русской церкви на улице Палестро. Он стал православным священником, а был, когда мы жили в Седжимине, сыном военного инженера из Питера. Наши общие китайские воспоминания с о. Георгием (теперь он служит во Флоренции) еще интереснее, но это отдельный рассказ.
Я рано, года в четыре, научилась читать – сама. Каким-то образом я разобрала на буквы название холодильника ГАЗОАППАРАТ.
 И вскоре удивляла взрослых, читая все вывески. На одной букве я, впрочем, всегда спотыкалась: на Ч. И до Китая, и особенно в Китае я утонула в чтении. Как это бывает в детстве, книжный мир и мир окружающий перепутывались, и мне казалось, что я живу в «Детстве» Льва Толстого и чувства Николеньки – мои чувства. И что кроме Маруси у меня есть и Карл Иванович. И что моя мама играет на фортепьяно, как мама Николеньки (ничего похожего!).
И вскоре удивляла взрослых, читая все вывески. На одной букве я, впрочем, всегда спотыкалась: на Ч. И до Китая, и особенно в Китае я утонула в чтении. Как это бывает в детстве, книжный мир и мир окружающий перепутывались, и мне казалось, что я живу в «Детстве» Льва Толстого и чувства Николеньки – мои чувства. И что кроме Маруси у меня есть и Карл Иванович. И что моя мама играет на фортепьяно, как мама Николеньки (ничего похожего!).
Я тебя не для тебя ращу, а для людей
Мы вернулись в Москву, на Таганку, и я пошла в московскую школу. После пекинской обстановка в классе мне показалась каким-то базаром: в пекинской школе дисциплина была, как в монастыре. Меня там поставили в угол за то, что я без спроса потрогала белую занавеску на окне рядом с моей партой. Признаюсь: я люблю строгость — какой-то мазохистской любовью. От вида разболтанности мне физически плохо. Видимо, Пекин повлиял.
Впрочем, отец строго меня воспитывал, и я ему благодарна за это. Иногда я бунтовала: «Почему другим можно, а мне нельзя?» Он отвечал: «А ты во всем хочешь быть, как другие, или только в этом (например, в передаче сплетен)?» Оставалось согласиться. Очень во многом я не хотела быть, «как другие». Или он говорил так: «Это не в твоем стиле!» У меня не было никакого стиля, да и теперь нет, наверное, — но аргумент действовал. Однажды он мне открыл свой воспитательский принцип (в ответ на очередной ропот): «Я тебя не для тебя ращу, а для людей. Чтобы им с тобой было хорошо». Он не был верующим человеком, но боюсь, немногие верующие и церковные люди относятся к собственным детям, исходя из этого принципа.
Потом началась «большая Москва», хрущевские микрорайоны. Из доходного дома начала века мы переехали на Хорошевку, из старой Москвы – в какой-то отвлеченный ландшафт без примет и без истории … Такие же безродные кварталы коробок построили на месте моего любимого Перова Поля.
Но повторю, то, что называют биографией, — ответы на ряд общеобязательных вопросов: семья, место рождения и т.п. – не так важно для душевной жизни, как какой-то случайный момент, случайный взгляд … Здесь может решаться все.
История впечатлений
— Может быть тогда Вы расскажете свою историю впечатлений?
— Но это еще труднее! Об этом нужно думать наедине.
Я с восхищением читаю автобиографические заметки Михаила Матюшина[1]: он отмечает в своем детстве те самые «уколы», «шоки», из которых потом вырастает душа художника: например, разбитый кувшин на помойке, который навсегда очаровал его благородством античной формы… Так было и со мной. И «шоки античного» так же поражали меня. И многое другое. Но в форме интервью этого не расскажешь.
Если же говорить о христианских впечатлениях… Моя бабушка была действительно верующим человеком – глубоко, тихо верующим. Со своими детьми — советскими людьми и атеистами – она ни в какие споры не вступала.
Меня просто увлекал ее мир, я к ней тянулась. Она научила меня читать по-церковнославянски уже в детстве, и без этого я вряд ли могла бы взяться за словарь «Церковнославянскорусские паронимы», потому что ранняя память моя была полна этих странных, чудесных слов и фраз: «иже не иде…» Я помнила их, не вникая в смысл. Полупонятность их мне особенно нравилась. Бабушка просила меня читать ей вслух Псалтырь и акафисты, и эти слова запали в ум. Потом, во взрослом возрасте я стала задумываться об их смысле. Но уже было над чем подумать. «Непостоянно величие славы Твоея». Что же такое «непостоянно»?
Как у нас проходили русский язык!
— Ну, а школа была травмой?
— Школа в целом была тяжелой скукой, где для меня было очень мало интересного. Все интересное я узнавала не в школе. Из книг больше всего. Но в школе у меня были друзья, и это скрашивало тоску неинтересных уроков. С моей самой старинной подругой мы познакомились в четвертом классе. Она закончила архитектурный и занимается дизайном. Все школьные годы мы ходили с ней по выставкам, музеям. Она научила меня видеть пластику.
Может быть, сам состав школьной программы был и неплохой, но… Особенно русский язык и литература, их можно было возненавидеть. Русский язык! Не могу до сих пор успокоиться! Как у нас проходили русский язык! Это бесконечное переписывание грамматических упражнений Н и НН… А ведь можно изучать историю языка, говорить о его родстве с другими, о его диалектах, разбирать этимологии слов, говорить об истории литературного языка, его отношениях с церковнославянским, о стилистике – обо всем этом вообще не заходит речь на школьных уроках…
В Италии я видела школьные учебники итальянского языка – вот они построены совсем по-другому! Тот, кто учил родной язык там, имеет о нем замечательное представление, такое, какое и должно быть у культурного человека. В итальянском курсе итальянского изложено, в общем-то, все, о чем я сказала. И еще – навыки анализа языковой логики.
Думаю, что и другие предметы можно излагать совсем иначе. В дальнейшем я читала – иногда запоем — книги по новой физике, по биологии, даже по химии… В школе эти предметы меня томили. Почему ничего интересного, такого, что в самом деле занимает ум любого человека, не только физика или биолога, школьнику у нас не сообщают?
Кроме того, все гуманитарные предметы были отравлены идеологией. Например, у людей, которые изучали историю в советской школе, осталось о ней пустое или просто превратное представление. Концепция была простая: все на свете, начиная с Египта, готовило нашу великую революцию, и про каждую эпоху надо было знать, что «пауперизация масс росла и классовая борьба обострялась».
Разница между мной и моими европейскими друзьями – я не раз в этом убеждалась — в том, что историю они знают гораздо лучше меня. И тверже, и осмысленнее. Если, например, в Англии изучают викторианское время, то детей везут в типично викторианский дом, показывают, объясняют, как жили. В Англии я видела, как в музее девочки и мальчики «вживались в эпоху»: девочки пряли, а мальчики что-то еще делали, чтобы руками почувствовать, каким он был, XVI, скажем, век. А наши курсы истории, и отечественной, и мировой, были просто промыванием мозгов, все это хотелось сдать и забыть навеки. Так же, как собирание электрических цепей на уроках физики.
А это мы напечатаем после твоей смерти
— Стихи я сочиняла с детства, и лет с 10 ходила в литературную студию.
— А родители вас поддерживали?
— Да, но, слава Богу, никакого самолюбия на этот счет у них не было. Не было такого, что вот, мол, у нас растет гениальная девочка. Даже до последних лет им это было довольно безразлично. И я полагаю, это хорошо, это счастье! Я видела, как дети, на которых родители возлагают большие надежды, деформируются под таким гнетом. При этом, поняв, что мне хочется сочинять и что я постоянно этим занята, мама отвезла меня в студию во дворце пионеров на Ленинских горах. Я ее посещала лет пять. Там было много смешного… Об этом я тоже писала в «Путешествии в Брянск». И в то время мои стишки даже печатали — в «Пионерской» и «Комсомольской правдах», давали премии. Все как будто шло к нормальной карьере советского писателя, и можно было поступать в литинститут. Но у меня хватило ума туда не идти (прошу прощения у тех, кто там учился).
— Почему вы решили туда не поступать?
— Потому что мне хотелось учиться … Я чувствовала собственное невежество.
— А в литинституте не учатся?
— Естественно, я не очень-то представляла ситуацию изнутри, но почему-то я предполагала, что если там учат быть писателем, то вряд ли для этого требуются какие-то фундаментальные знания. Мне хотелось учиться всерьез «и в просвещении быть с веком наравне». Мне всегда были интересны языки – и древние, и новые, и история русского языка. Так и стало: моя филологическая специальность – история русского языка.
Впрочем, мои художественные расхождения с руководящим идейным курсом начались раньше. Уже в старших классах школы, когда я стала писать не дежурные стихи, не такие, как нас учили в литературной студии — печатать эти стихи становилось все труднее и, наконец, совсем невозможно. Когда в 17 лет я принесла очередную стопку стихов в «Комсомольскую правду» (там был такой поэтический раздел «Алый парус»), человек, который прежде охотно все брал в печать, сказал: «А это мы напечатаем после твоей смерти». Вообразите: в 17 лет такое услышать! Естественно, это были нисколько не «протестные» или политические сочинения. Просто – все не то. Идеализм, формализм, пессимизм, субъективизм … что еще? Неоправданная усложненность. Так что довольно рано стало понятно, что путь в литературу для меня закрыт, да я туда не очень и стремилась.
— То есть вы не были амбициозны…
— Я, наверное, была очень амбициозна. Настолько, что мне было неважно – печатают меня или нет. Мои амбиции заключались в том, чтобы написать «шедевр», а что с ним дальше будет – это уже другой вопрос.
— А как вы определяли – шедевр получился или нет?
— По собственным ощущениям, прежде всего. Мне кажется, каждый автор знает, что у него получилось. Существует ли то, что он написал, на самом деле, в каком-то бессмертном пространстве – или это еще одна вещь с конвейера «литературы». Слово «шедевр» я употребляю, конечно, условно.
Другая жизнь
Я всерьез училась на филологическом факультете, на русском отделении, выбрав специализацию «язык», а не «литература». В лингвистику к этому времени идеология не вмешивалась.
 Время в МГУ было чудное, самый конец 60-ых – начало 70-ых. Можно было услышать лекции Аверинцева, Пятигорского, Мамардашвили (все это были факультативы). Мы ходили на курс О.С.Поповой по византийскому искусству на Истории искусств. Я занималась в семинаре гениального фонетиста М.В.Панова, а потом, когда его выгнали (началась чистка диссидентских настроений после Пражских событий), в семинаре по славянским древностям у Н.И.Толстого.
Время в МГУ было чудное, самый конец 60-ых – начало 70-ых. Можно было услышать лекции Аверинцева, Пятигорского, Мамардашвили (все это были факультативы). Мы ходили на курс О.С.Поповой по византийскому искусству на Истории искусств. Я занималась в семинаре гениального фонетиста М.В.Панова, а потом, когда его выгнали (началась чистка диссидентских настроений после Пражских событий), в семинаре по славянским древностям у Н.И.Толстого.
Аверинцев вел «секретный» семинар по библейским книгам в Горьковской библиотеке. От того смыслового простора, который все это открывало, захватывало дух. Мы зачитывались тартускими публикациями, обожали Ю.М.Лотмана, говорили на структуралистском жаргоне.
Еще студенткой я побывала на конференции в Тарту — с докладом про структуру погребального обряда славян. Общество филологов, культурологов, философов, музыкантов мне было интереснее, чем писательский мир. Он был мне чужим – и в его официозном, и в его богемном, ЦДЛ-ловском варианте. После Аверинцева! Рядом с Лотманом!
Конечно, на филфаке был доступен весь самиздат, так что уже на первом курсе я читала Бродского – раннего Бродского. Самиздатским оставался весь Мандельштам после «Камня», ахматовский «Реквием», «Доктор Живаго», большая часть сочинений Цветаевой. Но мы все это уже знали и любили.
Где-то в 70-е стала складываться «вторая культура», иначе «догутенберговская словесность». Неподцензурная литература. С ней у меня установились связи, особенно с питерскими кругами.
У нас были общие ориентиры, мы читали, смотрели и слушали одно – и, соответственно, не читали, не смотрели, не слушали тоже одно. Никто из нас, например, не смотрел телевизор и огромная часть советской культуры прошла мимо нас (или мы мимо нее). Но об этом круге, о Викторе Кривулине, Елене Шварц, Сергее Стратановском в Питере, Александре Величанском в Москве я писала. О Венедикте Ерофееве, который вел совсем особую, не литераторскую жизнь и с которыми мы общались долгие годы, я тоже писала не раз. Мои друзья – поэты, художники, музыканты — к реальной политике относились довольно равнодушно. Они занимались своими делами. «Уже год торчу на Леонардо», как сообщал Кривулин.
И в каком-то смысле это была интересная историческая возможность — жить за пределами цензуры, за пределами публикаций. Но эта жизнь была для многих невыносима, и они кончали с собой — прямо, как Сергей Морозов (его книжка до сих пор не выходила; сейчас ее составил Борис Дубин) или косвенно, губя себя запоями, как Леонид Губанов. Трудно смириться с тем, что решено, что тебя нет. Что ты ни делай, что ни пиши – тебя нет, и даже имя твое публично поминать нельзя. Об этом я рассуждаю в «Путешествии в Брянск».
Последней попыткой выяснить отношения власти со свободным поэтом был процесс Бродского. С теми, кто был младше, уже обходились без процессов – их просто не упоминали. Это, как оказалось, более эффективный метод доконать поэта. Многие этого не выдерживали.
Конечно, жизнь в «андеграунде» долго не может продолжаться. Нужна открытость, нужен свежий воздух.
И подпольные судьбы черны, как подземные реки… (В.Кривулин).
То, что я говорю, многие шепчут, другие думают…
— Вы попали в этот круг в студенческие годы?
— Даже в старших классах школы. Трудно проследить, как люди знакомились. Это был совершенно стихийный процесс, также как и самиздат, который никем ведь не был организован.
И когда меня как-то вызвали на Лубянку и расспрашивали, каким образом работает самиздат, я им честно сказала, что не знаю. Да и никто не знал. Но благодаря самиздату, можно было понять действительный вкус читателей: то, что не нравилось, никто не стал бы перепечатывать, размножать – еще и с некоторым риском для себя.
Самиздат — это, собственно, практическое выражение читательской любви. Не автор, а читатель берет на себя роль издателя. И когда ко мне приезжали читатели моих стихов в самиздатских списках – а к концу 70-ых их было уже много – меня это всегда поражало.
Вот представьте, работает огромная машина: пресса, цензура, телевидение – и вдруг откуда-нибудь, с Дальнего Востока, появляется читатель с моей перепечатанной книжкой! Иногда еще художественно переплетенной и иллюстрированной. Я была уверена, что именно в этом сила искусства: с ним не справишься, потому что справляться нужно с его читателем. Как писал Данте: «То, что я говорю, многие шепчут, другие думают и т.д.».
90-ые
— Но сейчас ведь такого «запроса» нет? Почему?
— Не знаю. Пусть кто-нибудь попробует написать то, чего в самом деле, в самой глубине люди ждут – тогда увидим, не заработает ли старая голубиная почта самиздата.
— Не получилось ли так, что с началом перестройки хорошей литературой заведомо стали называть то, что когда-то было запрещено?
— Дело в том, что настоящие, хорошие вещи, которые создавались в 70-ые, так и не вышли на поверхность: произошла какая-то перетасовка, появились новые авторы, совсем не те, которые были запрещены. Или из запрещенных – их «низовые» пласты: соцарт, разные пародийные движения. А серьезных вещей так до сих пор не знают.
— Кто так и не вышел? Кого не знают?
— Общие знания о неподцензурной поэзии, по-моему, кончаются на Бродском. Его все знают, последующие поколения знают гораздо больше в других странах, чем у нас. Я лично читала два раза курс «Русская поэзия после Бродского» в университете Висконсина и в Стэнфорде.
И у меня не было впечатления, что я говорю с людьми, у которых нет никаких знаний и представлений об этом. Мы не начинали с чистого листа. Преподаватели и студенты что-то уже знали, многие авторы у них даже входили в программу курса русской литературы, о них пишут дипломы, диссертации. Вот некоторые имена.
Только что, например, вышел большой двухтомник Александра Величанского. Разве о нем говорили в 90-ые годы? В Ленинграде год назад умерла Елена Шварц.
>>>Памяти поэтессы Елены Шварц
Она – редкий, великий поэт. Представляет ли это читатель, которого называют «широким»?
В моем курсе было двенадцать авторов, каждому посвящалась отдельная лекция, начиная с Леонида Аронзона, ровесника Бродского. Все это поэты очень серьезные, но здесь что-то случилось, произошел какой-то сбой, и литературное пространство наполнилось совершенно другими именами, другими интересами, другими сочинениями.
— Но где эта точка? Почему произошел этот сбой?
— Не возьмусь сказать. Скучно разбираться. Но к какому-то моменту «современным» и «актуальным» было решено считать нечто очень определенное. По сути, никакой регуляции здесь не было.
— А она может вообще существовать – эта регуляция?
— Упаси Боже, должна быть свобода возможностей, как это было в самиздате: читатели сами читают и выбирают, что им нравится. И конечно, сама «вторая культура» кончилась с эпохой либерализации, Все вроде стало разрешено и люди разъехались, рассыпались. Но победила отнюдь не запрещенная литература. Победили, это как ни странно, низы советской культуры, соцреализм второго сорта.
— Но это же не отменяет существование другой культуры и музыки. И не получается ли так, что сейчас она снова в каком-то подполье?
— Да, она все эти годы существует не в подполье, а в тени. С большим шумом проходят ничего не стоящие вещи, а серьезные остаются – почти как в советское время — незамеченными. Но, насколько я чувствую, воздух страны меняется, появляется другой запрос.
Self-made учителя
— А кто на Вас больше всех повлиял?
— Да, их очень, очень много. В этом отношении мой случай довольно необычный: многие мои знакомые характеризуют себя как self-made men (или women), как люди, сделавшие себя сами. А со мной все было прямо противоположным образом: у меня учителя появились со школьных лет, лучшие учителя, каких только можно представить! Я всегда себя чувствовала человеком, выработанным многими руками, начиная с первого моего учителя фортепиано Михаила Григорьевича Ерохина. И хотя он понимал, что я не буду пианисткой, он посвящал меня в самую глубину искусства – любимого искусства, а не ремесла — давал читать какие-то книги, и задавал такие, например, задания – чтобы сыграть данную пьесу, пойти в музей Пушкина или в Третьяковку и посмотреть такую-то картину. Сам он учился в консерваторской школе для одаренных детей, где преподавал Г. Нейгауз.
Видимо, их прекрасно учили. Нейгауз заботился о том, чтобы из этих молодых пианистов делать не победителей международных конкурсов, а музыкантов в серьезном смысле. Они прекрасно знали поэзию и живопись. Я думаю, в поэзии он научил меня больше, чем в пресловутой литературной студии. Я поняла, что такое композиция. Это он впервые прочел мне Рильке, переводя с немецкого. И Рильке стал главным поэтом моей юности. Чтобы прочесть его в оригинале, я стала учить немецкий. А чтобы прочесть Данте – итальянский.
Потом уже, в университете, у меня были изумительные профессора – Никита Ильич Толстой, у которого мы занимались славянскими древностями: и языческой архаикой, и церковной славянской традицией.
Это была школа. Никита Ильич, правнук Льва Николаевича Толстого, родился и вырос в эмиграции и вернулся в Москву, закончив гимназию в Белграде. В нем мы жадно вглядывались в другой мир – мир той России, которой больше нет. Он был строгий позитивист в науке, а в быту любил эксцентрику. Представьте себе: Закон Божий ему преподавал о.Георгий Флоровский!
Был Михаил Викторович Панов – фонетист, действительно великий ученый. У него было совсем другое направление, он – духовное дитя классического авангарда, обожал Хлебникова и эксперименты 1910-20-ых годов, сам любил языковую игру. На его семинаре лингвопоэтики мы занимались отношениями живописной и поэтической формы. О нем у меня тоже есть проза – «Наши учителя. К истории русской свободы».
Аверинцев
Но важнейшим для меня учителем стал Сергей Аверинцев. И тот же припев: и о нем я писала, и немало, и повторять сказанное мне не хочется. И, конечно, роль Сергея Сергеевича как христианского проповедника – невероятна, его воздействие на наше тогдашнее просвещенное общество огромно.
— То есть он читал свои лекции и одновременно проповедовал?
— Вы представляете, что в 70-е можно было читать проповеди с кафедры? Люди крестик боялись носить. Его лекции и были проповедью, совсем другого рода, чем у наших последующих «духовных просветителей». Он всегда избегал прямого морализаторства, он не считал своего слушателя ребенком или полным невеждой, чтобы его поучать: он увлекал красотой и силой христианской мысли. Многие благодаря ему пришли в церковь. Благодаря иным нынешним проповедникам впору из нее бежать.
Это было не популяризаторство, а совместная работа, глубокая, осмысленная, современная, связанная с новейшими открытиями библеистики. Необходимые цитаты из латинских и греческих Отцов он приводил в собственном переводе. Он мог бы создать школу и в классической филологии, и в библеистике и в общей теории культуры, что называется, Geisteswissenschaft. Все это сейчас как будто не востребовано. И это трагический факт. Сергей Сергеевич Аверинцев – великий дар всей российской культуре. Кажется, она этого дара принять пока не может.
Я чувствую себя его ученицей, но не в поэзии, а в мысли. Он для меня был камертоном, по которому я сверяла ход мысли. Для этого требовалось преодоление наших привычек к незаконным обобщениям, безответственным высказываниям. Обработанная, точная мысль – вот его школа. Он говорил: «Переспрашивайте себя сами и будьте готовы ответить на вопрос, который может возникнуть к этому утверждению»
Удивительно в нем и то, что, филолог-классик, он любил поэзию модерна. Ведь обычно классики не чувствуют ее, это для них чужой мир. От него я узнавала о европейских поэтах ХХ века – о Клоделе, Элиоте, Целане.
О. Дмитрий Акинфиев
А вот здесь я не могу сказать: я о нем писала. Я так и не нашла, как о нем писать. С его образом для меня связано все, что я люблю в нашей церкви. Отношения с духовным отцом – особая область. Говорить о ней, не профанируя, не менее трудно, чем говорить о вдохновении. Мой духовный отец — протоиерей Дмитрий Акинфиев, в последние годы настоятель Николы в Хамовниках. Мы встретились, когда мне было немного за двадцать. Тогда он был настоятелем другого храма. И до самой его смерти – а умер он три года назад, — он был моим духовным отцом. Он действительно менял мой душевный состав, причем так, что я и сама не заметила, как стала другим человеком.
— Как вы познакомились?
— Можно сказать, случайно. В детстве бабушка брала меня в церковь, но в школьные годы я и думать об этом не думала. А потом, когда я стала «по-настоящему» писать стихи, в конце школы меня опять потянуло в храм.
Я не могу сказать, чтобы я переживала какое-то обращение, как те, о которых иногда рассказывают. Мне казалось, что я и не была совсем вне, и не буду, как я решила для себя, совсем внутри. Но постепенно я все больше и больше подходила к серьезному участию в церковной жизни. Поначалу это было скорее художественным переживанием: я любила пение, красоту богослужения… Но ходила все чаще и, по совету бабушки, стала исповедоваться и причащаться – лет в 19. У какого священника это делать, мне было все равно.
И наконец я встретила отца Димитрия. Надо признаться, я никогда не думала, что мне нужен духовный отец: я ведь считала себя поэтом. Ну какой духовный отец может быть у Бодлера или у Пушкина? Свои проблемы каждый решает сам, думала я, кто мне может помочь? Но тут, иначе не скажешь, Бог даровал мне духовника. И в его лице я узнала то глубочайшее православие, которое люблю, и которое, на самом деле, встречается очень редко…
Его называли «московским старцем», имея в виду особый дар прозорливости (который он очень неохотно обнаруживал). На его отпевании (там было больше ста московских священников) одна простая старушка громко сказала: «Добрый был он священник и скромный, а отца его коммунисты замучили». Однажды он при мне довольно долго объяснял какой-то женщине, что лучше ей не идти к Причастию, если она не готова. И эта женщина отошла от него совершенно радостная и сказала: «Как будто и причастилась!» Такая сила присутствия. Поговорив с ним почти ни о чем, я каждый раз возвращалась с чувством этого как бы причастия, как бы отпущения грехов. Предание – это ведь личная передача из рук в руки. Это встреча.
Сама и решай
Конечно, каждый человек, который приходит в новый для него мир – в мир церковный и православный – думает, что все надо как следует выучить, и сам требует инструкций. И у меня тоже было такое настроение, может быть не в такой степени, как у других, но я тоже требовала у отца Димитрия каких-то решительных инструкций. На что он мне говорил: «Сама решай, почему я должен это тебе сказать? Что я такого знаю, что ты не знаешь?». Знал он очень много. Бездна между моим знанием и его меня всегда поражала.
И еще, как ни странно, он меня примирил с землей. У меня была наклонность к спиритуализму, к отвержению всего земного, всего плотского, в крайней степени. В юности такое бывает. Но отец Димитрий неприметно показал мне, как это некрасиво, как в этом нет благодарности Богу за все сотворенное. Что в таком «аскетизме» нет добра, нет любви. Тихо и мягко он примирил меня с вещественным миром, с обычной жизнью. Незаметно… Он любил красоту. Однажды старушки обратили его внимание на «местный культ»: молодые люди приходили к одной иконе со свечами и совершали какие-то странные ритуальные действия. Как выяснилось, они считали, что эта икона «помогает в любви». Батюшка, выгоните их! – требовали свещницы. Отец Димитрий вроде бы их послушал, стал медленно к ним приближаться… вдруг остановился и обернулся к стражницам благочестия: «Да вы посмотрите, какие они красивые!» Нужно ли говорить, что старушки его не поняли. Красивые!
Постепенно я увидела, что искусство и церковная жизнь могут быть близки, как во времена Данте, и что это дает искусству другую глубину и широту. Постепенно я это поняла и как творческую тему.
Слава Богу, я была доверчива и слушала его, потому что можно было всего этого не услышать и ничего не воспринять. Он не пользовался такой славой в интеллигентских кругах, как о. Александр Мень. Он был традиционный батюшка, его отец был сельский священник, погибший в лагерях, так что он, можно сказать, — сын святого. Он — дитя гонимой Церкви, Церкви, для которой многие поверхностные вещи перестали быть важны, но очень важно — я бы сказала, по-новому важно – стало то, что действительно серьезно. Отец Димитрий называл это сердцем. Не то, что человек сделал, не то, что он сказал, — ему было важно, какое у человека сердце. Потому что, как сказано, из сердца все исходит.
Другие церковные люди, которых я встречала в юности, – его ровесники, и даже старше – были в этом похожи на него. Ведь гонения были и очищением Церкви от внешних вещей. И особенно обидно, что этот бесценный опыт забыт, и новые православные начинают мелочиться и высчитывать, что «соблюдать», а что «не соблюдать».
— Какими были те люди? Были ли они обижены на советскую власть? Звучал ли в них протест?
— Они были очень мирные люди. Естественно, у них отношения с советской властью были выяснены еще до лагерей. В этих людях чувствовался – можно так назвать — соборный дух, дух Собора 17 года. Не было никакой стилизации, архаизма. Они, надо сказать, не очень доверяли новым людям, которые приходили в церковь, потому что после такого опыта, который они пережили, боялись «комсомольцев»… И только с очень немногими людьми у них налаживались связь. И потому люди, приходящие в церковь, могли не встретиться по-настоящему с теми, кто там был всегда, с теми, кто действительно выдержал все эти годы, с исповедниками. Бесчеловечность, которая стала у нас нормой в советские годы, присутствует сейчас и в церкви. И советская тяга к силе. А христианство на стороне униженных, а не сильных.
Вторая жизнь
В самом конце 1989-го года я впервые оказалась за границей, сразу в трех странах: в Финляндии, Англии, Италии. К этому времени у меня вышел первый сборник стихов в Париже, в ИМКА-пресс (1986), стихи стали переводить, включать в антологии. Поэтому я и оказалась во всех этих странах. И все последующие годы в моих странствиях меня вели стихи: где что-то выходило, туда меня и приглашали. Этот первый выход за «железный занавес» так сильно многое изменял, что дальнейшее можно было бы назвать «второй жизнью» или даже, как сказала Елена Шварц, «жизнью после жизни».
— Какие были ощущения? Чудо?
— Мы очень любили мир европейской культуры и заочно многое о нем знали. Аверинцев, который тоже поздно оказался в Европе, мог быть гидом по многим европейским городам. Он, и не видя, знал эти места и их историю лучше, чем местные жители. И вот вдруг она перед тобой – эта платоническая реальность, состоявшая из одних имен! М.Л.Гаспаров, впервые оказавшись в Риме, не хотел выходить из автобуса. Он боялся реальной встречи с тем, о чем думал всю жизнь. Но об этом переломе я тоже много писала, и пересказывать себя скучно.
Когда английские журналисты спрашивали меня: «Что вы чувствуете, впервые оказавшись здесь?», я говорила: «Я сравнила бы это с чувством школьника на летних каникулах: тебя отпустили и никто за тобой не смотрит». Недоверие, настороженность, чувство того, что наш мир — это такой мир, где ты поднадзорный и тебя могут призвать к ответу в любое время и без всякого повода – вот все это было здесь ни к чему.
С этого времени для меня действительно началась другая жизнь. В 90-е годы я, наверное, половину времени проводила в разъездах. Иногда жила довольно подолгу в разных местах. Когда меня приглашали гостящим поэтом (poet in residence) в университет Киля в Англии, два триместра — от Рождества до июля – я там жила. Это совсем другое, не гастрольное, не туристическое знакомство со страной. Так же я жила и в других местах. Не только в Европе, но и в Америке. На Сардинии, где в течение двух лет я была гостем университета и жила четыре месяца в год. Это не так-то легко, это тоже школа.
— Что именно трудно?
— Начать с языка. Живых языков мы не знали. Мы изучали живые языки, как латынь – только чтобы читать. Когда я приехала в Англию, то с ужасом поняла, что я ни слова не понимаю из того, что говорят, ни слова! Я просила их писать или говорить медленно. А английским я занималась с детства, и много на нем читала. А мне каждый раз приходилось на этом языке не просто объясняться кое-как, а работать, читать лекции на английском и итальянском.
— Как же? Если вы даже сначала не понимали? Как же вы справлялись?
— Говорить легче, чем понимать Главное, чтобы тебя понимали. Меня понимали. А потом и понимать подучили – дали записи уроков реального произношения, регулярных сокращений звуков, когда takem значит take them. С итальянским не так, его мне как раз легче было понимать, чем говорить на нем. Я слышала живой итальянский в Москве. У меня еще в советское время была подруга-итальянка, которая в университете преподавала итальянский язык и литературу, поэтому я знала, что такое живой итальянский, в отличие от живого французского и живого английского.
Искусство, арт и актуальность
Когда я впервые ходила по улицам Лондона, мне казалось, что я не по земле хожу, это была какая-то левитация. Потом, естественно, ты видишь вещи ближе, видишь другие стороны, понимаешь, что там свои трудности и опасности. Я постоянно навещаю одни и те же страны, и вижу, как улетучивается старая Европа, краешек которой (еще не объединенной Европы) я успела застать.
— С чем это связано? Во всем мире происходит некая унификация?
— На наших глазах происходит исторический перелом, новое Великое переселение народов. Я читала где-то, что каждый третий сейчас — мигрант. Не обязательно мигрант из Индии в Лондон, даже внутри страны происходит непрерывное перемещение людей. Когда-то европейская жизнь была оседлой, и вот она кончилась. Новоприбывшие уже не станут местными. Впрочем, об утрате корней Симона Вейль писала еще до эпохи переселения.
Однажды в Риме на улице я познакомилась с корейским священником и корейскими монахинями, мы с ними разговорились по-итальянски. Они учились в Риме и пригласили поехать вместе в Ассизи.Когда мы проезжали через Флоренцию, я предложила: «Давайте зайдем в тот дантовский храм, где похоронена Беатриче?». А они говорят: «А кто это?». Их обучили всему, что относится к церковной католической культуре, а про Беатриче они не слышали. Это новые европейцы.
А актуальное искусство? Несчастье. Прошлым летом на международном Берлинском фестивале поэзии – а это один из самых престижных фестивалей — я видела во всей красе эту актуальную поэзию… Среди приглашенных двенадцати авторов только трое писали стихи словами – все остальное было Sound — Poetry.
— То есть, звукопись?
— Да, они издавали звуки — кричали, пищали, били в какие-то кастрюли. Вот тут я поняла, что конец приближается! Конец европейского света.
Страхи
— Страх перед аудиторией и перед публичными выступлениями, он есть и был ли, здесь и вообще? Как вы себя переламываете?
— Такого страха у меня нет и никогда не было. Может быть, потому что в вундеркиндном детстве я привыкла выходить на публику. Но совсем этого не люблю. Я, видно, все-таки человек не артистического склада, потому что успех не приносит мне такой радости, как артистам и поэтам-артистам.
Как-то мы оказались в Финляндии с Беллой Ахмадуллиной и вместе выступали в Хельсинки. Я видела, как она просто наполнялась жизнью, когда слышала отклик аудитории. Дмитрий Александрович Пригов тоже признавался, что если он не почитает на публике неделю-другую, то у него начинается голодание. У меня этого нет и никогда не было. Я не хочу успеха и не боюсь провала. Мой страх и мой восторг в другом месте.
— А вообще чего боитесь больше всего?
— Не знаю. Или не скажу.
Итог подводит не автор
— Ваш четырехтомник – итоговый?
— Надеюсь, нет. Во-первых, не все, что я уже написала, в него вошло. Во-вторых, я надеюсь еще что-то сделать.
Вообще говоря, итог подводит не автор, а кто-то другой. Тот, кому видно то, чего не видит автор. Автор не видит многого. Он не перестает быть автором – то есть, лицом ответственным за текст. Чувство требовательности заслоняет все другие, ты видишь только то, что не удалось, что надо бы исправить… Целое видит тот, кто стоит на месте адресата этого письма, — читатель. Только благодаря музыке я смогла оказаться на месте адресата собственных сочинений. Когда я слушаю музыку, написанную на мои стихи Александром Вустиным и Валентином Сильвестровым, только тогда я слышу собственные слова. Только тогда они говорят мне – и порой удивляют тем, что сообщают.
Произведение довершается в другом. Тереза Маленькая писала, что она чувствует себя кисточкой в руках Бога, а рисует Он этой кисточкой для других. Художник, поэт тоже нечто вроде кисточки, и пишут этой кисточкой не для него. Его работа, его вдохновение довершается в другом человеке и совсем в другом месте.
Фотографии Анны Гальпериной и из открытых источников
Ольга Александровна Седакова
Ольга Александровна Седакова родилась в Москве 26 декабря 1949 года в семье военного инженера.
В 1967 году Ольга Седакова поступает на филологический факультет МГУ и в 1973 году заканчивает его с дипломной работой по славянским древностям. Не только стихи, но и критика, филологические работы Ольги Седаковой практически не публиковались в СССР до 1989 года и оценивались как «заумные», «религиозные», «книжные». У отверженной «второй культуры» тем не менее был свой читатель, и достаточно широкий. Тексты Ольги Седаковой распространялись в машинописных копиях, публиковались в зарубежной и эмигрантской периодике.
В 1986 году вышла первая книга в издательстве YMCA-Press. Вскоре после этого стихи и эссеистика стали переводиться на европейские языки, публиковаться в различных журналах и антологиях и выходить в виде книг. На родине первая книга («Китайское путешествие») выходит в 1990 году.
К настоящему времени издано 27 книг стихов, прозы, переводов и филологических исследований (на русском, английском, итальянском, французском, немецком, иврите, датском языках; готовится шведское издания).
С 1991 года сотрудник Института мировой культуры (философский факультет МГУ).
* Кандидат филологических наук (диссертация: «Погребальная обрядность восточных и южных славян», 1983).
* Доктор богословия honoris causa (Минский Европейский Гуманитарный Университет, факультет богословия, 2003).
* Автор «Словаря трудных слов из богослужения: Церковнославяно-русские паронимы» (Москва, 2008).
* Офицер Ордена Искусств и словесности Французской Республики (Officier d’ Ordre des Arts et des Lettres de la République Française, 2012).
[1] Михаил Матюшин. Творческий путь художника. Музей органической культуры. Коломна, 2011.