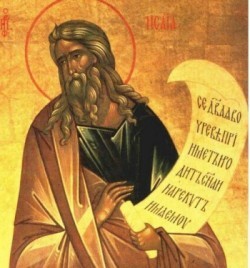
I.
Пользуясь случаем настоящего скромного академического торжества, я имею нравственную потребность предложить вниманию просвещенного собрания несколько общих и по возможности простых слов о предмете весьма обширном, а именно: о ветхозаветной библейской критике. Этот предмет покрывает собой теперь почти всю ветхозаветную библейскую науку; он почти равнозначен с нею. А дисциплина Ветхого Завета — одна из самых разработанных и богатейших по своей литературе в круге других богословских дисциплин. И весь материал ее разрабатывается в наше время методом критическим, или иначе — историческим. Весьма сложный справочный аппарат дисциплины Ветхого Завета и в области первоисточников (то есть текстов), и в области пособий подан исследователю столь роскошно, что здесь нетрудно рядиться в пышные одежды эрудиции и ослеплять непосвященных виртуозными выкладками специалистов. Но моей задачей в данном случае является как раз обратное желание — упростить, елико возможно, всякому православному, искренно интересующемуся богословским знанием, подход к сердцевинному, ключевому вопросу, который давно уже поставила пред нашим сознанием библейская наука, разрабатываемая критическим методом. Это вопрос: как мы должны правильно понимать и оценивать священные книги Ветхого Завета как орган сверхъестественного Божественного откровения истинной религии на нашей планете? Многие стороны обычного, традиционного взгляда на знание библейских текстов в системе наших догматических верований должны быть пересмотрены и научно-богословски переформулированы в уровень с бесспорными достижениями библейской науки. Разумеется, по суду авторитетного церковного руководства, а не по частным только мнениям отдельных ученых тружеников. Пересмотр этих ходячих формулировок нашей веры настоятельно необходим для вящего ее укрепления; именно — укрепления через использование достижений библейской критики. Задача, аналогичная той, которую для себя ставил в свое время, на путях философии В. С. Соловьев: — “оправдать веру отцов своих, возведя ее на высшую ступень разумения”. Низшая, наивная ступень разумения подхода к ветхозаветной Библии уже не довлеет более злобе современного исторического дня. Тут не пустая и унизительная погоня за пошлой модой. Тут миссионерский долг и подвиг веры и Церкви. Неисполнение его влечет за собой умаление веры в массах и потерю престижа Церкви в мире. Излишни при этом были бы оговорки о разумной медлительности законного консерватизма, столь приличествующего церковной науке. Конечно, догматы церкви неподвижны, но разумное раскрытие и обоснование их и научно-апологетическое оборудование их должны быть подвижны в меру исторического движения человечества, ибо “суббота человека ради” <…>
До революционного саморазрушения России и уничижения русской Церкви наша духовно-академическая наука была гегемоном для богословской учености других православных стран. Но ее ученая продуктивность по отделу библейскому, стоя не количественно, а качественно на уровне мировой учености, соблюдала еще волей-неволей стыдливое молчание о критическом перевороте, происшедшем в библейской науке. Были только некоторые осведомительные касания к щекотливым проблемам в статьях профессоров Ф. Г. Елеонского и В. Ф. Рыбинского. За четверть века отсутствия России в ее естественной роли предводителя православно-богословской учености заметно возросла и встала на общеевропейский уровень ученость православно-богословских факультетов балканских стран, особенно в Афинах. Но, как свидетельствуют солидные курсы общих и частных Введений в Ветхий Завет профессора И. С. Марковского (“Введение в Св. Писание на Ветхи Завет. Ч. I. Общо введение”. София, 1932 г. “Ч. II. Частно введение”. София, 1936 г.) и профессора П. И. Брациотиса (P. I. Mpratziиthj. E„sagwg» e„j tѕn Palai¦n Diaq»khn. ‘En ‘Aq»naij, 1937), ветхозаветная наука в них построена еще всецело на предпосылках старой докритической школы, хотя проблемы критической науки и не замалчиваются здесь, как это делалось в старых учебных руководствах. Новаторскую борозду в науке несомненно проводит второй молодой профессор Ветхого Завета и еврейского языка в Афинском богословском факультете Василий Веллас. Выученик немецкой науки и, в частности, венского профессора Э. Зеллина, верующего умеренного критициста, профессор Веллас на I Конгрессе православных богословов в Афинах в 1936 году выступил с докладом на тему — “Bibelkritik und Kirchliche Autaritat” (Proc–s-verbeaux du I Congr–s des theol. orthodoxes. Ath–nes, 1939. P. 135–143). И отдельно: Kritikѕ tБj B…blou kaЂ ™kklhsiastikѕ aЩqent…a (‘AqБnai, 1937), в котором утверждает, что Православная Церковь никогда не канонизовала употребляемого в ней текста Библии по его нынешней букве и не связывала богодухновенности библейского слова с вопросами об авторстве и единосоставности отдельных книг, что для нас вполне допустима, например, многосоставность книг, надписанных именами Исаии, Захарии, Даниила и так далее, что богодухновенность относится лишь к ее догматическим и религиозным истинам, а не к мнимой непогрешимости Библии в данных исторических, геологических, географических, хронологических, математических, вообще научно познаваемых1. Посему профессор Веллас не видит оснований к конфликту между учительным авторитетом Православной Церкви и методами и даже выводами библейской критики <…> Несмотря на эту одну ласточку, еще не делающую весны, в общем пока приходится признать, что вопрос о прохождении ветхозаветной дисциплины сквозь горнило критического метода в богословских школах всех православных стран остается до сих пор еще непочатым делом. И столь старая в науке тема, как ветхозаветная библейская критика, звучит у нас на Востоке еще некоей новинкой. И как бесконечно грустно, что наша великая Матерь Русская Церковь сейчас так низко прибита к земле2 и поглощена пока самыми элементарными вопросами простого существования — “крестить и благовестить”, что, может быть, не скоро еще удосужится вновь взойти на те аристократические высоты богословского цветения, с которых она свергнута была в низины революционной юдоли. Как бы хотелось в этой уже вечереющей для нас жизни очутиться еще раз в благолепных старостильных залах наших Святых Академий, по верному слову митрополита Санкт-Петербургского Антония (Вадковского), и выслушать с их трибун речь о библейской критике профессоров Муретова, Троицкого, Рождественского, Мышцина, Тихомирова, Рыбинского, Глаголева, Петровского, Воронцова и других. Но Иных уж нет, а те — далече… И вот приходится самому, среди пустыни нашего “сорокалетнего” странствования поднимать глас вопиющего о давно пропущенном великой русской наукой (она велика, как все русское велико!) сроке усвоения и переработки плодов библейской критики. Молю Духа-Утешителя, да пошлет Он мне в сей час укрепление по слову одного из прекраснейших псалмов: Мал бех в братии моей и юнший в дому отца моего… Руце мои сотвористе орган, и персты мои составиша псалтырь(Пс <151>:1–2). Дерзновенно уже одно то, чтобы охватить столь огромный, сложнейший и деликатнейший вопрос в краткой праздничной речи. Поэтому всяческие условные ограничения нашей задачи необходимы.
Самое мучительное из этих ограничений состоит в данном случае в том, что главнейший тезис, выдвигаемый библейской критикой, не может быть здесь представлен с его доказательствами. Для этого нужен объем курса или книги. Тезис может быть лишь показан, декларативно заявлен. Он настолько же нов и радикален, как переход от Птоломея к Копернику. Нельзя за четверть часа даже отдельного человека, тем более целое собрание или общество, перевести от геоцентрического мировоззрения к гелиоцентрическому или убедить в эволюционной гипотезе происхождения животных видов. Итак, постараемся повести по возможности “простую речь о мудреных вещах”, как озаглавлена одна русская философская книга3.
II.
Библейская критика — это сама историко-филологическая наука с ее критическими методами в приложении к Библии. Уместно ли такое применение научно-критических приемов к Священному Писанию, к слову Божию? Действительно, из всей мировой письменности Церковь отобрала, одобрила и преподает нам только это определенное собрание книг как письменный первоисточник Божественного откровения для принятия и усвоения его нашей способностью веры, а не для нашего разбирающего, то принимающего, то отвергающего разума. И тем не менее для работы нашего научного разума рядом с этим восприятием на веру догматического учения, содержащегося в священных книгах, остается еще огромное поле деятельности, — такое же, как при изучении любых литературных памятников древности. Ибо Библия физически живет, как и другие книги, подвергаясь всем превратностям книжной судьбы особенно за долгие тысячелетия их рукописного существования. Книги терялись, гибли от стихий, огня, меча, нашествия иноплеменных и проч., наполнялись неизбежными описками, ошибками, вариантами от каждого копииста и редактора <…> Верными свидетелями всякого рода разночтений и вообще естественной изменчивости и текучести рукописного древнееврейского текста являются для нас древние переводы его на другие языки, начиная с греческого в III–II вв. до Р. X. Придуманные раввинами позднее и установившиеся только в VI и VII вв. по Р. X. две системы вокализации, то есть обозначения гласных букв особыми надстрочными значками, при сопоставлении ныне принятого вокализованного текста с древними переводами (греческим, сирским и иеронимовским латинским) наглядно показывают, что многие слова прежде разно вокализовались при чтении, то есть разно произносились и разно понимались.
Иудейские книжники, хранители и редакторы текста, знали, конечно, об этой естественной для всякой древней книги изменчивости текста, но до времени не думали какими-то экстренными мерами преодолеть природу вещей. Они особенно обеспокоились вариантами и спорностью текста только в евангельскую эпоху. Неприятные еретики для них, христиане как бы отняли у них Библию и, читая ее преимущественно в греческом переводе, неожиданно толковали ее в применении к уничиженному, распятому и неузнанному иудейством Мессии. Внешние политические обстоятельства были для иудеев еще грознее. Последние неудачные восстания иудеев против Римской империи при Веспасиане (в 70 году) и при Адриане (134 г.) выдернули у них почву из-под ног для нормального государственного существования в качестве территориальной нации. Они лишились навсегда4 Иерусалима и Палестины и стали безземельным странствующим народом, объединенным только одной национальной религией, а внутри религии — только книгой — Библией. Вот эта книга и сделалась для иудейства, взамен утраченной территории, единственной почвой под ногами, физически осязаемой и в то же время легко уносимой с собой в любую часть света. Каждый свиток и кодекс священной праотеческой письменности стал для рассеянного народа как бы тем надежным суденышком, а все вместе — тем огромным флотом, на котором иудейство поплыло в своих тысячелетних странствиях по всем морям и океанам. Понятны поэтому явившиеся вдруг у книжников чрезвычайные заботы и мероприятия к тому, чтобы обеспечить и забронировать эту базу и ограду нации подобно другим нациям, по-своему укрепляющим и обороняющим свои границы. И было придумано и осуществлено нечто чрезвычайное, героическое для возможного замораживания текучести библейского текста, для его искусственной остановки. Раввины изъяли из употребления все старые синагогальные списки и заменили их копиями с одного списка, признанного ими наилучшим и образцовым. Благодаря этой единственной в истории мировых литератур, фанатически скрупулезной операции, совершавшейся в конце I века и начале II века христианской эры, еврейский текст, называемый иначе масоретским (от масора — масорет = ‘предание’) достиг наибольшей неподвижности. Наибольшей, но не безусловной, конечно, ибо неподвижных текстов вообще не существует. Раввины — редакторы текста, так называемые масореты, засвидетельствовали текучесть и неисправность его до их времени и тем еще, что, избрав за норму и образец одну рукопись, они отметили и в ней круглым счетом до 6000 ошибок, неправильностей и описок. Не изменяя рукописи ни в чем, заповедав рабски копировать ее вплоть до случайных начертаний некоторых букв (то ниже, то выше общего уровня, то перевернутых, то растянутых и тому подобное), они все неодобренные ими слова отметили знаком кетив (‘так пиши’), а свои поправки знаком кере (‘а ты читай’). Таким путем сами хозяева и распорядители ветхозаветного текста, иудейские книжники дали нам пример критики и исправления библейского текста, пример положительный и ободряющий, ибо, открыв по своему усмотрению до 6000 неисправностей, они тем самым достигли стольких же поправок. Критика не портит текста, который неизбежно удаляется в процессе исторического существования от своей изначальной чистоты, а возвращает и приближает его к последней.
Но задача критики текста только начата достопочтенными масоретами. Она далеко обширнее, чем им представлялась. При помощи древних переводов, неглижированных (пренебреженных — Ред.)масоретами, и вообще при помощи двухтысячелетнего опыта и техники европейской филологической науки мы ныне богато вооружены для установления уже не тысяч, а десятков тысяч разночтений в Ветхом Завете, а соответственно и стольких же приближений к первотексту оригинала, без надежды, конечно, когда-либо найти его в безупречно чистом первоначальном виде <…> В настоящее время в ученом богословии всех вероисповеданий считается всеобще принятым правилом необходимость критической установки текста раньше всякого серьезного толкования любого ветхозаветного места или каких-либо богословских выводов из него. Наша отечественная наука в этом отношении не составляет никакого исключения. Еще по почину отцов нашей гебраистики великого Филарета (святителя Московского — Ред.) и его достойного ученика протоиерея Г. П. Павского особенно со второй половины XIX века все наши научные труды по Ветхому Завету, включая даже и такое популярное издание, как “Толковая Библия” профессора А. П. Лопухина, полностью используют все приемы научной установки текста при помощи критического аппарата, достигнутого западной наукой.
Эта часть библейской критики, то есть текстуальная критика как вводная процедура, укрепляющая почву под дальнейшими выводами из текста, историческими или богословскими, еще с конца XVIII века окрещена была именем “низшей критики” (лат. critica inferior sive humilior; нем. die niedere Kritik; англ. low criticism; франц. la critique inf№rieure), в отличие от дальнейшей стадии — критики уже самого содержания текста с его литературной и исторической стороны, что названо было “высшей критикой (лат. critica altior sive sublimior; нем. die hohere Kritik; англ. high criticism; франц. la haute critique). Немного странно звучащая и не вполне меткая терминология. Но — что делать? — она привилась в науке. Точнее было бы назвать текстуальную критику формальной, или внешней, а литературно-историческую — материальной, или внутренней. Вот тут-то, на грани двух моментов научно-критического процесса и остановилась наша восточная и русская богословская наука и еще не перешагнула этого порога, хотя бы, по примеру церкви римской, под руководством официальной библейской комиссии5.
III.
Внутренняя, или материальная критика (“высшая”, если угодно употреблять этот нескладный термин) охватывает огромное количество проблем, обычно выдвигаемых при исследовании памятников древности, — вопросов литературных, исторических, археологических, наконец, религиозно-догматических, так что, как я уже сказал, ими покрывается почти все поле библейской науки. Следовательно, нам нет возможности, да и необходимости обозревать здесь весь этот огромный лес встающих перед библеистом вопросов. Мы можем ограничиться примерным указанием лишь на некоторые ряды их, наиболее щекотливые и беспокойные для нашей сонной и ленивой школьной традиции, на самом же деле благополучно разрешаемые при свете критики и к вящему укреплению нашей веры.
Такова, например, прежде всего серия вопросов историко-литературного характера о так называемой подлинности, аутентичности, авторской принадлежности той или иной священной книги известному лицу, по ее заглавию или по традиции. Хотя около трети ветхозаветных книг вполне анонимны, некоторые явно псевдэпиграфичны6 (как Екклесиаст, Песнь песней, Премудрость Соломона, Плач Иеремии, 2 и 3 кн. Ездры), надпи-сания многих спорны (Притчи), но вероучительный авторитет священных книг не зависит от определенного авторства. Ветхозаветная Церковь отбирала и канонизовала книги, то есть признавала их богодухновенными — иногда не без долгих споров и колебаний, — по их внутренней ценности и поучительности, а не по славе авторских имен. Новозаветная Церковь автоматически восприняла эту традицию, ничего в ней не меняя, то есть ставя богодухновенное достоинство книг в зависимость от того, что они были признаны таковыми праотеческим иудейским преданием (это и значит “канонизованы”), а не по тому, именные они или безымянные, известны их авторы или нет.
Однако с исторической и историко-богословской точки зрения установление авторской принадлежности каждой книги имеет специфический интерес, ибо, как естественные религии, так и религия Откровения подвержены закону постепенного роста и раскрытия, а потому все богословские идеи как зародыши скристаллизовавшихся к нашему времени догматов в тех случаях, когда мы можем по библейскому тексту датировать и локализовать их выражения во времени и пространстве, получают свою конкретную живость, отчетливость и свой точный смысл. Итак, не простая вера, приемлющая библейские книги как богодухновенные под гарантией авторитета Церкви, заинтересована в отыскании подлинного авторства и происхождения их, а именно искушенное в науке богословие. Правда, в научных поисках несохраненной преданием памяти о написании многих книг критической науке приходится нередко начинать с отрицания традиционной псевдонимности или псевдэпиграфичности их. Отсюда, по недоразумению, дурная репутация у библейской науки, будто она не любит признавать личное авторство за священными книгами. Наоборот, именно наука стремится всеми силами открыть подлинных авторов вместо нынешних псевдонимов и анонимов. И даже консервативное богословие постепенно следует за ней, не отстаивая во что бы то ни стало, например, Соломонова авторства для Екклесиаста и Притчей и Давидова — для всех псалмов, надписанных его именем.
Хотя вообще с догматической стороны вопрос об авторстве священных книг, и особенно так называемых учительных книг довольно безразличен, раз данная книга признана Церковью богодухновенной, но есть один, наиболее крупный, и в то же время наиболее щекотливый и можно сказать, невралгический из всех авторских вопросов библейской литературы. Разумеем вопрос об авторстве Пятикнижия Моисеева7 <…>
При всем недостатке времени уже из одного уважения к значительности и других проблем, подымаемых библейской критикой, скажем предварительно нечто и о них. Рядом с проблемой подлинности в смысле авторства стоит вопрос о подлинности в смысле цельности и односоставности дошедшего до нас текста данного автора или данной книги. Работа масоретов, продолженная великим Оригеном и продолжаемая современной текстуальной критикой, перешла в глубокий литературно-исторический анализ текстов по самому их содержанию. Гигантская проделанная ученая работа привела к весьма убедительным выводам, не в гадательных деталях, конечно, а в основном, в том, что все ветхозаветные книги пережили периоды заметных редакционных переработок, дополнений, приспособлений к своему времени <…> Задача книги была практическая, миссионерская, пастырская, а не теоретическая, документальная, архивная даже в тех случаях, где, по нашему, должна бы быть речь об исторической точности. Особо напряженной и творческой эпохой, собравшей, обработавшей и издавшей для широкого народного употребления священную литературу, была эпоха плена вавилонского и раннего послепленного времени (VI–IV века до Р. X.). Священник Ездра, как видно довольно точно из его книги, принес иерусалимским возвращенцам из Вавилона по меньшей мере Пятикнижие и, вероятно, некоторые книги исторические. Самаряне, вскоре отделившиеся от иудеев (IV в.), унесли с собой из Иерусалима не только Пятикнижие, но и книгу Иисуса Навина. Однако в великой духовной лаборатории Вавилона во времена Ездры было уже готово большое собрание всех категорий священных книг: наряду с историческими — и книг пророческих и некоторых учительных книг. Вавилон с тех пор на тысячелетия стал школой иудейской талмудической книжности.
В горниле Вавилонского плена не только возродился, но, можно сказать, заново родился иудейский народ. Уведен был в плен гордый политической народец, непрерывно ведший авантюрные войны в лоне то египетской, то ассиро-вавилонской коалиции, грубый бытовой язычник, идолопоклонник, а вернулся на развалины Иерусалима трезвый монотеист, ревнитель монопольного культа своего Бога Ягве, понятого наконец как Единый и Единственный Бог всего мира и всех народов. Это уже был почти не народ, то есть не политическая нация, а безгосударственная, внеземельная религиозная община, Церковь. Израиль плотяный превратился в Израиля духовного. Таков был провиденциальный результат наказания народа пленом. Израиль оперся не на свою государственную власть и династию, не на армию (он надолго стал подданным чужих империй), а на свою веру, на свое строго уставное культовое благочестие, на свое священство, на свою писанную Моисееву Тору и ее книжное продолжение: пророков (небиим) и прочие писания (кетубим), на то, что в эллинистическом мире, по началу через иудеев же, получило название Библии. Состав и редакция библейских книг получили свою чеканку именно в этой духовной лаборатории плена, когда вождей народа и лучших сынов его охватила пламенная религиозно-патриотическая вера в то, что они религиозно неизмеримо выше поработивших их язычников, что они не должны унизить себя слиянием с ними, что Господь только и ждет от Своего народа, чтобы вернуть ему за покаяние и честь и славу большую и лучшую, чем в последние времена их царств. Прообразом этой славы берутся легендарные времена Давида и Соломона.
Но надежды, предчувствия и пророчества идут недосягаемо далеко. Новыми глазами и ушами воспринимает просветленный Израиль до сих пор пренебрегавшиеся им прежние пророчества. Он комментирует их в свете вновь зажегшихся в его сердце чаяний. Пленные пророки — отчасти Иезекииль и особенно неизвестные по имени, приписанные к концу книги Исаии, говорят о благах и блеске грядущего царства Израиля в чертах чудесных, космических изменений, о явлении нового мира — как бы взамен потерянного рая на земле. Новый чудесный Отпрыск Давидовой династии сводит небо на землю и стягивает к скромному Сионскому холму поклонение всего мира. За этим ликующим днем пришествия Мессии открываются еще более отдаленные перспективы. Силы зла в виде демонически преображенных, исконно-враждебных Израилю языческих народов вновь устремляются на обновленный Иерусалим, но здесь подпадают последнему страшному суду Ягве-Бога Израилева, поражающему их и вновь утверждающему Свое святое Царство. За мессиологией раскрывается эсхатология, переходящая в апокалиптику. Религиозно-литературное творчество достигает высоких градусов напряжения и в нем переплавляются исторические и пророческие писания эпохи Царств. Вот почему книги пророков в особенности подверглись такой большой, иногда сплошной переработке. Глоссы, ретушировки, интерполяции, приписки из иных пророчеств — все это особо характерные черты именно точно датируемых, исторически наиболее прозрачных для нас неанонимных пророческих книг. Разумеется, безошибочное различение первобытно-оригинальных текстов пророков и всех изменений и добавок к ним никому недоступно. Но без гипотетического анализа текста и без попыток разделить в нем первоначальное (авторское) и позднейшее (редакторское) решительно невозможен толковый комментарий библейских книг, пророческих в особенности. Отказ от методов и уже огромных положительных достижений истинно научной библейской критики в наше время равносилен обречению себя на отказ от здравого богословского понимания Библии, а иногда и просто от здравого смысла.
Яркой, наиболее общеизвестной иллюстрацией переработки состава и текста служит книга пророка Исаии8 <…> Однако само собой разумеется, что все пророчества этой книги, раз включенные в священный, канонизованный текст, сохраняют для нас всю силу вероучительной, догматической обязательности независимо от их авторской неизвестности или псевдонимности по принципу их принятия нами из рук ветхозаветной и новозаветной Церкви в качестве Священного Писания.
В вопросе о составе книги пророка Исаии важно и соединение с подлинным Исаией первых 40 глав целой новой, также выдающейся анонимной пророческой книги, которая теперь заключается в 40 по 66-ю главу книги пророка Исаии <…> Автор приписал свою книгу к Исаии как его ученик и последователь излюбленной Исаией богословской терминологии (название Бога: Святый Израилев), ибо при всем различии эпохи, исторического горизонта, при различной злободневности религиозных тем он усматривал у Исаии предвидение современных ему событий освобождения из плена. Последние энтузиастический автор переживал в перспективе ярких, пламенных, мессианско-эсхатологических видений. Это ему принадлежит потрясающий и загадочный гимн страдающему отроку Господню (Эвед-Ягве) (53-я глава), где он проповедует превышающее Ветхий Завет богословие об искупительном значении страданий праведника за грехи человеческого рода. Это ему, как евангелисту Голгофы, мы “внемлем в священном ужасе” в паремии на вечерне великой пятницы. И есть чему по-человечески удивляться в этом вершинном для израильского пророчества прославлении раба Ягве (Эвед-Ягве), ибо самые тщательные усилия лучших ученых знатоков ветхозаветного богословия не в состоянии объяснить убедительным эволюционным путем появления в голове пусть и гениального мыслителя этой парадоксальной для культового номизма иудеев и утилитарно-рационалистической морали их мудрецов (хакамим) идеи искупительной силы уничижений и страданий, и при том непонятых и непризнанных, одного невинного праведника за грехи всего народа. Это — антидиалектическая творческая новизна, это Божественное откровение, это касание Духа Святого к высокому напряжению духа человеческого <…>
Мы знаем, что ни буква этого пророчества, ни буквы всех других пророчеств о безмерно чудесных подробностях мессианского царства Израиля никогда не исполнились и не исполнятся в земной истории. И этого не нужно, ибо пророчества уже духовно исполнились и исполнятся до конца, что открылось нам — христианам, читающим Ветхий Завет без покрывала, пребывающего на глазах иудейства. Но открывшееся нам, сынам Нового Завета, понимание Ветхого Завета не было еще доступно не только массе, но и самим творцам его, писателям-пророкам. Недаром же легла между нами и ними таинственная грань двух заветов. Поэтому мы не должны увлекаться наивной ненаучной экзегетикой и вписывать свое точное и ново-историческое, и ново-догматическое ведение в сознание и в букву древнеизраильских писателей. Они видели и разумели в пределах своих ветхозаветных горизонтов и в позитивно-историческом, и в религиозно-мистическом смысле. И когда Дух Божий окрылял их и уносил на грань, положенную Завету Ветхому, когда они, по отеческому выражению, становились как бы уже Евангелистами, то и тогда они видели нечто чрезвычайное для них лишь зерцалом в гадании и, пытаясь сказать несказанное, все же мыслили и говорили в понятиях и образах своего времени и были совершенно понятны своим современникам. Новозаветный смысл речей пророков для них самих был элементом сверхсознательным, усматриваемым нами лишь с нашего посюстороннего, новозаветного берега, тогда как прямой и конкретно-исторический смысл пророческих слов, ясный для сознания самих пророков и их слушателей и читателей, наоборот, часто для нас теперь остается темной, неразъясненной археологией. Пророки не были противоестественными монстрами, намеренно обременявшими души современников какими-то непостижимыми для человеческого разума загадками. Наоборот, они пастырски любили и учили темный и грешный народ свой, наставляли его всяческими, даже педагогически наглядными способами, даже юродивыми символическими действиями. Их самосознание и их вещания были по-человечески совершенно естественными, а сверхъестественное духовное озарение лишь подкрепляло и возвышало их естественное богословствующее умозрение <…>
Все они, обреченные еще быть в зоне закона сени и писаний и лишь влекомые тайным тяготением, как магнит к железу, к мессианскому Первообразу, могли, да и должны были говорить только на языке живой конкретной израильской истории и ее текущих событий, задач и интересов. Их речи не были бессознательной невнятной глоссолалией9. И сами они не были безлично, механически звучащими органами, на которых играл Дух Божий. Они были живые, естественные люди с естественной человеческой ограниченностью. И самые близкие из них к пришедшему уже Первообразу, Которого они держали на руках, то есть Богоприимец и дщерь Фануилева, мыслили и говорили о Нем от лица всех чаявших избавления в Иерусалиме как будто мессианически широко, как о Свете во откровение языком (Лк 2:32), но тем не менее только как об утехе Израилевой10. Хотя и говорили об оружии, проходящем сердце Матери Мессии, но еще без знания таинства Голгофы и без знания того, что пред ними не просто матерь, а Богоматерь. Еще не прииде час (см. Ин 2:4) нового откровения, еще не раздрася на двое (Мф 27:51; Мк 15:38) завеса Ветхого Завета, еще не спало с глаз то покрывало, которое только о Христе престает (2 Кор 3:14). Свет Евангельский пролился на все книги Ветхого Завета лишь по воскресении Христовом, когда Воскресший и Сам Преображенный отверз Своим еще ветхозаветно слепым Апостолам ум разумети писания (Лк 24:45), — акт завершенный в Пятидесятницу. С того чудесного момента передвижения всех религиозных перспектив у детей Авраама по плоти и сынов завета Синайского, ставших во Христе новою тварью (см. 2 Кор 5:17), “открылись вещие зеницы”, и они, а за ними и мы, стали уже новыми глазами и новыми ушами внимать строкам Писания. В привычных по букве словах зазвучала вдруг музыка сфер, раздались обер- и унтертоны, мелькнуло незримое ранее ультрафиолетовое и инфракрасное. Приоткрылась некая часть плана Премудрости Божией, заложенного в истории избранного народа. Многие по естеству случайности оказались вовсе не случайными, ибо нет ничего случайного даже в царстве свободы для Божественного Предведения. Факты и слова, разделенные тысячелетиями и как будто ничем друг с другом не связанные, взаимно диспаратные (разобщенные — Ред.), явились вдруг тесными звеньями таинственного великого целого, оказались прообразами своих первообразов. Сени и гадания стали явью для духовных очей веры.
Разве знал Второисаия <…> что в плане Божественной Премудрости, сопрягающей весь мир в таинственном единстве и гармонии частей и моментов, — разве он знал, что его пишущая трость (херет), изображающая прообраз, уже чертит картины Голгофы, чеканя готовые речения для будущих Евангелистов, образов сбытие зрящих, очевидцев крестных мук Первообраза? Яко овча на заколение ведеся и яко агнец пред стригущим его безгласен… И со беззаконными вменися… Той же язвен бысть за грехи наша и мучен бысть за беззакония наша… Язвою его мы изцелехом! (см. Ис 53:5–12). Равно, как и псалмопевец — автор 21-го Псалма, разве знал он, что его литературный образ разделиша ризы моя себе, и о одежди моей меташа жребий (Пс 21:19) есть уже прообраз события голгофского? Разве он мог знать, что его начальный стих, в переложении на разговорный арамейский язык — Или, Или! лама савахфани — Боже Мой, Боже Мой, вскую оставил мя еси! — в молитвенном вопле к Отцу будет повторять распятый Сын Божий? Только нам это открылось и раз навсегда поразило нас своим совпадением <…>
IV.
Странно и, конечно, не случайно решение тех благочестивых иудейских переводчиков этого места Исаии на греческий язык, которые упорно поставили здесь неожиданное по смыслу для зачинающей женщины и неожиданное вообще для иудаизма слово parqљnoj ‘дева’, переводя здесь так еврейское слово га-алма. Прямое еврейское слово для обозначения девства и девы — бетула. Слово алма шире по своему значению. Оно означает зрелую девицу брачного возраста и уже состоящую в браке молодую женщину, по-русски молодицу. Из семи случаев употребления в Ветхом Завете слова алма только еще раз в Быт 24:43 греческие переводчики перевели его словом parqљnoj по требованию ясного смысла речи (речь шла о невесте Исаака, Ревекке). В пяти других случаях они всегда переводили ne©nij то есть молодица (по-славянски отроковица, Исх 2:8; Песн 1:2; юнота — Песн 6:8; Притч 30:19 — юность (неточно); Пс 67:26, слав. неточно девы, в греч. ne©n…dej). Но вот глаз Евангелистов, читавших Библию уже обычно по-гречески, вонзился в слово parqљnoj и возвестил нам, что этот смелый неточный перевод не случаен, провиденциален, прообразователен. Недаром весь александрийский перевод, называемый LXX, принят с любовью Церковью, а иудейством, его создавшим, с мистическим ужасом отвергнут и заменен другими (Аквилой, Симмахом).
Иллюстрация вопроса о подлинности в смысле цельности и единства состава ветхозаветных книг на случае с книгой пророка Исаии показывает нам, насколько вопрос о богодухновенности и пророческом характере ее, вопрос веры и религиозного ведения, не зависит от чисто внешнего, подлежащего научному испытанию факта той или иной литературной судьбы этой книги как книги <…>
Бесполезно тратить теперь усилия на невозможные доказательства написания книги пророка Даниила самим Даниилом при его жизни, то есть в VI веке. Для всех, не держащих волей или неволей свои глаза закрытыми на литературно-историческую очевидность, ясно, что книга написана неизвестным автором в 165 году до Р. X. после очищения храма иерусалимского Иудой Маккавеем от мерзости запустения, водворенной Антиохом Епифаном, но еще до смерти последнего зимой 164 г. Написанная в это позднее сравнительно с пророками-писателями время книга Даниила и по языку поздняя. Значительная часть ее написана на западно-арамейском языке, а ее еврейские главы пестрят корнями персидскими и греческими. Книги Даниила еще не знал Иисус сын Сирахов, писавший около 180 года до Р. X. Как поздняя, книга в еврейском масоретском каноне не нашла уже места среди пророков (II отдел канона), а приписана была к третьему отделу кетубим “писания” и помещается последней среди книг учительных, после Есфири. В греческом переводе она еще осложнилась тремя большими неканоническими добавлениями, еврейские или арамейские оригиналы которых возможны, но пока не найдены. Псевдонимность книги Даниила, принятой в канон, опять-таки при точном историческом истолковании ее буквального смысла нисколько не умаляет ее прообразовательно-пророческого значения. Книга оказала чрезвычайное влияние на последующее религиозно-писательское творчество. Своим методом вычислений на основе прежнего пророчества Иеремии, своим стилем видений и сновидений она создала и породила целую категорию литературы, так называемую апокалиптическую. Своей историософской схемой роли четырех мировых империй в судьбах царства Божия книга Даниила создала всю христианскую историософию. Правда, ее арифметические вычисления семидесяти седьмин очень просто и почти точно обозначают период времени от 586 года, то есть от взятия Иерусалима Навуходоносором, до восстановления Иерусалимского жертвенника в 165 году после Антиохова осквернения <…> Антиох Епифан и его кощунственное дело вскрываются как прообразы апокалиптической деятельности антихриста. Догматическое и пророческое значение книги Даниила ничуть не умаляется трезвым научным выяснением происхождения книги и ее буквальной экзегезой, ибо по святоотеческому герменевтическому правилу установление в Писании сначала смысла буквального должно предшествовать попыткам искания смысла переносного, духовного, мистического.
В связи с вопросом о подлинности состава и материалов данного текста священных книг возникает проблема подлинности самых сообщаемых им сведений о жизни мира, человеческой истории и чудесах промысла Божия в последней. Вопрос этот уже выходит за пределы собственно библейской критики и подлежит ведению чистого богословия и апологетики. Но есть тут сторона подсудная и библейской критике. Никто теперь не будет искать в Библии уроков по естествознанию, по наукам точным и вообще по всяким наукам как таковым. Библия есть иная наука, наука духовная: о тайнах спасения. О вещах же позитивных, подлежащих ведению разума и рационального познания, она говорит разговорным, обыденным, а в силу древности и детским языком <…> Она не раскалывает нашего черепа никакими кольями насильственных, невместимых вещаний об абсолютных тайнах. Она лишь сублимирует обычные познавательные возможности нашего разума до пределов сверхразумного и затем переводит бессильный разум в более мощное и вещее сердце наше, которое способно, если только чисто, зреть уже Бога. Сила сердца не только в чудесном голосе совести, но и в жажде красоты и любви. Оно есть орган не только этики, но и эстетики. Разум, очищаемый в горниле сердца совестью, высветляемый красотой и окрыляемый любовью, и есть путь Библейской мудрости. Именно этим сверхрациональным и даже рациональным путем Библия отвечает на религиозные искания человеческого духа, а не на его позитивно-научные запросы. Бесплодно и нецелесообразно продолжать искусственные, натянутые сближения Моисеева сказания о шестидневном миротворении с бывшими, настоящими и будущими, текущими и меняющимися научным теориями и гипотезами, ибо обязательна для нас в этом лишь глубочайшая мудрость догматического учения об абсолютно Едином Начале всего, о Творце всего из ничего (никакой предсуществующей материи, что было бы другим богом) и о даровании Творцом этой, созданной, так называемой “материи” сил и законов, по которым уже она сама в закономерной постепенности, в положенные времена и сроки раскрывает полноту космической жизни: да будет твердь… да будут светила… да явится суша… да произведет земля… плодитесь и размножайтесь! Многое в словесной плоти Моисеева повествования есть только скромное повторение праотеческих колыбельных сказаний первобытного человечества, что принадлежит к области так называемого фольклора со свойственными последнему мифологемными пережитками, былинно-богатырскими стилизациями и преувеличенными чудесами, чем и окрашены все предания о патриархальном периоде и вся дальнейшая национально-политическая история израильского народа. Нельзя ничего другого и ждать от древневосточной истории. Это ее естественный стиль. Надо уметь его понимать как древний язык человечества. В этот древний язык неустранимо входят и элементы мифа в научном, положительном, благородном смысле этого термина. Глубочайшие догматические идеи как естественного, так и сверхъестественного откровения на языке первобытного человечества закутаны в пелены мифологем. Немало этих пережитков мифологем в книге Бытия: говорящий змей, география земного рая, любовь небожителей к дочерям человеческим, борьба Иакова с Богом и тому подобное. Древнему языку свойственна и народно-поэтическая форма. В Библейские книги включено много готовых кусков народной песенной литературы, например, благословение Иаковом своих сыновей, песнь по переходе через Чермное море, песнь Деворы о победе над Сисарой и так далее. Из песни слова не выкинешь. Они переписывались буквально. А поэзия вообще, народная в частности, немыслима без гипербол и фантазии. Девора поет, что звезды с неба с путей своих сражалисьс Сисарою (см. Суд 5:20). Не только в этом случае, но и в сражении под Гаваоном Иисуса Навина с аморреями, когда остановлено было солнце (Нав 10:12), чтобы одной кучке сражающихся было удобно добить другую, вовсе не нужно было беспокоить небесные светила и нарушать всю небесную механику. Это просто язык народной поэзии. Кстати, неизвестный автор книги Иисуса Навина на этот раз даже и помогает неискушенному в науке читателю выйти из затруднения. Он прямо сообщает нам, что сведение об этом необычайном чуде он почерпнул из сборника народных былин, увы, для нас потерянного, имевшего даже заглавие Сефер-Гайяшар “Книга Праведного”. Он говорит: не это ли написано в Книге Праведного: “Стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день”? Из подобных былинных сборников или прямо из устных рассказов черпал и неизвестный автор книги Судей причудливые эпизоды богатырской борьбы с филистимлянами народного героя — Сампсона. Связь его силы с его волосами, перетаскивание на своем горбу целого куска городской стены с воротами на соседнюю гору — чисто сказочные черты народного эпоса. Того же порядка и падение стен Иерихона от одних труб, а не от бывшей, конечно, реальной осады и штурма, или остановка течения Иордана, который и недалеко от Иерихона в засушливые месяцы можно переходить вброд. Так всегда человеческое сердце сплетает венки славословий и чудес около дорогих и достопамятных ему лиц и событий. Чудеса по существу и лежат в основе этих событий. Благодарное сердце знает, что в том или ином случае явно Бог услышал и неожиданно вывел из беды, вопреки человеческим расчетам. Для чуда не нужны феерические эффекты. Для верующих весь мир и вся их жизнь полны чудес непрерывного вмешательства Промысла Божия. Царство механической причинности постоянно пронизывается лучами царства свободы, не нарушаясь в своей закономерности. Истинные чудеса поэтому не чудовищны, не безмерны (это признак лжечудес): они скромны; они интимны и большею частью зримы только очами веры и не существуют для неверующих и посторонних. Когда ангелы пели рождественскую песнь пред вероспособными пастухами и когда тьма голгофская бысть по всей земли, мир внешний спал, ел, пил, покупал, продавал и коротал свои серые будни, ничего не замечая особенного. Когда Моисей в грозе и буре подымался на Синай для молитвы и уединения, верующий народ переживал чудесную близость явления ему его Бога, а окрестные кочующие номады — враги нового переселенца — Израиля не замечали никакой Пятидесятницы, а видели лишь обыкновенную тучу с молнией и громом. Для израильского народа побег из рабства египетского в обстановке сказочных чудес и счастливый переход через западный залив Красного моря в момент его отлива и при благоприятном ветре при явной во всем помощи Божией был переживанием незабываемым, положившим начало новой эпохи его бытия, был как бы новым рождением нации, выступлением ее из небытия на сцену истории. А Египет и не заметил важности, а тем более чудесности этого происшествия и ничем не отметил его в своей памяти, как пашущий вол не чувствует мухи на своих рогах. И вообще весь внешний Израилю мир не заметил никакой исключительной чудесности в истории Израиля. Он сам жил верой в чудеса и без удивления иногда искал чудесного вокруг себя и у других народов, в том числе и у Израиля. Нееман Сириец ищет исцеления у пророка Елисея, волхвы в поисках Мессии гадают по звездам и приходят в Иудею. Но для самого Израиля в теперешнем учительном изложении его истории она рисуется в ракурсе, как сплошная вереница чудес. Так это ad intra, в порядке интимной, духовной реальности, и не так ad extra, в порядке реальности позитивной, физической. И той бездны различия между израильской историей как только священной и чудесной, и историей остального человечества как профанной и как бы пренебрегаемой Богом на самом деле нет. Нет, правда, и уравнения между ними, ибо религиозное, домостроительственное первенство избранного народа догматически неотменно. От него произошел по плоти Господь-Богочеловек. Но если Израилю педагогом во Христа был закон, то языкам — эллинам таковым служила их философия, их культура и их свое великое благочестие <…> Священная история в мире не кончилась. Священная история в нас продолжается, ибо Он с нами во все дни до скончания века. Церковная История есть та же Священная История со включением в себя и истории христианских народов, как включен был в нее и плотской Израиль со всеми его природными грехами, страстями и преступлениями, которые откровенно засвидетельствованы без прикрас и в самых Библейских книгах, ибо немощная мира избра Бог, да посрамит крепкая <…> да не похвалится всяка плоть пред Богом (1 Кор 1:27–29). И наша новая священная история так же полна чудесных проявлений
руководства Промысла Божия в общих судьбах христианских народов. Мы только не ставим их в ряд с позитивно-физическими явлениями, как люди Древнего Востока, в том числе и библейские писатели <…> Многие неискушенные склонны думать, что время самих чудес миновало, что Господь творил их только у Израиля. Опасная для веры мысль! Некритическое принятие сказочной оболочки древних чудес порождает подозрение, что их никогда и не было, что небо всегда молчит. Как будто бы оно молчит в наши дни! Так суеверная вера ведет к атеизму. Вера искушенная и живая с дерзновением утверждает: да, времена всегда одинаковы; и теперь не меньше чудес, чем прежде, и тогда было не больше, чем теперь, ибо священная история продолжается. Отец мой доныне делает, и Я делаю (Ин 5:17), — говорит Господь. Снимая шарж преувеличенной чудесности с истории Израиля и ветхозаветных Писаний, мы тем самым должным образом освобождаем и свое новозаветное свободное сознание и богосыновнее дерзновение от некоего рабства “закону”, от которого трепетали боязливые сыны Авраама по плоти, вступая в ограду Церкви. Это — не наш трепет <…>11
V.
По собственному опыту знаю, что усвоение выводов библейской критики может стоить десятилетий духовных борений, ума холодных размышлений/ И сердца горестных замет.Велико давление на сознание тысячелетних традиций, а потому поворот, производимый в данном случае библейской наукой, относится к крупнейшим событиям в истории духовной жизни человечества. Не риторически, а по его реальному весу и значению этот перевод сознания на рельсы библейской критики можно ставить в ряду открытий Галилея, Коперника, Колумба…
Мне бы очень хотелось в заключение обстоятельно побеседовать о тех богословских последствиях, которые логически вытекают из этих библейско-критических предпосылок. Но… “не достанет ми времени повествующу”. Приходится опять ограничиться лишь одним существенным пунктом и тоже не в стиле аргументации, а только декларации12.
Принимая методы и многие выводы библейской критики, не расходимся ли мы с догматом о богодухновенности авторов и книг Священного Писания? А так как мы этот догмат твердо исповедуем, то не расходимся ли с теорией или богословской доктриной о богодухновенности? Во-первых, если бы и расходились с последней, то в свободе нашего святого Православия мы на это имеем открытое право. Мы школу не выдаем за Церковь, мы только соподчиняем ее Церкви, а не наоборот, конечно. Во-вторых, надо признаться, мы в восточной богословской науке до сих пор не удосужились разработать какую-нибудь точно сформулированную доктрину о богодухновенности. В догматических и экзегетических трудах наших повторяются только некоторые общие основные предпосылки для ее построения в виде разнообразных цитат из Священного Писания и ранних отцов Церкви. Так что мы, ни с чем в сущности не расходясь, можем привносить новые соображения как материал для выработки полной православной доктрины о богодухновенности13. Не затрагивая категории что, то есть принимая просто безоговорочно самый принцип богодухновенности, мы стремимся уточнить его в категории как, в категории модальности. Как следует осмыслить процесс идейного и писательского творчества авторов священной литературы и как можно определить его результат?
Прежде всего надо благодарить Бога, что православная Церковь не связана в выработке своей доктрины богодухновенности путами, в которых бьется латинская библейская наука. Тридентский собор в свое время канонизировал весь текст старой латинской Вульгаты, а новый Ватиканской собор14, повторяя и подтверждая это, мотивировал тем, что библейские книги, “написанные по вдохновению Духа Святого, имеют своим автором Бога” (propterea quod Spiritu Sancto inspirante conscripti, Deum habent auctorem)15. Навязать нам такую механическую и юридическую доктрину пытался в 40-х годах XIX века обер-прокурор Святейший Синода граф Протасов, питомец петербургского иезуитского пансиона. Он предлагал Святейшему Синоду по подобию Вульгаты канонизировать употребляемый Русской Церковью ново-славянский текст Библии в его далеко не исправном виде. Но броня богословской учености и исповеднического мужества Митрополита Московского Филарета16 заградила к нам доступ этому схоластическому фетишизму буквы. Что касается грубой формулы, что “Сам Бог — Автор священных книг”, то латинские библеисты дипломатически обязаны пестрить им свои критические работы, в то время, как самые эти работы построены на гораздо более тонкой дистинкции Фомы Аквинского между revelatio ‘откровение’ и только inspiratio ‘вдохновение’. Это означает, что священные писатели в редких только случаях получают свыше новые, им по-человечески недоступные идеи, обычно же только побуждаются к писанию богодухновенностью, которая лишь просветляет их способности и предохраняет от вероучительных заблуждений, но не изменяет процесса писания, свойственного авторам как нормальным людям с естественными чертами индивидуальной ограниченности. Конечно, все от Бога, о Нем бо живем и движемсяи есмы(Деян 17:28), но тогда вообще Бог есть Автор всего доброго в мире. И тогда эта формула как слишком общая ничего в данном вопросе не разъясняет. Формула, что Бог есть causa principalis (лат. ‘первопричина’ — Ред.), а писатель священной книги — causa instrumentalis (лат. букв. ‘инструментальная причина’, то есть механический способ осуществления — Ред.), либо является пересказом указанной общей неопределенной идеи о Боге как источнике добра, либо призвана уяснить первую острую тезу об авторстве Самого Бога; в таком случае она выявляет порочность самой тезы. Именно она навевает мысль как бы о “диктате с неба” и механической записи продиктованного. На эту магическую идею сбивались ранние христианские писатели. Мученик Иустин Философ уподоблял богодухновенность действию смычка на цитре и Афинагор — вдуванию звуков во флейту. Но когда Монтан припугнул всех языческим автоматизмом своего лжепророчества, мысли о такой инструментальности священных писателей почти бесследно исчезли со страниц святоотеческих творений. Наоборот, у Отцов многократно развивается идея ясной, здоровой, полной и свободной деятельности ума и сознания библейских авторов в моменты их богодухновенной работы. Вот типичное рассуждение об этом святителя Василия Великого в предисловии к комментарию на Исаию: “Некоторые говорят, что пророки пророчествовали в исступлении, так что человеческий ум затмеваем был Духом. Но противно самому назначению наития — делать богодухновенного исступленным, так, чтобы он, когда исполняется Божественных наставлений, выходил из свойственного ему разума и, когда приносит пользу другим, сам не получал никакой пользы от собственных своих слов. И вообще, сообразно ли сколько-нибудь с разумом, чтобы Дух Премудрости делал кого-либо подобным лишенному ума и Дух ведения лишал разумности? Свет не производит слепоты, а, напротив, возбуждает данную от природы силу зрения. Так и Дух не производит в душах омрачения, а, напротив того, возбуждает ум, очищаемый от греховных скверн, к созерцанию мысленного. Что лукавая сила, злоумышляющая против человеческой природы, может производить в мыслях замешательство, в этом нет ничего невероятного. Но нечестиво утверждать, чтобы то же самое действие производило присутствие Божие”17. Так же рассуждали блаженный Иероним, святитель Епифаний Кипрский и другие.
Нельзя ссылаться на второй стих 44 Псалма — язык мой трость книжника скорописца в доказательство “диктата с неба” и автоматичности библейских писателей, ибо это сказано в поэзии. Это условный метафорический язык, как и у нынешних поэтов, образно описывающих психологию творческих моментов в виде восприятия голоса муз и богов. Эта самохарактеристика поэтов интересна нам тем, что она указывает на то место и на ту роль в естественном творчестве, какие может занять действие Духа Божия у писателя священной книги, ничуть не урезая и не подавляя его нормальной психики. Все человеческое в нем функционирует полностью и лишь обогащается невесомым, духовно преображающим додатком. Мысль о диктате с неба нелепа уже потому, что слишком часто в библейском тексте бросаются в глаза немощные, дефектные черты человеческой литературы. Например, не менее трети Библии написано стихами, часто плохими стихами на наш взгляд, с вычурной игрой в акростихи. Многие авторы брали в основу своих книг легендарные полуфантастические истории (Есфирь, Иудифь, добавления к Даниилу, поучительные романы, повесть об Ахикаре в книге Товит). По меньшей мере неумно все эти человеческие свойства и материи возводить к внушениям Духа Святого.
И лишь поскольку и святоотеческая мысль утвердила положение о полноте действия естественной человеческой психики и об отражении ее в самых писаниях священных авторов, постольку догматически оправданы и узаконены и те методологические операции над текстом и содержанием Библии, которые требуются научным знанием. Критическая работа тут уместна потому, что она прилагается к подлежащему ее ведению человеческому элементу: он здесь полностью дан. Дан, ибо Библия есть не только слово Божие, но и слово человеческое в их гармоническом сочетании, точнее — слово богочеловеческое. Наше обычное выражение слово Божие догматически бесспорно, но неполно, как и выражение Иисус Христос — Бог верно, но неполно; точнее — Богочеловек. Стало быть, формула “Бог — Автор священных книг” должна звучать как монофизитский уклон в сторону от нашего халкидонского Православия. Таким же уклоном было бы и исключительное держание за одно только выражение слово Божие. С лозунгом слово богочеловеческое мы утверждаемся на незыблемой скале Халкидонского догмата; это — чудесный ключ, открывающий путь к самым центральным спасительным тайнам нашей веры, и в то же время это благословение на безгрешное построение в Православии критического Библейского знания. Конечно, рассуждаем мы здесь не по тожеству, а лишь по аналогии с христологическим догматом, ибо тут нет боговоплощения, а лишь сосуществование человеческого начала с Божественным. Здесь без ереси уместны формулы антиохийского богословия: обитание Духа Божия в человеческой оболочке слова библейского, как в храме, без неслиянной и нераздельной ипостасности.
Эту нашу руководящую идею о богочеловеческом характере библейского слова нам отрадно было встретить у авторитетного отечественного догматиста, Преосвященного Сильвестра (Малеванского — Ред.). Вот его слова: “Это нравственное сближение Духа Божия с духом пророков так было внутренне и глубоко, что в нем нельзя не примечать некоторой аналогии с тем объединением Божеского и человеческого, которое явилось в лице Иисуса Христа через принятие естества человеческого в ипостась Божества <…> И если пророк открываемое Духом Божиим высказывал свойственным ему языком человеческим и под ограниченными образами доступных его сознанию представлений, то это не препятствовало ему сознавать, что он высказывал здесь не свои мысли, а мысли Божии, не свои личные слова, а слова Господни.
Таким образом, богодухновение пророческое было действием Божиим, в некотором отношении похожим на воплощение или вочеловечение Бога Слова в лице Иисуса Христа, а именно было действием непосредственного снисхождения Духа Божия к тем из людей, которые по степени своего нравственного развития способны были к тому, чтобы воспринять Его откровение и быть органами его и носителями (см. 2 Пет 1:21). И это снисхождение Духа Святого к святым Божиим людям ничуть не сопровождалось для них оцепенением или омертвением их душевных сил, а, напротив, их личное сознание от этого становилось еще несравненно более прежнего светлым, широким и глубоким, сохраняя при этом даже все свои личные особенности в образе понимания и представления вещей”18.
Вот эти-то “личные особенности в образе понимания и представления вещей” у писателей и редакторов священных книг и составляют то чисто человеческое начало, с его ограниченностью и возможностью всяких внешних недостатков и ошибок (не касающихся существа догматов), которое органически входит в состав Священного Писания как “слова богочеловеческого”, как откровения Божия, воплощенного в естестве человеческого литературного творчества и посему достойно и праведно измеряемого и изучаемого нами по законам и методам историко-филологической науки. Отсюда и возникает, между прочим, необходимость построения исторического библейского богословия, исследующего конкретные, ограниченные черты в учении того или иного писателя или просто библейского текста, наряду с богословием только систематическим, подводящим под объединительные формулы все разнообразие тысячелетней библейской письменности. Человеческое начало в слове Божием, таким образом, узаконяет введение в библейскую науку исторического метода с его руководственной идеей развития, эволюции, которой подчинено все человеческое, ограниченное в пространстве и времени.
Что же это — релятивизм?! захотят припугнуть нас словом наши Ферапонты19. Да, релятивизм, если хотите, но на своем месте и в свою меру, именно там, где и как ему подобает быть. Это у еретиков-монофизитов, у “нетленно-мнимых” (автартодокетов), юлинианистов, фантасиастов нет места релятивизму в таинственном богочеловеческом сочетании. А у нас, православных халкидонцев, относительное, человеческое не поглощено абсолютным, Божеским. Мы не забываем, что и Сам Господь по человечеству растяше и крепляшеся духом(Лк 2:40)20. Сверхъестественное откровение, даваемое свыше людям и через людей, также растет и развивается в истории, от эмбриона и младенческой немощи восходит от силы в силу и достигает меры возраста совершенна.
Мы с большим нравственным удовлетворением узнали, что употребляемый нами в преподавании эпитет богочеловеческое в применении к Священному Писанию и осмысление идеи богодухновенности по аналогии с догматом об образе соединения двух природ в Богочеловеке не только не является домыслом русского богословия, но сравнительно издавна принимается и нашими православными собратьями — греческими богословами. Уже в своем докладе I Конгрессу в Афинах в 1936 г. профессор архимандрит Е. Антониадис кратко подчеркнул “богочеловеческий характер Священного Писания”21. И он же развил впоследствии это положение в специальном трактате “О проблеме богодухновенности Священного Писания”. Из него явствует, что по крайней мере с половины XIX века греческие богословы Константин Контогонис и Александр Ликург положили начало опыту раскрытия православной доктрины о богодухновенности по схеме халкидонской формулы догмата о двух природах в едином лице Иисуса Христа. А современные нам догматисты и герменевты Н. Дамала, З. Росис, Э. Золота, X. Андруцос и сам Е. Антониадис довольно настойчиво и отчетливо выясняют ошибочность прежней непродуманной “механической и магической” теории богодухновенности у священных писателей, при которой упускается из виду их человеческая ограниченность и слабость, что приравнивается греческими богословами к ошибочности “монофизитской”22.
Итак, прилагая на православно-догматических основаниях историко-критический метод к выяснению смысла библейских текстов, мы выполняем первейшее герменевтическое правило святых Отцов: сначала истолковывать буквальный смысл Писания, а затем уже переходить к установке смысла вторичного, — переносного, духовного, прообразовательного, символического, иногда иносказательного. Правда, нужно признать, что изощренные в сравнении со святоотеческой эпохой методы современной нам историко-филологической науки дают нам возможность более точных реалистических достижений в истолковании буквы Священного Писания. А потому буквальный смысл, установленный новейшими средствами, часто расходится с тем смыслом, который был доступен античным святым Отцам. Они не были магами и чародеями в области научного знания. Они, да не только они, а даже и наши ближайшие предки, например, даже богословы XVIII века, не могли знать тех бесчисленных фактов, которыми нас обогатили XIX и XX века, века многочисленных археологических раскопок. Мы приблизились к раскрытию буквального смысла Писания гораздо ближе наших праотцев. Наши потомки в порядке научном еще более превзойдут нас. Полное точное знание исторического прошлого, однако, все равно останется никогда не достижимым.
Но смысл Писания переносный, духовный, пророческий, догматический при этом навсегда остается для нас в основе неизменным и обязательным в том виде и духе, как нам открыли его святые Апостолы и их духоносные преемники — Отцы, столпы Церкви. При менее точном знании буквального смысла ветхозаветных писаний последние легче и теснее сближали его и частью почти отожествляли со смыслом духовным, то есть они были близки к пониманию, которое можно назвать монофизитствующим по мерке халкидонской. Наоборот, буквализм нового научного знания текста Писания нередко ведет библеистов-рационалистов к полному отрыву их от смысла духовного и делает их в этом случае не только еретически несторианствующими, но и прямо внерелигиозными. И тем не менее abusus non tollit usum (лат. ‘злоупотребление не отменяет употребления’ — Ред.). Злоупотребление любым методом, любым догматом и доведение его путем экстремизма до ереси не должно нас, православных, лишать свободы избирать здравый средний, “царский” путь при совмещении буквального смысла Ветхого Завета с его пророческим смыслом. Новая библейская наука, работая историко-критическим методом, антиквирует (объявляет устаревшими— Ред.) весьма многие догадки устарелой учености древней святоотеческой эпохи при истолковании буквы Ветхого Завета и потому ставит на очередь пред православными богословами все новые и постоянно меняющиеся задачи сочетания в каждом отдельном случае типологического смысла данного места Писания с заново уясняемой его буквой. И из частных случаев слагается и общий важный вопрос уже догматической природы: не колеблет ли и не отменяет ли при этом историко-критический метод экзегетики диктуемого нам богодухновенными новозаветными писателями и всем нашим церковным богослужением типологического и символического смысла Ветхого Завета? Не расходится ли эта новая меняющаяся научная экзегеза с догматически обязательным Преданием Церкви?
Тут мы снова перекрещиваемся, как и в вопросе богодухновенности, с тезисом догматическим о церковном, или священном Предании, надо признаться, тоже весьма мало у нас разработанным. Мы — кафолики, а не протестанты, мы постоянно обращаемся и обязаны обращаться к Преданию. Но что есть священное Предание? — об этом неясном предмете у нас очень часто мыслят с упрощенной ясностью, огульно почитая Преданием в церковном быту все, унаследованное нами от предков, без различения качеств положительных и отрицательных, хороших и дурных, забывая, что Церковь, не в своей мистической святой сердцевине, а как явление историческое и бытовое, как процесс богочеловеческий, по своей человеческой стороне включает в себя и нормы и уклонения, и образцовое и дефектное, и непогрешимое и грешное. Иначе не было бы и истории Церкви, не было бы заботы ни иерархической администрации, ни Соборам, постоянно занятым чисткой и исправлениями нарастающих искажений и падений не в личной только, а именно в общецерковной жизни. В частности, в церковном быту чаще всего мы встречаемся со смешением школьного закала мышления, школьных теорем с учением самой Церкви, — предания школы и учебника с Преданием Церкви. Между тем школа ветшает и изживается и с пользой заменяется новой школой, Предание же догматической ценности должно быть нестареющим, неизменным и вечным. Остановить естественный рост школы и науки — задача тщетная и неразумная. Отводить в такой иллюзорной задаче священному Преданию роль щита — значит унижать достоинство Предания до уровня детского или птичьего пугала. Как сфера догматов правильно мыслится в некоем суженном и сжатом круге сравнительно с обширным кругом разнообразных научных, школьных и личных богословских мнений и суждений, так точно и сфера церковного Предания, безусловно и догматически обязательного, должна мыслиться тоже в некоем минимальном круге символьных положений. Все другие циклы разнородных преданий в Церкви должны располагаться около этого основного стержня нашей веры в виде концентрических кругов разного достоинства, разной силы и обязательности, переходя затем к кругам преданий и совсем необязательных, временных, местных, условных, спорных и даже дефектных. Увы, и здесь не избежать той же категории релятивизма, как ни досадно это кажется приверженцам упрощенного приема: рубить с плеча от имени Предания по всякому суждению, которого не слыхали, к которому не привыкли, которого не изучали.
Итак при наличии всех этих оговорок, пред нами все тот же вопрос о символическом, прообразовательном смысле Ветхого Завета, который мы безусловно догматически исповедуем, которым мы буквально дышим во всем нашем богословии, во всей святоотеческой литературе, во всем богослужении, во всем молитвенном благочестии. Как же мы должны богословски-научно осмысливать его, совмещая с историко-критической, археологически-буквальной экзегезой?
Еще в ветхозаветной иудейской церкви в послепленную эпоху начали употребляться символический (= типологический) и аллегорический методы истолкования древней священной письменности. О том свидетельствуют самые ранние раввинистические толкования, так называемые мидраши. Особенно сильное и исторически доказуемое влияние в этом направлении на иудейство оказала эллинская ученость в александрийском центре иудейской диаспоры. Античная философия и филология еще с V в. до Р. X. создали аллегорический метод для осмысливания мифов народной религии. Иудейские писатели в Александрии, начиная с III века (Аристовул, Аристей и другие) воспользовались этим методом для того, чтобы в понятном и в наиболее симпатичном для эллинов духе представить все религиозные и бытовые доктрины израильского народа. Особенно в этом отношении прославился александрийский иудей Филон, современник Иисуса Христа. Его иносказательный, аллегорический, философски свободный, до фантастичности произвольный метод истолкования всего Ветхого Завета не нашел себе прямых, буквальных подражателей в иудейском богословии, но оказал глубокое, длительное влияние на все века древнехристианской святоотеческой письменности, особенно у наследников в том или ином объеме александрийской богословской школы (Климент, Ориген, святитель Кирилл, Великие Каппадокийцы, Ареопагитики, преподобный Максим и так далее). Не только александрийская ветвь иудейства новозаветной эпохи, но и палестинская раввинская экзегеза и палестинское богословие (= начало Талмуда) усвоили себе, так сказать, из общей атмосферы восточной эллинистической культуры аллегорическую и типологическую манеру истолкования библейских текстов. Отсюда взяла свое начало специфически аллегорическая ветвь раввинистической литературы, так называемая Каббала. Как свидетельствует школа, пройденная апостолом Павлом, аллегория и типология были общепринятыми экзегетическими приемами во всех решительно раввинских школах новозаветной эпохи, а не только в александрийском районе. Потому и все новозаветные авторы пользуются указанными методами толкования ветхозаветных мест как самыми привычными и общепринятыми в среде благочестивого Израиля.
Таким образом, с формальной, методологической, богословско-технической стороны между литературными истолковательными приемами позднеиудейских и раннехристианских авторов в их отношении к книгам Ветхого Завета существует полное сродство и даже тожество, как между ветвями, идущими от единого стержня и корня. Различие лишь в содержании делаемых выводов. Новозаветное откровение вооружило глаз, ухо и сердце христиан-читателей Ветхого Завета новым разумением его тайн, закрывшихся от иудеев покрывалом (см. 2 Кор 3:13–16) их неверия в истинного Мессию. Но и новозаветные авторы и святоотеческие их продолжатели в раскрытии новых заповедей Христова откровения, при всех дарах богодухновенности, полученных Церковью со дня Пятидесятницы, не свободны от чисто человеческих недостатков их личного, по-человечески всегда ограниченного ведения. В средствах и методах чисто научного археологического истолкования ветхозаветной буквы и новозаветные писатели разделяют, вместе с их раввинскими учителями и предшественниками, те или иные недостатки чисто внешнего научного знания. Уровень последнего, доступный нам, есть естественный результат медленного двухтысячелетнего роста его. Иными словами, частичный, строго отграниченный релятивистский подход к типологической экзегезе новозаветных авторов имеет свое достаточное обоснование не по ее абсолютной стороне богодухновенного узрения свыше открытых во Христе тайн, но по ее человеческой, школьно-раввинистической научной технике. Приходится различать Евангелистов и Апостолов как богодухновенных вещателей открытых Христом и вверенных Святым Духом хранению всей Церкви абсолютных истин, и тех же Матфея, Марка, Луку, Иоанна, Павла и пр. как учеников ограниченной и дефектной школьно-раввинистической среды. Догматически непререкаемое содержание их учений и истолкований Ветхого Завета по существу не исключает ограниченности их словесной и научной оболочки, почерпнутой из ограниченного, только человеческого источника доступной им раввинистической школы. Отсюда естественный вывод: в толковании догматическом, духовном экзегеза новозаветных писателей связывает нашу церковную совесть абсолютно, в то время как мы остаемся совершенно свободными в критическом научном подходе к их толкованию буквы и историко-фактической стороны библейских текстов. Ограничимся для пояснения двумя-тремя иллюстрациями.
Так, например, евангелист Матфей во 2-й главе дает подряд три цитаты из Ветхого Завета, могущие произвольностью их толкования поразить современного нам рационально настроенного читателя. В стихе 15 Евангелист применяет к бегству святого семейства в Египет слова пророка Осии: Из Египта воззвал Я Сына Моего (см. 11:1), слова ясные по своему буквальному смыслу и по контексту, просто означающие изведение Господом народа Израильского из Египта при Моисее. Далее (ст. 17–18) Евангелист видит осуществление пророческого слова Иеремии о плаче Рахили о детях своих (31:15) в факте избиения Иродом младенцев Вифлеемских. По букве же книги Иеремии речь идет просто об уводе в плен ассирийский 10 колен израильских и о плаче о них Рахили, их общей праматери. Наконец, в стихе 23 рассказ анонимного автора книги Судей (13:15) о том, что судья Сампсон до рождения своего, по слову ангела, наречен был назореем (незир), Евангелист толкует как пророчество о том, что младенец Иисус поселяется с родителями в Назарете (Нецарет). Ссылаясь вообще на пророков, Евангелист, очевидно, разумеет еще большее созвучие в данном случае с пророческой характеристикой Мессии у Исаии (11:1), как нецер — отрасльот корня Иесеева. Само собой понятно, что в сознании ветхозаветных авторов, написавших все эти места, не было тех фактов, которые описывает Евангелист. Ветхозаветные писатели говорили именно о тех ближайших, интересовавших их и их израильских читателей предметах, которые и нам ясны из буквального смысла их выражений и всего контекста их речей. И если бы ветхозаветные авторы сами знали будущую новозаветную историю и даже хотели намеренно сообщить ее факты современным им слушателям и читателям, то цель их не была достигнута, ибо те все равно ничего не могли понять и не поняли, как не понимает этого и все иудейство до наших дней, зная до тонкости и лучше нас букву Писания на своем родном языке. Именно потому, что эта буква сама по себе имеет свой прямой, буквальный, самодовлеющий, исторически и богословски ветхозаветный смысл и не содержит даже загадочности, чтобы побудить разгадывать скрытый в ней новозаветный смысл. Древние израильтяне просто ничего не знали ни об Ироде-детоубийце, ни об Иисусе Назарянине, а потому и речи с ними об этих лицах и событиях не имели смысла. Лишь после новозаветного откровения в лице Иисуса Христа и сошествия Святого Духа на учеников Его и Апостолам, и учителям Церкви, и всем верующим открылся новый смысл всей ветхозаветной истории, ее пророческий, прообразовательный смысл. Лишь ретроспективно стали возможны те бесчисленные пророческие толкования слов и фактов ветхозаветной древности, которыми наполнены все страницы новозаветных писаний и маленький образчик которых мы только что привели.
Что касается метода подобных иносказательных и типологических толкований, то, как мы видим, он заимствовался Евангелистами и Апостолами из современной им иудейской школы. Но содержание открываемых ими этим методом новозаветных истин оказалось совершенно новым и недоступным упорно отвергшему Христа иудейству. И ни один из экзегетов только иудейских никогда бы по методу иносказательному не мог додуматься своим умом, без особого внушения свыше, что, например, трехдневное пребывание пророка Ионы во чреве китове есть знамение тридневного пребывания Сына Человеческого в сердце земли (Мф 12:40). При всем единстве методов символического и даже аллегорического толкования ни один раввин не мог бы даже приблизительно открыть тот сплошь символический и совершенно неожиданный и для иудея, и просто для историка религий-археолога новозаветный смысл в ветхозаветных писаниях и особенно в деталях культового ритуала иудейства, какой нам дан в Послании к Евреям. По технике аллегорической экзегезы тут можно найти местами оттенок парадоксальности, свойственной раввинской школе, но внутреннего существа открываемого нам догматического прообразовательного значения всего Ветхого Завета это не меняет. У апостола Павла, хорошо усвоившего раввинскую школьную методу, эта ухищренность, искусственность аллегорических приемов несомненно наличествует в некоторых случаях. Например, о простом гуманном узаконении Второзакония, не заграждай рта вола молотящего (см. Втор 25:4), апостол Павел говорит как о законе, предписывающем пропитание Апостолов-миссионеров христианства: О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано (1 Кор 9:9–10). Еще причудливее его толкование в 4 главе послания к Галатам (ст. 22–30) символического значения потомства Авраама от Агари. Он прямо предупреждает нас: в этом есть иносказание (¤tinЈ ™stin ўllhgoroЪmena), то есть это аллегория. Потомство Агари — символ закона горы Синайской, закона рабства, ибо имя рабы Агарь означает гору Синайв Аравии. Здесь игра в созвучие на еврейском языке, хотя и не в тожество буквенного начертания слов: Агарь — гагар и гора — гагар. Того же порядка школьно-искусственные по своей технике толкования апостола Павла в Гал 3:11 и Рим 1:17 праведный верою жив будет — Авв 2:4, в Гал 3:16 (и семени его — Быт 12:7; 13:15; 17:8), в 1 Кор 10:4 (от духовнаго последующаго камене — Исх 17:6) и др.
Во внешней технической оболочке подобной искусственной экзегезы несомненно много элемента человечески-относительного, школьно-раввинистического. Но суть и содержание ее вытекают из новозаветного откровения, из богодухновенного озарения ума и сердца уверовавших во Христа — Истинного Мессию. Нам, новозаветным, приоткрылась часть таинственного плана Божественного домостроительства спасения рода человеческого. И это прозрение развернулось пред нашим духовным взором в указанной оболочке типологической, или прообразовательной экзегезы, а потому и самый метод этой экзегезы, возникший в лоне эллинской культуры и передававшийся в мир библейского книжничества, приобретает в наших глазах черты провиденциальности. Он стал не просто культурным спутником, но и сосудом и орудием передачи новозаветного Божественного откровения. Через него внушается нам особое философское созерцание космоса, глубоко отличное от обычного позитивно-механического. В последнем все части мироздания, все его функции и вся цепь происшествий и фактов мировой истории существенно случайны, логически бессвязны, ибо безразумны по своей слепой причинности и бесцельны по своей дурной бесконечности. Но стоит только внести в это демонически страшное мировоззрение, к которому мы, европейцы, однако, легкомысленно и кощунственно привыкли и которому, как околдованные нечистыми силами, идолопоклоннически поработились (см. 1 Кор 12:2), — стоит только внести свет Божественного Логоса, свет Разума, свет Премудрости Божией, мир устроившей, миром правящей и весь мир содержащей, как всякая случайность исчезает; все становится органически цельным, насквозь пронизанным логосом-смыслом, все делается не хаотичным, а взаимосвязанным, друг другу родственным, друг друга отображающим, “как солнце в малой капле вод”, великое в малом и даже обратно — малое в великом. Главная ценность этого живого, религиозного миросозерцания в отличие от мертвого, только философского, гордынно-философского, которое обычно подавляет нас престижем своей тысячелетней славы, — в том, что в нем мы вырываемся из гнетущего царства необходимости, царства отчаяния и смерти в светлое царство свободы, в царство всепроникающего премудрого и благого Промысла Божия, превращающего все кажущееся случайным в разумное и целеустремленное. При этом сплошная ненарушаемая закономерность совмещается с проникающей и направляющей ее волей Творца, а тварная ограниченная свобода духовных существ сохраняется в лоне свободы высшей, абсолютной, Божественной. Таковой должна быть библейская, христианская философия нашего новейшего времени, каковой она была по существу в благословенном, верующем средневековье, как искренняя и радостная ancilla theologiae (лат. ‘служанка богословия’ — Ред.). В свете ее мы не будем ни удивляться типологическому, библейскому и святоотеческому ясновидению, сближающему факты и слова, разделенные бездной тысячелетий и, однако, друг с другом промыслительно связанные, друг в друге мистически отраженные и как таковые духовно, пророчески зримые.
Может быть, мы вправе предполагать, что весь мир в очах Божиих, во всеведении Божием, так сказать, тотально-типологичен, ибо как целое родственно соотносителен во всех частях своих и во всех моментах бытия своего. Но нам, нас ради человек и нашего ради спасения, приоткрыто и дано уловить лишь очень малое, зато самонужнейшее, лежащее на сердцевинной линии плана домостроительства искупления, в формах, доступных нашей естественной ограниченности, — и главным образом ретроспективно, глядя с новозаветного берега на ветхозаветный. Мы, восточные, не имеем еще разработанной богословской теории богодухновенности и научного опыта раскрытия пророческой психологии и психологии творчества священных библейских писателей. А потому да позволено нам будет здесь попутно еще раз подчеркнуть одну необходимую предпосылку при построении этих богословских доктрин. А именно: необходимо помнить, что привычный теперь для нас и механически усвояемый нами из готовой традиции прообразовательный и пророческий смысл многих событий, лиц, фактов, деталей и даже просто одних имен, речений и слов Ветхого Завета ясен и бесспорен лишь после откровений новозаветных, после отверзения ума — разумети писания (ср. Лк 24:45) самих Апостолов, передавших Церкви это разумение. В Евангелии сохранились драгоценные воспоминания Апостолов об их прежней, предшествовавшей этому моменту естественной и ветхозаветной психологической слепоте, пока еще глаза их были удержаны (Лк 24:16). Сам Господь учитывал эту ветхозаветную немощь и слепоту Апостолов. Например, сообщает евангелист Лука: Иисус <…> сказал ученикам Своим: вложите вы себе в уши слова сии: Сын Человеческий будет предан в руки человеческие. Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить Его о сем слове боялись (9:43–45). Следовательно, психология Апостолов, людей избранных, потенциально духовно одаренных для чрезвычайного служения Божественному откровению, тем не менее остается психологией естественной, ограниченной в знании даже вещей Божественных. Точно так же и пророки и писатели книг ветхозаветных не были какими-то противоестественными монстрами в области боговедения, ясно созерцающими картины будущей Евангельской истории и прямо сознательно о них повествующими и их предрекающими. Прежде всего такие противоестественные вещания были бы бесполезным и потому ненужным чудом. Все равно окружающие пророков и писателей современные им люди ничего не могли бы понять из их слов, и слова эти никого бы не назидали, как говорит апостол Павел о невнятной глоссолалии (1 Кор 14). Пророки же, как любящие отцы, педагоги и пастыри, всеми средствами вплоть до элементарных, детски наглядных, юродивых, символических действий старались вдолбить всем, даже самым глупым или строптивым, нужные им спасительные увещания и истины. Говорить преднамеренно загадочно и непонятно о вещах, недоступных учимому народу, значило бы издеваться над слабым естественным разумом людей. Такое представление было бы оскорбительной карикатурой на святой и праведный образ служителей и носителей ветхозаветного откровения. Нет, они говорили о вещах совершенно понятных и близких их современникам. Но они были творцы и энтузиасты. А если даже и в естественном человеческом творчестве наши таланты и гении возвышаются над обычным уровнем и, как мы образно говорим, изрекают нам иногда нечто “сверхчеловеческое”, то тем более люди, водимые Духом Божиим, в минуты вдохновения и орлиного парения их религиозного сознания способны говорить нечто превышающее обычное человеческое прозрение, нечто богочеловеческое. И не столько их ясное сознание, их логической разум вмещали образы и идеи грядущего новозаветного откровения, сколько предощущало их богодухновенное пророческое “сердце” (в смысле библейской гносеологии). Их ясное сознание и логический разум не вмещали даже всей значительности того, о чем они говорили и писали. И как естественные творцы чувствуют свое бессилие выразить все только чуемое и чаемое, но “несказанное”, так и творцы богодухновенные лишь “сердцем” предвосхищали, что Дух Господень или рука Господня побуждали их говорить людям в том или другом случае что-то особенное, великое, всемирное. Оттого язык пророков местами так грандиозен, громоподобен, воистину сверхчеловечен, и многое, может быть, самое изумительное и чудесное в их вещаниях для их живого ясного сознания было невместимо и недоступно, грезилось, якоже зерцалом в гадании (1 Кор 13:12).
Как и в человеческом творчестве, оно было бессознательно, точнее — подсознательно и сверхсознательно.
Чтобы понять это, надо предположительно представить себе: что пережили бы ветхозаветные писатели, прочитав новозаветные книги с их типологической экзегезой и наши святоотеческие и церковные комментарии к ним в том же типологическом духе? Надо допустить, что наличность ветхозаветного “покрывала” помешала бы им непосредственно узнать себя в новозаветном освещении. Но <…> мы верим, что Дух Божий отверзбы им ум разумети(ср. Лк 24:45) собственные писания и они узнали бы себя в нашем разумении их, а потому и согласились бы, образов сбытие зряще23, что в своем прошлом, в законе сени и писаний24 они этого именно и хотели, но еще не знали, и не могли знать, что это сбудется в конкретной истории именно так, а не иначе, то есть не так, как это рисовала себе мысль древнего Израиля.
Но быть может, еще более удивились бы они, если бы мы раскрыли пред ними ту часть деталей, изречений и просто отдельных слов, через которые они подчас рисуются нам, по слову блаженного Иеронима, “не столько пророками, сколько Евангелистами”. Конечно, во всем этом ветхозаветные писатели были лишь вещими сердцем, подсознательными органами Духа Божия, Который возвышал, сублимировал их естественное вдохновение и, не нарушая их личной свободы, направлял их мысли и слова в русло той внутренней связи всех явлений мира, в которой прошлое таит и чревоносит в себе будущее, а, следовательно, и предзнаменует, символизирует его. А потому слова пророков, даже и помимо их воли и сознания, становятся типологическими, соответствующими типологической природе вещей в самом объективном мире. Типологическая экзегеза лишь открывает эту онтологическую типологию мироздания, поражает наше воображение, вдвигая нас как бы в систему взаимоотражающихся зеркал. После этого нам становятся понятными слова удивления Оригена перед особенными свойствами библейских писаний: “Я не думаю, — говорит он, — чтобы в законе и пророках была хотя одна черта, чуждая таинственного”. Но эта таинственность, повторяем, не есть предумышленная, виртуозная игра в загадочность, как бы укрывающая привилегированные истины от серой толпы. Это естественная ветхозаветная немощность, религиозная недозрелость, немота языка и туманность зрения. Но устремлены они к Тому, Кто Сам есть вещей Истина, подсознательно ориентированы на раскрытие этой Истины в Новом Завете. И уже отсюда после Пятидесятницы для нас ретроспективно выявляется Евангелие в законе сени и писаний и Евангелисты в полуслепых еще пророках. Но эти великие ветхозаветные “слепцы”, то есть лишь типологические тайнозрители грядущих откровений Нового Завета, теперь уже предварили нас в небесных ликостояниях вечного Царства Христова и узрели бывшие тайны лицом к лицу (1 Кор 13:12). И теперь, конечно, они едиными устами и единым сердцем сливаются с нами, когда мы в песнопениях нашей земной Церкви восторженно сочетаем ветхая и новая (см. Мф 13:52) в мистическую гармонию:
|
В Чермнем мори |
неискусобрачныя Невесты |
|
образ написася иногда; |
|
|
тамо Моисей, разделитель воды, |
зде же Гавриил, служитель чудесе. |
|
Тогда глубину шествова немокренно Израиль, |
ныне же Христа роди безсеменно Дева. |
|
Море по прошествии Израилеве, пребысть непроходно; |
Непорочная по рождестве Еммануилеве пребысть нетленна. |
|
Сый и прежде Сый, |
явлейся, яко человек, |
|
Боже, помилуй нас25. |
|
И когда наш уже не экзегет, а просто гениальный церковный поэт, Андрей, святитель Критский, аллегорически сопоставляет всю православно-церковную аскетику с образами Ветхого Завета, то и тогда далекие от него до кричащего контраста в конкретной истории герои Ветхого Завета с высоты явленного последним Царства Христова, конечно, также вторят ему: аминь, аминь!
Так торжествующе сочетаются наши научные библейские методы с нашей библейской верой.
VI.
В заключение прошу, братие, в виду наступивших недель покаяния простить меня за, может быть, причиняемую вам духовную тревогу. Делаю это совершенно сознательно, побуждаемый к тому моим нравственным долгом пред святой Матерью-Церковью. И в без того тяжкое время решаюсь обременять вас безжалостным напоминанием еще о новой нравственной и умственной нагрузке, о новой почти сверхсильной научной, богословской, миссионерской и педагогической творческой работе. К терзающим нервы алертам (от франц. alerte ‘тревога’ — Ред.)“от нижних” прибавляю еще алерту духовную — уповаю — “от вышних”. Но я не имею права молчать. Ведь мы с вами принадлежим к великому “всевыносящему русскому племени”. И дела нам предстоят не только “в мире сем”, но и в Святом Православии — великие! Излишняя боязливость нам не к лицу.
Если бы даже и братский нам православный Восток не собирался сдвинуться с первобытной позиции в перестройке своей науки и богословия о Ветхом Завете (но, как мы видели, это уже не так), то все-таки нам, русским, и нашей в угнетении сущей Церкви это не в пример. “Род людской там спит глубоко уж который век!”. Для нас, русских, двенадцатый час давно пробил. Поздно нам “плакать по волосам” и по ритуально-традиционной прическе в стиле “Начертания библейской истории” Митрополита Филарета Московского. Конечно, она благородна, умна — как и все у Филарета — и по-своему архаично-прекрасна. Но, увы, у нас уже “снята голова”. Вместо крещеной головы к телу русского народа приставлена личина воинствующего безбожия. Приставная голова набита и отравлена всеми ядами и семенами псевдонауки — и библейско-критической, в частности. В неизбежно предстоящем Русской Церкви вновь гигантском крестовом миссионерском походе по обширному лицу родной земли нельзя обойтись одними устарелыми средствами из арсенала нашей научно-библейской отсталости. Чтобы бить врага на всех его кажущихся передовыми и научными позициях, нужно самим нам владеть оружием новейшей научной техники. Но для этого нужно ее сначала творчески воспринять, усвоить и преобразить в лоне церковного богословия и церковной истины. Наука во власти бесов революции являет собой духовно-отвратное зрелище. Это сама гомерическая пошлость и ложь, ряженая в лоскутья истины. Интегрально истинной наука становится только под знаменем Креста и в Церкви Христовой. И как же она сильна, как непобедима будет со Христовым Именем!
11.II.1944. Париж
1Развитие науки, однако, свидетельствует о том, что чем скрупулезнее проводятся научные исследования, тем меньше остается противоречий между научными данными и библейскими текстами (см., напр., Протоиерей Глеб Каледа. Библия и наука о сотворении мира // Альфа и Омега. 1996. № 2/3 (9/10); 1997. № 2(13)). С другой стороны, библейская критика дает возможности для понимания текста не в примитивном “прямом” (на деле вульгаризированном) смысле, а с учетом всей его сложной системы поэтических образов и того, что Библия адресована всем людям, в том числе и современникам ее боговдохновенных авторов, и поэтому ее тексты составлены в привычной им стилистике, которую нам следует раскрыть и понять. — Ред.
2Время показало, что “прибитость” Русской Церкви не относилась к ее духовному подвигу, высота которого раскрывается теперь в связи с прославлением сонма мучеников и исповедников Российских. Здесь же речь идет только о состоянии богословской науки. — Ред.
3Имеется в виду Погодин М. П. Простая речь о мудреных вещах. — Ред.
4Написано за несколько лет до образования государства Израиль. — Ред.
5В настоящее время образована Патриаршая и Синодальная Библейская комиссия. — Ред.
6То есть надписание книги не соответствует реальному авторству. — Ред.
7С новыми исследованиями библеистики относительно состава и датировки Пятикнижия читатель может ознакомиться по опубликованному в “Альфе и Омеге” переводу вступительных статей к так называемой Иерусалимской Библии: Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие // Альфа и Омега. 1995. № 1(4). С. 52–66. О составе и происхождении книги Исход см. также Протоиерей Алексий Князев. Господь, Муж Брани // Альфа и Омега. 1999. № 2(20). С. 35–58. — Ред.
8С результатами более новых исследований датировки, атрибуции и состава книги пророка Исаии читатель может ознакомиться, например, по работе: Введение в Ветхий Завет. Книги пророков // Альфа и Омега. 1996. № 2/3 (9/10). С. 41–45. — Ред.
9Глоссолалия — выкликание бессмысленных последовательностей звуков, подчас выдаваемое за “говорение языками”. — Ред.
10С этим утверждением невозможно согласиться, так об утешении Израилевом (Лк 2:25) праведный старец Симеон мечтал; встретивши же Богомладенца, он говорит уже о спасении <…> пред лицем всех народов (Лк 2:30–31), о свете ко просвещению язычников и славе <…> Израиля (Лк 2:32). — Ред.
11Раздел IV, посвященный относительной датировке Пятикнижия, мы опускаем, так как полная его оценка требует и дополнительных данных, и дополнительного обсуждения. — Ред.
12Данная глава прочитана была в актовом собрании с значительными сокращениями.
13См. вышедшую после издания статьи А. В. Карташева работу: Протоиерей Алексий Князев. О боговдохновенности Священного Писания // Альфа и Омега. 1999. № 1(19). С. 10–27. — Ред.
14Имеется в виду I Ватиканский собор 1869–1879 гг. — Ред.
15Dictionnaire de la Bible. T. I / Ed. L. Pirot. Paris, 1928. P. 1030.
16См. его замечательную Записку Святейшему Синоду 1845 г.: “О догматическом достоинстве и охранительном употреблении греческого семидесяти толковников славянского перевода Священного Писания”.
17Comment. in Isaiam // PG 30, 121, 124–125.
18Епископ Сильвестр. Опыт православного догматического богословия. Т. I. Киев, 1884. С. 286–287.
19Очевидно, имеется в виду персонаж из “Братьев Карамазовых” иеромонах Ферапонт — антагонист старца Зосимы. — Ред.
20В Евангелии эти слова впервые относятся к Иоанну Крестителю (см. Лк 1:80). — Ред.
21Proc–s verbaux du I Congr–s de th№ologie orthodoxe … Ath–nes. Ath–nes. 1939. P. 157–159.
22Там же. С. 113–117, 134.
23Третий тропарь 4-й песни Пасхального канона. — Ред.
24Девятая песнь канона празднику Сретения Господня. — Ред.
25Догматик, гл. 5-й. — Ред.

