
«Это новая болезнь, мы еще не знаем, как лечить»
Очир Шовгуров, 65 лет:
— Ребенку было полтора года, его звали Ока. Он, как обычно, заболел гриппом. Естественно, мы поехали в больницу. Положили нас в палату, начали колоть уколы. Я даже не знаю, какие. Антибиотики, наверное, потому что он такой… тяжелый был.
Кололи, кололи, кололи. Вроде на поправку пошел. А потом в конце, когда уже надо было уезжать, взяли кровь.
Врачи жену вызывают и извиняются, извиняются… Потом сказали, что обнаружили в крови ВИЧ-инфекцию. Жена стала спрашивать: «Как это понять, ВИЧ-инфекцию? Какую?» — «Ну это такая болезнь нехорошая». Ее начали успокаивать…

Профессор Т. В. Голосова с листовкой, изданной для пропаганды профилактики СПИДа. 1987 год. Фото: Роман Подэрни / фотохроника ТАСС
Потом я пришел и стал спрашивать, каким путем это все произошло. Они признались, что инструментальным, через шприцы. Тут слезы полились, жена плачет — не поймем, что это за болезнь, а врачи не говорят.
Потом домой уже выписались, приехали. Сын вроде выздоровел, начал бегать. А потом каждый год стал чаще болеть: кто-то кашлянет, мимо кто-то пройдет или просто так — раз и заболел гриппом.
Нас уже стали возить не в детскую больницу, а в какое-то помещение в Элисте — вроде как больницу. Оказалось, это был ВИЧ-центр. А уверенности, что это ВИЧ, у нас не было, никто еще толком ничего не знал.
Где-то через год жене предложили поехать в Москву в ВИЧ-центр и провериться, она [с сыном] уехала. Что-то нет и нет ее, и я следом поехал, приехал к врачу.
— Как мужчина мужчине говорю: [у сына] ВИЧ, — сказал он.
— Да я знаю, что ВИЧ. Только вы мне объясните, что это такое — ВИЧ. Все «ВИЧ-ВИЧ» говорят, а толку? Понятия не имею.
— Неизлечимая болезнь, новая болезнь, мы еще не знаем, как ее лечить. Во всем мире ничего не знают.
Ну и тоскливо стало, естественно… Я говорю тогда жене: «Что там валяться, в этой больнице? Давай, собираемся, уезжаем». Приехали домой. Злость такая была… Хотел найти, но так и не нашел никого, кто это сделал [заразил]. Слухи доходили, что какой-то мужчина ездил в Африку, что-то повредил, ему сделали операцию и заразили. Но это уже не так важно…
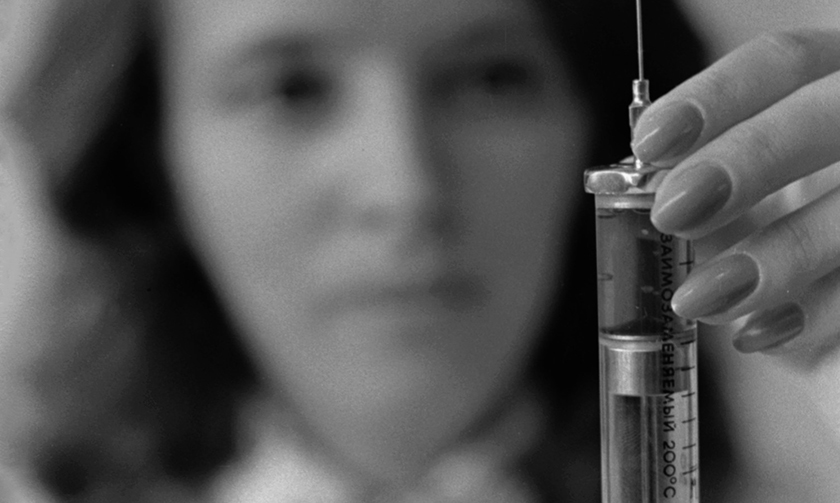
Тяжело, конечно, было — особенно жене. Она же в основном смотрела за сыном, я-то работал все время. Ока же вроде просто чаще стал болеть: то грипп схватит, то еще что-нибудь. Ну болеет — и болеет. Дети все болеют, гриппуют. А как подумаешь, что болезнь неизлечима, — плохо становилось.
В школу пытались походить при ВИЧ-центре в Элисте, а там то один ребенок придет, то два ребенка, то вообще никто не придет. Они же то болеют, то умирают. И потом эту школу закрыли совсем. Она долго не просуществовала, год-два.
Мы вроде скрывали, что сын болеет, а практически все знали. Кто-то боялся руку протянуть поздороваться со мной, с женой — очень редко было, но такие люди находились из друзей. Кто-то вообще прятался от нас, но тоже очень редко. А так вообще с сочувствием относились, приходили в гости, ели с общей тарелки — ничего, все понимали. Потом уже, когда начали объяснять по телевизору, по газетам рассказывать, что эта инфекция не передается через руки, а только через кровь, люди перестали бояться.
Ока не знал, что у него ВИЧ. Он 11 лет прожил — все равно ребенок же.
Он спрашивал: «Почему я иду в эту больницу, а не в детскую?» Ну мы отмалчивались. Обманывали, как могли, чтобы не шокировать.
Он такой слабенький был, ласковый, нежный. Все время с матерью, с матерью. Любил в шахматы играть, в шашки… Вспоминать его начинаю — и только больница в голове, и все. Эти девять с половиной лет [одинаковы]: заболеет, затяжелеет, инфекцию схватит — больница. Потом вроде полегчает, антибиотики проколют, привозим домой. Через некоторое время — опять в больницы попадаем. Больница — дом, больница — дом. Ну изредка по двору походит, погуляет, побегает… Похудел он, прямо в скелет превратился. Ну естественно — болеет, не ест ничего, не пьет…
А потом он тихо умер. Заболел, затяжелел, лежал-лежал, сердце остановилось — и все. У меня после него дочка родилась. Ей 21 год, она сейчас университет закончила…

Станция тестирования на СПИД, Москва, 1987 г. Фото: Владимир Веленгурин / фотохроника ТАСС
Мы требовали, чтобы каждому родителю выплатили по 10 миллионов, но компенсировали по 300 тысяч за ребенка. И все. Потом мы требовали, чтобы родителям платили пенсию. Но это все прошло мимо. Ни Москва не отреагировала, ни Элиста. Сейчас мы хотим опять массово пойти и рассказать об этом всему миру.
«Сережа умер у меня на руках»
Александр Горобченко, 66 лет:
— Сережа, сын, игрался с друзьями во дворе. Упал, вроде сильно ударился — попал в больницу. В больнице его и заразили. Потом начали проверять всех, кто там был, кровь брали на анализы, посылали в Москву. И где-то через полгода мы узнали. Было ему 12 лет.
Четыре года я возил Сережу по больницам. Слабость, немножко подлечат — месяц дома. Потом опять. Он до конца не знал [что у него ВИЧ], мы ему не говорили. Уже потом, года через два, когда ему было плохо и когда я возил его в Москву в ВИЧ-центр, — он там только узнал.
Мы прятались от всех людей. Как бы вам объяснить… Даже с родственниками отношения разладились. До сих пор не общаемся с ними. Они не хотели общаться — раньше никто не знал, что это за болезнь. И мы толком не знали… В больнице лежали тоже, собирались [пациенты], манифестацию проводили целую: «Спидики, уходите отсюда!»

Очередь на анонимное тестирование на ВИЧ
Мне пришлось уйти с работы, это было в 89-м году. Меня не выгоняли, но давали понять. Жена работала, а по больницам — я в основном. Я до этого водителем работал, постоянно в командировках. Поедешь на месяц, а приезжаешь — не знаешь, что тут. Это сейчас по телефону позвонил, а раньше?
Сережа умер у меня на руках — он как чувствовал… Ему было шестнадцать с половиной лет. Собирал сигареты разные, монеты, почтовые марки. А в тот день, когда умирал, говорил: «Папа, ты сигареты отдай тому-то, [остальное] сестрам пораздай».
У меня дочка еще одна, ей 40 сейчас. Она младше Сережи на пять лет. Бывало, поругаемся, он защищает ее: «Папа, не ругай. Маленькая она еще, не понимает». Вообще добрый был. Сейчас не знаю, каким был бы, а тогда был…
Домой привезли из больницы его, когда хоронили. Дочка плакала. Они как-то поругались, она сказала на него: «Чтоб ты сдох». Я ее ударил, сын начал защищать. А потом, когда Сережу похоронили… Она до сих пор вспоминает, себя винит. Знаете, как тяжело вот это сейчас вспоминать?
Сейчас нам уже по 70 лет, кому-то 65. Почти все потеряли работу, из-за этого и стаж [не шел], и пенсия маленькая.
Квартплата растет. Жена получает пенсию 11 тысяч, она уходит на квартплату и лекарства, на мою пенсию живем.
Мы встречаемся — свои, родители тех, кто болел, боремся, общаемся. Тридцать лет воевали, я только в прошлом году получил компенсацию за сына — 700 тысяч выплатили.
«Даже родственники не пускали нас домой»
Мария Шолдаева, 69 лет:
— Сына звали Вадим, было ему всего девять месяцев. Все началось с самого простого ОРЗ. Заболели мы, простудились, пошли в больницу, а пришли со СПИДом, про который мы слышать не слышали: 89-й год, мы даже понятия не имели, что это за болезнь. Вся надежда была, что в Москве нас вылечат.
Нам сразу не говорили. Мы-то были сельские. Я слышала, что городские почему-то уходят [из больницы] со своими детьми домой, ну я приехала за своим. А уже потом [к нам] приехала молодая медсестра: начала издалека, что нам надо провериться, из Москвы приедут врачи, надо обследовать, это будет в инфекционной больнице.

Элистинский родильный дом. Фото: Константин Тарусов / фотохроника ТАСС
Ну поехали — нас повезли на скорой. Опять ничего такого конкретно не говорили: просто, что где-то там в Америке СПИД. А я думала: «При чем тут Америка?» Вы читали, говорит, литературу? Да мне некогда это читать…
Потом нас повезли в Москву. Там протестировали и выявили СПИД. Ну многие даже понятия не имели, что это. Когда говорили: «У вашего ребенка СПИД», одна мама вообще сказала: «Да он, наверное, родился так».
Такое было вообще — страшно вспоминать сейчас…
Пока четыре года сын жил, все время болел, постоянно был на лекарствах. Ну а потом слухи очень быстро распространились.
Мы жили в маленьком селе. Было очень плохо… Никто к нам не заходил, никто с детьми нашими не играл.
Даже грозились нас поджечь, потому что мы ж «заразные». А мы-то вообще понятия не имели — все надеялись, что нас вылечат.
На тот момент даже родственники не пускали нас домой. Теперь-то я понимаю: у них тоже маленькие дети, их тоже можно понять. А каково же нам было обидно, если родные боятся? Как теперь? Ну как сказать… Сердцу не прикажешь. Умом понимаю, а на сердце все осталось. Общаемся? Ну да… Но мы далеки друг от друга.
Это были самые трудные времена… И без работы остались. Муж мой до этого работал, а я-то была с ребенком. Как могли, так и жили. Мы ж сельские, какое-то у нас хозяйство было.

Медработники во время выезда к жителям Элисты, чьи дети могли быть в контакте с заболевшими. 1989 год. Фото: Константин Тарусов / ТАСС
Как Вадим умирал? Ужасно. Даже вспоминать не хочется, как. Сгорел он просто. Сгорел. После него дочка, сын потом родились, слава Богу. А у многих было по одному ребенку, больше нет.
А теперь на старости лет ни ребенка, ни стажа. Минимальная пенсия. Тем более, у нас в Калмыкии вообще до минималки никогда пенсия не дойдет, наверное… Даже никогда не вспомнят на День СПИДа. Хоть бы какую-нибудь помощь оказывали, но нет. Моя пенсия — десять с половиной тысяч, и то это недавно добавили тысячу рублей. А большая часть уходит на коммуналку — и живи как хочешь.
Мы на протяжении тридцати лет это все пытаемся [решить]. Нет никакой компенсации. Они себя виновными не признают. 300 тысяч? Чего нам стоило, чтобы эти 300 тысяч выплатили! Но это разве компенсация?





