
С японской точки зрения мы совершенно не умеем себя вести
– Правильно ли, что нельзя стать японцем, можно только родиться им? Если приехать в Японию и там жить, все равно не станешь стопроцентным японцем?
– В любое общество довольно трудно интегрироваться. Но в японское, безусловно, труднее, чем в западное, хотя Запад большой, и там по-разному происходит. На Западе проще интегрироваться, но, с другой стороны, мы видим, как в последнее время в мире нарастают совершенно противоположные тенденции. Много говорят о глобализации, но нарастает и национализм.
Не давая оценку этому явлению, отмечу, что чужакам в Европе становится все труднее. Если уж в Америке, стране эмигрантов, заговорили о том, что столько иностранцев не нужно, то это свидетельствует о каких-то радикальных изменениях, которые происходят в мире.
– Есть ли разница между тем, как шутят россияне, и тем, как шутят и над чем смеются японцы?
– Есть японцы, которые хорошо понимают юмор, а есть, кто плохо. Мне кажется, что у нас то же самое. Если говорить в целом, то общение японцев друг с другом и с иностранцами до сих пор все-таки намного более формализованное, чем у нас. Поэтому, конечно, японцы шутят, но ситуаций, в которых они себе это позволяют, все-таки меньше.
Поэтому на русских и вообще западных людей они производят впечатление несколько зажатых. С японской же точки зрения, мы, европейцы, а об американцах и говорить нечего, совсем не умеем вести себя: японцы так себя не ведут, развалившись не сидят, не размахивают руками, громко не смеются – это считается неприличным.
– Вы чувствуете в себе немного больше японскости, чем было до поступления в институт?
– Большее понимание, безусловно. Каким-то вещам я у японцев научился. Но я остаюсь русским человеком, с немножко японским разрезом глаз. Я знаю, что одни и те же проблемы в разных культурах решаются по-разному. Это приучает к терпимости.
– Как шел выбор направления уже в японистике? Как вы там себя искали?
– Во время учебы в университете я уже хорошо понимал, что не хочу врать. Я учился на историческом отделении, и это автоматически означало, что современную тематику я для себя закрывал. Разумеется, я читал и газеты, и журналы, и книжки о современности. Но там было столько лжи, я в этом не хотел участвовать. Поэтому я искал такую нишу, где можно не врать. Оставались только древность и средневековье.
Я не хотел заниматься литературоведением, хотя обожал художественную литературу и сам писал стихи и прозу. Потому что когда ты начинаешь копаться в тексте, расчленять его, то чудо исчезает. Да, понимаю, что это кому-то ужасно интересно, но я этого не хотел. У меня такое же представление о цирке. Я всегда любил цирк и сейчас люблю, это чудо. И фокусы – это чудо. Но я не хочу знать секреты этих фокусов, потому что если ты узнаешь, какие там зеркала стоят или где там у них двойное дно, то всё, чуда нет… А вот если ты не можешь понять, как это делается, это так здорово! Я восхищаюсь фокусниками, которые умеют работать одними руками.
В институте я реально плакал над японским
– Как вы выбрали японистику, почему именно это направление?
– Мой дядя был китаистом. В доме было довольно много китайских вещичек, и книжки были китайские. Это же очень важно, когда иероглифы ты видишь с детства, пускай ты их не понимаешь, но они делаются каким-то привычным антуражем. Или какие-нибудь китайские фигурки…
При этом вещи были довольно хорошие, потому что дядя провел пару лет в Китае в начале 50-х годов. А в Китае тогда была настолько бедная жизнь, что все эти предметы искусства ничего не стоили, поэтому он мог купить довольно хорошие вещи. Кроме того, там он купил много хороших русских книг, которые здесь были в дефиците.
Когда настало время выбирать, в какой институт пойти, у меня была фантазия, что я хочу быть поэтом или писателем. Но этому в советских вузах не учили, за исключением факультета журналистики и Литературного института… При этом в Литературном учили уже взрослых людей, имевших публикации.
Я мечтал, что если я поступлю на факультет журналистики, то мне будет хорошо: журналисты ездят по стране, встречаются с разными людьми, а потом об этих встречах и поездках интересно рассказывают в газетах. Но дядя, который заменял мне отца, сказал: «Послушай, что ты себе придумываешь? Ты газету «Правда» читал?» Я говорю: «Да, газету «Правда» читал». Туалетной бумаги тогда ведь не было, у нас была коммунальная квартира, поэтому все советские газеты в общественном туалете были представлены в лучшем виде. «И что, тебе это нравится?» Я говорю: «Нет, не нравится».
Тогда он говорит: «И это еще повезет, если ты попадешь в какую-то большую газету, но там тебе придется всю жизнь врать – тебе это охота?» – «Нет, неохота».
– «А большая часть журналистов работает в заводских многотиражках, и там будешь про передовиков писать, тебе это охота?» Я сказал: «Нет, неохота».
Потом он сказал: «Иди по моим стопам, поступай в ИВЯ – Институт восточных языков при Московском университете (ныне Институт стран Азии и Африки МГУ). Выучишь язык, а дальше – хочешь, будь журналистом, но на факультете журналистики образование – никакое». Потом я действительно убедился в этом. Ребята, которые в ИВЯ не выдерживали учебной нагрузки, уходили на журналистику. На Моховой ведь эти здания стоят рядом. И оказалось, что те, кого хотели отчислить из ИВЯ, там мгновенно становились отличниками.
Хорошо, иду в Институт восточных языков, но какой язык учить? Раз дядька – китаист, подам-ка документы на китайский, а он мне говорит: «Подавай на японский. Сейчас Япония на подъеме». Действительно, это был 1968 год, всех впечатляло, как стремительно может подняться азиатская страна. У всех она вызывала очень большой интерес, и уже тогда, в конце 60-х годов, слово «Япония» ассоциировалось с качеством.
Я очень хорошо помню, что на улице Горького (ныне Тверской) в подземном переходе стояли цыганки и торговали «японскими плавками» (так они их рекламировали). Понятно, что плавки были не японские, но, тем не менее, для привлечения покупателей слово «японский» начало звучать как гарантия высокого качества. Я подал документы, более-менее успешно сдал экзамены и поступил в Институт восточных языков.
– Как шло постижение японского языка? Правда ли, что самое сложное в нем – это иероглифы?
– Поначалу это было сложно, потому что японский язык мне не давался, хотя я занимался очень прилежно. Но японский просто не влезал мне в голову.
Все сложно: другая грамматика, другая фонетика, иероглифы. В Институте восточных языков у нас была одна нервная преподавательница, она мне за контрольные ставила единицы. Я плакал, реально плакал, так мне было обидно. Так получилось, что в начале первого курса мама в кои-то веки уехала отдыхать, я жил как раз у дядьки с теткой, они меня утешали и говорили: «Терпение и труд все перетрут».
Оказалось, что они были правы. Я продолжал заниматься, и на втором курсе я был уже по японскому языку отличником.
Произошло это одним щелчком: вчера не получалось, а сегодня стало получаться – количество перешло в качество. Поэтому я и студентам всегда говорю: «Японский язык трудный?» – «Трудный!!!» – «Но 120 миллионов человек говорят на этом языке, и вы не глупее, выучите. Не нужно пугаться».
– Любой человек при желании может выучить японский?
– Любой человек может выучить любой язык. У меня на этот счет нет никаких сомнений, но не нужно себя жалеть. Первые три курса моя рабочая неделя была посвящена занятиям с утра до ночи.
Я удивлялся, что мои бывшие одноклассники занимаются только в сессию.
И я понял, почему китайцы, корейцы и японцы – народы, связанные с иероглифической письменностью – такие трудолюбивые. Не будешь стараться, не выучишься даже читать, а дальше привычка к труду входит в плоть и кровь.
Вот я иногда с улыбкой и думаю: в Древнем Египте тоже писали иероглифами, и он был передовой страной с самыми большими в мире гробницами, в нынешнем же Египте пишут арабицей, и вряд ли нужно напоминать, в каком месте мирового организма он находится. Так что, если бы я был президентом, то перевел бы русский люд с кириллицы на иероглифику, и мы бы быстренько догнали и перегнали окружающих нас латинян по всем параметрам. И тогда, наконец-то, сумели бы избавиться от своих национальных комплексов.
В Японии воровства очень мало
– Как-то вы говорили о том, что «английское население из-за перенаселенности выбросилось во внешний мир, а японцы продолжали жить на месте, существовать и чувствовали себя вполне благополучно и хорошо». Как вам кажется, есть ли нации-экстраверты и нации-интроверты, или есть какое-то другое объяснение этому?
– Население тех стран, где культивируется заливное рисосеяние, как правило, интровертно. Заливное рисосеяние требует создания плотин, каналов. Когда в землю вложено столько труда, то человек приходит к мысли, что чем искать лучшей доли где-нибудь за морем, за лесом, лучше совершенствовать агротехнику у себя на родине. Посмотрите, в Китае ведь тоже не было великих мореплавателей и открывателей земель, и в Японии то же самое.
– Без риса они не смогли бы прожить?
 – Они не смогли бы прокормить столько населения без риса, потому что рис, за исключением кукурузы, самая плодородная зерновая культура на планете. В начале XVIII века в Японии было чуть более 30 миллионов человек. Для того времени это огромное население, потому что население России в начале XVIII века – 15 миллионов, Англии – 7 миллионов, Франции – 15 миллионов. Другое дело, что потом почти полтора века население Японии не росло. При том способе хозяйствования, который был принят, большее количество населения содержать было невозможно.
– Они не смогли бы прокормить столько населения без риса, потому что рис, за исключением кукурузы, самая плодородная зерновая культура на планете. В начале XVIII века в Японии было чуть более 30 миллионов человек. Для того времени это огромное население, потому что население России в начале XVIII века – 15 миллионов, Англии – 7 миллионов, Франции – 15 миллионов. Другое дело, что потом почти полтора века население Японии не росло. При том способе хозяйствования, который был принят, большее количество населения содержать было невозможно.
Самое большое население живет в рисоводческих странах – тот же самый Китай, Индия. Там, где развито животноводство, такого населения не бывает. Стойбищного животноводства не существовало, так что животноводство требовало очень больших территорий. С нынешней точки зрения эта территория использовалась крайне непроизводительно. Сейчас население Японии составляет около 125 миллионов человек. Площадь территории в 40 раз меньше, чем в России, а население почти такое же.
– Вы писали также о том, что успех модернизации заключается не в том, чтобы людей заставить что-нибудь сделать, а заставить поверить, поставить какую-то цель, чтобы люди поняли, в чем задача реформ. Как вам кажется, пример Японии в этом смысле успешен? Это успешный пример модернизации?
– Конечно, успешный. Япония приступила к модернизации во второй половине XIX века и проделала ее чрезвычайно быстро. Ключевое условие успешных реформ состоит в том, что население должно верить политической элите и разделять те цели, к которым стремятся реформаторы. С помощью законов заставить людей не воровать практически невозможно – это мы наблюдаем и в России, и в Америке.
В Японии наказания за одни и те же преступления менее строгие, чем в России или в Америке. Но в Японии воровства очень мало. В Америке же почти любой чиновник продаст тебе, что хочешь. Вопрос не в том, продаст он или не продаст, вопрос, за сколько продаст. Про Россию нынешнюю даже и говорить смешно.
Наше время запомнится потомкам тем, что такого воровства никогда не было в российской истории.
В этих условиях пропагандировать какие-нибудь большие и благородные цели не получается. Что мы видим? На какие реформы население согласилось бы? Например: давайте поднимем жизненный уровень, если все будут хорошо работать, наш жизненный уровень будет расти. Правительство же такого не говорит, правильно?
Объединяющей силы нет. Объединяющая идея, которую предлагает власть – это мощная Россия, которую все боятся. Но на этом сколько-то долго проехать невозможно и невозможно на этом поднять страну.
– В Японии появилась ли какая-то новая цель модернизации? Вы сказали, что потенциал послевоенной модели выработан, а какую задачу японцы ставят перед собой сейчас? Придумали ли руководители Японии, что дальше народу делать в глобальном смысле?
– Сейчас такой безоблачный период – люди живут себе и живут. При этом жизнь в Японии на самом деле не очень легкая. Не нужно думать, что это сплошное наслаждение. Нет, жизнь довольно трудная. Но она благополучная в том смысле, что нет больших имущественных разрывов, нет межкультурных разрывов, поэтому страна живет себе и живет.
Другое дело, что в нынешнем мире страна сама по себе не может жить. Япония находится в окружении стран, которые обладают ядерным оружием. Поэтому довольно многие японцы этого боятся. Настанет, я думаю, момент, когда США откажутся защищать Японию. Тогда японцы тоже заведут себе огромную армию и ядерное оружие, которое они могут сделать хоть завтра. И это будет уже другая Япония.
– Там очень большое и сильное движение против атомных электростанций.
– Сильное, антиядерные настроения сильные. Многие в Японии сопротивляются желанию создать ядерное оружие. Но исходя из общих соображений, если у всех есть ружье, а у тебя нет этого ружья, ты волей-неволей его заведешь, иначе тебя сожрут, и всё.
Учителя: мы смеялись вместе, и это было счастье
– Ваше детство совпало с эпохой первых космических полетов, с началом «оттепели». Как вы сейчас вспоминаете ваше детство, каким оно было?
– Полет Юрия Гагарина я, конечно, помню. Я возвращался из школы, был солнечный апрельский день, и вдруг ни с того ни с сего на втором этаже желтенького домика на улице Фурманова (ныне – Нащокинский переулок) распахнулось окно на улицу, и какая-то увесистая тетка в замызганном халатике завопила: «Наши в космосе!» Кричала от души.
«Оттепель»? Я родился в 1951 году и был слишком маленький, чтобы этим интересоваться. Уже намного позже я узнал, что в 1959 году, когда я мучился чистописанием, за издание рукописного журнальчика из школы выгнали знаменитого диссидента – Владимира Буковского. Директора тоже выгнали. В актовом зале стояли два постамента, на одном Ленин, а другой – пустой. Он предназначался для Сталина, которого я уже не застал. Куда подевался битый гипс, я не знаю. Возможно, из осколков склеили статую Хрущева, а потом и Брежнева.
Конец же оттепели я вспоминаю по бытовым обстоятельствам. Перед тем, как в 1964 году сняли Хрущева, начались перебои со всем, в том числе и с хлебом. Бабушка меня просила, чтобы я на обратном пути из школы занял очередь за хлебом – если, конечно, подвезут. А потом следовало бежать за бабушкой, чтобы она эту очередь выстояла до конца. А там стояло человек сто.
Мы жили бедно, но не голодали, и родившаяся в деревне бабушка кормила нас самой дешевой и самой вкусной, как мне казалось, пищей: пирогами, блинами, оладьями. Но когда в магазинах кончилась мука, бабушка Аня стала печь гороховые оладьи. Сначала они мне даже понравились, но есть их можно было только горячими – через пять минут уже не откусишь, они становились каменными. Когда бабушка второй раз пожарила их, я понял, что в стране творится что-то не то, потому что пирожков или блинов мне уже не доставалось.
– Что вспоминается о школе, помните ли учителей?
– Моя 59-я школа в Староконюшенном переулке на Старом Арбате была очень хорошей, с прекрасными традициями. До революции это была гимназия, которую построили купцы Медведниковы. Они были очень щедрыми людьми.
Школа – очень консервативный институт, моя школа много переняла у гимназии. Поэтому там встречалось немало замечательных преподавателей. И учительница начальных классов Анна Павловна Косицкая, которая подарила мне моего первого котенка, и много других.
Вот, например, Фаина Львовна Герман, она учила ботанике и биологии. Чуть ли не на самом первом уроке Фаина Львовна решила продемонстрировать нам вред курения. Она велела засунуть ватку в мундштук папиросы и выкурить ее: «Только не курите сами! Попросите знакомого мужчину, хоть это нехорошо». Я попросил квартирного дядю Степу, он с удовольствием подымил, ватку отдал мне. Действительно, она приобрела ужасный желто-бурый окрас. Двумя пальцами, брезгливо, будто она держала использованную туалетную бумагу, Фаина Львовна взяла ватку и грозно произнесла: «Вот и ваши легкие станут такими же!» Урок пошел впрок, закурил я много позже.
Я был о Фаине Львовне мнения среднего – уж больно строга и нетерпима. Но потом, уже в десятом классе, когда мы уже давным-давно превзошли всю ботанику, она произнесла фразу, после которой я стал думать о ней по-другому.
У меня к тому времени отросли длинные неопрятные волосы – не потому, что я так фасонил, а просто потому, что не любил дотошных парикмахерских рук. По своему обыкновению мы гоняли мяч на большой перемене в школьном дворе. Фаина Львовна выдернула меня из потной игры и, глядя в сторону, явно стесняясь, произнесла: «Зачем тебе такие длинные волосы – теперь, когда это стало модно? Вот кончится мода, тогда и отращивай». В то время многие однокашники и вправду «косили» под битлов.
Я вернулся в игру, потом постригся и с тех пор разлюбил пребывать в большинстве.
Физкультуре и спорту учил Виктор Александрович Лукьяненко, бывший гимнаст. По какой-то причине он мало занимался с нами гимнастикой, предпочитая баскетбол. Я еще успел поиграть скользким кожаным мячом, который так легко отбивался от рук. С переходом на послушный резиновый мячик все мы резко прибавили в результативности.
Но потом Виктор Александрович решил заняться с нами гандболом – потому, что мало в какой школе имелся подходящий по размеру спортивный зал для тренировок, отчего и конкуренция в этом спорте была заметно меньше, чем в баскетболе. Расчет оказался верен – в 1967 году мы заняли третье место в чемпионате Москвы. Я этим до сих пор горжусь.
Математику преподавала Татьяна Николаевна Фидели – первый человек, который обращался ко мне на «вы». Учила она изумительно – все наши выпускники легко поступили в лучшие технические институты. Я был единственным в классе, кто пошел по гуманитарной части. Даже Татьяна Николаевна не сумела объяснить мне красоту математики.
Я и сам по себе любил читать, но учительница литературы, Евгения Леонидовна Шиманович, давала направление, называла имена, о которых у нас дома и не подозревали: Цветаева и Мандельштам, Булгаков и Хармс. Когда Евгения Леонидовна вызывала к доске, я с выражением читал «Онегина» непосредственно ей. Ей, похоже, этот текст нравился. Как-то раз она попросила меня почитать вслух в классе «Ревизора». Это была сцена, когда объявляется, что от заседателя разит водкой, поскольку мамка в детстве ненароком ушибла его.
Во время чтения мне стало так уморительно, что я непритворно свалился со стула вместе с книжкой, которую продолжал озвучивать, уже катаясь по полу. Стоя на своем учительском месте, Евгения Леонидовна тоже от души засмеялась, мы смеялись вместе, это было счастье. Она была единственным учителем, у которого я бывал дома, еще учась в школе. Она хвалила меня и поддерживала убеждение, что у меня есть литературные способности. Несколько школьных сочинений у меня сохранилось, и уже потом я их перечитал – это, конечно, было ужасно.
Книга про Беломорканал как предупреждение
– Какую роль в вашем детстве и юности играли книги? Были ли они в семье, где вы их доставали?
– Конечно, в семье книжки были. Кроме домашних книг, выручала районная библиотека. Там был свободный доступ к полкам и очень хорошая библиотекарша, которая могла что-то присоветовать.
В школе тоже была волшебная библиотека, доставшаяся от гимназии: основательные столы с уютными зелеными лампами, огромные книжные шкафы, набитые знаниями и рассчитанные на вечность.
Это было райское место, в котором становилось понятно, что Брокгауз с Ефроном много интереснее, чем Большая советская энциклопедия. Видимо, это и решило дело. В один прекрасный год библиотеку уничтожили – безразмерные шкафы сожгли дотла, книги с противными «ятями» переварили в аморфную бумажную массу, а стенной периметр занавесили унылыми шведскими стенками, по которым можно подняться только на два метра над полом – не воспаришь. Раньше в школе имелся один физкультурный зал и один читальный, теперь – два спортивных и ни одного читального. С этого времени гимназия окончательно превратилась в советскую среднюю школу.
Сам я стал покупать книги только в институте, когда уже получал стипендию, которую мама оставляла мне, и я тратил ее по своему разумению – на обеды и на книжки. Магазины ломились от макулатуры, которую никто не читал. Интересные книги тоже появлялись, но достать их стоило трудов. Самые упертые читатели обходили осенью крупные магазины, просматривали тематические планы издательств на следующий год, заполняли открытки с заказами. Когда книга выходила в свет, магазин извещал об этом открыткой, читатель ехал в магазин и выкупал книжку. Почта работала исправно, накладки случались редко.
Выручали и букинистические магазины. Но там даже за только что вышедшую книгу требовали несколько номиналов. Выручало и знание иностранных языков. Самый богатый выбор иностранных книг имелся в букинистическом магазине на улице Качалова. Моя тогдашняя библиотека на английском и японском составилась в основном из купленного там.
Правда, те книги были немыслимо дороги. За иероглифический словарь Нельсона пришлось выложить 120 рублей – месячную зарплату клерка.
В магазине «Дружба» на улице Горького торговали книгами из соцстран. Лучшим отделом считался польский, так что некоторые мои знакомые выучили польский и читали какую-нибудь Агату Кристи на этом шипяще-свистящем языке.
Параллельным поставщиком книг был самиздат, в мои руки попадали очень разные книжки. Самиздат было неудобно читать – обычно это был не первый экземпляр, очень часто книжку давали на одну ночь, потому что очередь на книгу была длинной.
– Что было самым большим впечатлением от самиздата? Какую книгу вы до сих пор помните, от какой вы не могли оторваться и читали всю ночь? Или таких книг много?
– Таких книг, конечно, было много. Но помню, что колоссальное впечатление произвел «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Конечно, про сталинское время я к тому моменту уже что-то знал. Я много об этом читал, в том числе материалы XX партсъезда, но в таком концентрированном виде это, конечно, был облом, обвал.
Книга произвела очень сильное впечатление. И не только повествованием о мытарствах заключенных. Там было написано, в частности, об истории книги про Беломорканал. Вы, наверное, знаете, что в 1934 году была издана знаменитая книжка «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина», которую написала бригада советских писателей, причем очень хороших.
– Да, Максим Горький, по-моему, был во главе всего этого дела.
– Да и другие очень хорошие писатели в этом участвовали… Это было очень неприятное открытие. Впрочем, я не был в их шкуре. Я их осуждаю не как Александр Мещеряков, а как некая высшая инстанция. А книга про Беломорканал у меня на полке стоит. Как предупреждение о том, что надо вести себя достойно.
Нельзя было вынести на обложку слово «буддизм»
– Как рождается замысел книги? Сразу целиком или же вы пишете главу за главой, а книга живет своей жизнью? Как обычно идет работа? Сколько месяцев вы тратите на одну книгу?
 – За несколько месяцев написать хорошую книгу абсолютно невозможно. Считается, что я пишу очень быстро, моя жена говорит, что я пишу быстрее, чем она читает. Это, конечно, шутка. Быстрее, чем за два года, написать текст, в котором было бы много нового – или утопия, или шарлатанство.
– За несколько месяцев написать хорошую книгу абсолютно невозможно. Считается, что я пишу очень быстро, моя жена говорит, что я пишу быстрее, чем она читает. Это, конечно, шутка. Быстрее, чем за два года, написать текст, в котором было бы много нового – или утопия, или шарлатанство.
Что до замысла, то это всегда очень по-разному. Ты читаешь тексты, читаешь книжки и вдруг видишь, что тебе радикально что-то непонятно. Допустим, почему люди древности думали вот так? Вроде бы нужно было думать по-другому, а они думали иначе. Тогда и пытаешься разобраться, откуда ноги растут, почему?
Наше занятие очень связано с описательностью. Исторические и культурные явления невозможно представить в формулах, нельзя описать их кратенько, понятненько и компактненько. Поэтому помимо статей мы пишем протяженные тексты, которые в естественных науках встречаются редко.
Однако требования по наукометрии, которые предъявляются к естественным наукам, теперь применяют и к нам. Поэтому за монографии баллы нам практически не начисляют. А для гуманитария монография – это синтез того, что ты делал довольно много времени. У нас невозможно обойтись статьями. К сожалению, люди, которые командуют наукой, этого не понимают.
– Когда появилась ваша первая книга? Чему она была посвящена?
– Первая моя книжка называлась «Японские легенды о чудесах» – это были переводы японских древних буддийских преданий. Я работал над ней долго и очень тщательно. В принципе, она так и должна была называться: «Японские буддийские предания» – что-нибудь в таком духе. Но это же Советский Союз, нельзя было вынести на обложку слово «буддизм», если не приложить к нему какое-нибудь обидное определение. Там же не было никакой критики, только тексты и всё, это сочли бы за религиозную пропаганду. Поэтому книжку я назвал «Японские легенды о чудесах» – это всех удовлетворяло, что там дальше было написано, видимо, никого не волновало. Это был 1984 год, все-таки цензура довольно сильно ослабла – если там не было политики, антисоветчины, это как-то сходило.
Много хороших книг выходило в издательстве «Восточная литература». Его директором был Олег Константинович Дрейер, замечательный человек, который издавал больше всех хороших гуманитарных книжек в Советском Союзе. Конечно, он знал, где край, но имел мужество и умение ходить по нему. Так что если книга была издана главной редакцией «Восточной литературы» издательства «Наука», то для понимающих людей это означало, что вероятность того, что эта книжка хорошая, достаточно велика.
Искусство жить состоит в том, чтобы не унывать
– Над чем вы сейчас работаете? Какую книгу пишете или дописали?
– Я нахожусь в предпоследнем возрасте, когда пора думать о подведении итогов. Только что закончил книгу мемуаров. Мне кажется, что она будет интересна многим. Называется «Остается добавить…». В том смысле, что круг еще не замкнулся. В скором времени выйдет в петербургском издательстве «Гиперион».
Буквально на днях там же вышел мой перевод двух трактатов начала XVIII века двух интересных людей. Их зовут Кайбара Экикэн и Нисикава Дзёкэн. Мне очень нравится трактат «Поучение в радости». Мне близка позиция автора, который говорит, что нужно в этой жизни не ныть, а радоваться.
Вопрос: чему радоваться? Автор утверждает, что первая радость – это соблюдение своих моральных обязанностей. Ты должен воспринимать их не как что-то, навязанное извне, а как естественный человеческий долг, исполнение которого приятно и радостно. Еще радостно чтение книг и любование природой – эти радости нельзя отнять, они доступны любому человеку. Богатому и бедному, молодому и старому. Трактат был написан, когда Кайбара Экикэну был 81 год, он знал, о чем говорил.
Искусство жить состоит в том, чтобы не унывать. В православии мне нравится то, что уныние считается грехом. Кайбара Экикэн думал в том же направлении.
– Это вы придаете японистике такой оптимизм? Я никогда от вас не слышала пессимистично написанных вещей, или это японский характер – не унывать?
– В юности, когда еще не устойчивая психика, когда все воспринимаешь чересчур эмоционально, временами я чувствовал себя несчастным человеком, за что мне теперь стыдно. Когда немножко поживешь, становишься мудрее и приходит понимание того, что нужно в полной мере воспользоваться даром жизни, который тебе дарован, хотя ты об этом и не просил.
– Где сейчас можно получить образование в области японистики?
– Если говорить про Москву, то есть два основных места – Институт стран Азии и Африки при МГУ и Институт восточной культуры и античности в РГГУ. Это, пожалуй, две самых важных институции, программы которых позволяют готовить преподавателей и ученых. В Санкт-Петербурге – это восточный факультет Санкт-Петербургского университета. Мы ведь не просто учим языку. Языку учат во многих местах и довольно успешно. Во Владивостоке много людей изучает японский язык, но там все-таки упор больше на практику.
– Как вы оцениваете состояние дел в современной японистике в России? На каком она уровне находится?
– Все время появляются молодые люди, которые могли бы довольно много сделать в науке, но редко кто выдерживает, потому что это безденежье, а от безденежья они уходят куда-нибудь еще.
– Японист в России не может заработать денег на жизнь?
– Очень часто нет. Вы разве не знаете, сколько у нас платят в Академии наук? Это смешные зарплаты. Кандидат наук на полной ставке получает меньше 20 тысяч. Те нормы, которые приняты нынче в преподавании, настолько неподъемные, что выполнить их почти невозможно. Если бы можно было их выполнить, все равно в РГГУ нет столько студентов. Если же будет столько студентов, то нет стольких аудиторий.
Поэтому лично я работаю на 0,3 ставки, и это совершенно не исключение. Многие молодые люди у нас работают на 0,25 ставки и меньше. Понятно, что они начинают искать подработку. И это очень плохо для науки, когда человек бегает с места на место и не может сосредоточиться. Так что ситуация в японистике более-менее такая же, как в российской науке вообще. Сейчас все люди, которые занимаются интеллектуальными вещами, находятся на обочине.
– Над каким проектом вы сейчас работаете?
– Сейчас мы переводим (мы – это несколько человек) роман-эпопею современного японского писателя, который называется «Вечная столица». Вообще-то мне представляется, что современная литература по совершенно объективным причинам переживает довольно большой кризис – лавина аудио- и видеоинформации начинает забивать слово.
Люди и в России, и в Японии, и где бы то ни было, начинают хуже владеть родным языком, меньше про свой язык думают.
Поэтому в современной литературе не так часто попадаются произведения, которые меня по-настоящему волнуют, но этот роман волнует. Его написал пожилой человек, Кага Отохико, ему сейчас 87 лет. Это 3000 страниц, роман огромный, но это очень хорошая литература.
К сожалению, пришлось разделить эти 3 тысячи страниц между несколькими переводчиками, потому что в одиночку его, конечно, можно перевести, но тогда несколько лет тебе больше ничего сделать не удастся. Я надеюсь, что это будет хорошая работа, это очень хорошая проза. Она посвящена периоду японской истории, который у нас плохо освещен – 30-е годы XX века и военное время.
В советское время эту милитаристскую Японию ругали, но брань, даже самая изощренная, мало способствует пониманию. Япония и вправду была милитаристской, но люди там жили, любили, чувствовали. Там была очень интересная и противоречивая жизнь. Автор, который в это время жил, описывает эту жизнь очень тонко. Поэтому я думаю, что когда книжка будет издана на русском языке, она будет многим интересна и полезна. Это будет большой вклад в осмысление мирового тоталитарного и человеческого опыта.
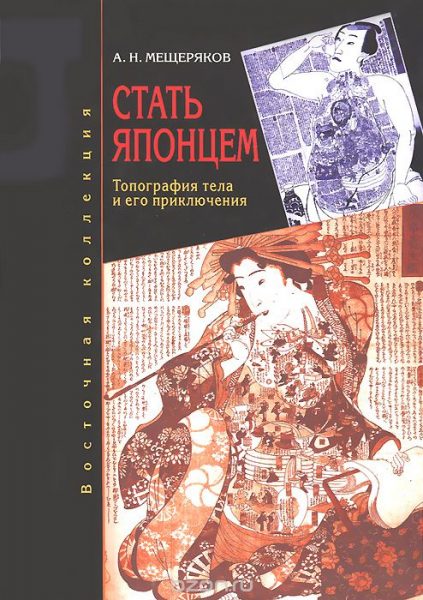 – Остается ли Япония для вас до сих пор терра инкогнита?
– Остается ли Япония для вас до сих пор терра инкогнита?
– У меня были две книжки: «Стать японцем» и «Быть японцем». Они посвящены проблеме самоидентификации японцев в средние века, потом в новое время. Сейчас я хочу написать книжку, которая называлась бы «Остаться японцем», которая посвящена проблеме самоидентификации японцев уже в послевоенное время. Тогда будет такая трилогия, которая рассматривает эту проблему. Очень интересно видеть, как по-разному она решается в разные исторические периоды.
– А вам не было бы интересно написать книгу «Быть русским» или «Остаться русским»?
– Мне-то очень интересно, но нужно себе отдавать отчет о пределах своей компетенции. Так сложилась моя судьба, что японские источники я знаю лучше, чем русские. Естественно, я много думаю и про русскую культуру, и про историю, но нужно себе отдавать отчет, что мое знание русских источников недостаточно. Человек, который не читал много источников, имеет право на мнение, но не более того.
– У вас дома живут две кошки и собака. Какие у вас отношения с домашними животными, кого вы больше всего любите?
– Это вопрос из серии: какую вы свою книгу больше всего любите? Это все твои дети. Один ребенок более удачный, другой менее удачный, но ты их любишь одинаково. Так и эта живность. Вообще, мне по душе кошки, милее во многих отношениях, в частности потому, что кошки изящнее, они не такие шумливые.
Мне очень нравится, что кошки такие самостоятельные.
Кошка – вызов тебе. Ты-то ее любишь, а она тебя, в общем, не любит, будем честны. Она тебя терпит. Это такой урок чистой любви: если тебя не любят, можешь ли ты любить такое существо?
Собаку любить намного проще, потому что она тебя любит и привязана к тебе.
– Разве не бывает такого, когда вы плохо себя чувствуете, она приходит, ложится, и вам становится легче?
– Кошки приходят ко мне спать, и когда я себя хорошо чувствую, и когда я себя плохо чувствую. Им со мной всегда хорошо, и мне тоже хорошо. Но они приходят тогда, когда хотят.






