Портал «Правмир» продолжает путешествие по закулисью религиозной журналистики. Идея серии бесед принадлежит публицисту Марии Свешниковой, исполнение – редактору портала Анне Даниловой.
Андрей Золотов — это человек-хорошее-настроение. Кстати, редкое качество для руководителя редакции и абсолютное оправдание фамилии — лишь стоит ему появиться, сразу все заражаются его природным оптимизмом. Даже если он полемизирует и категорически не согласен — это несогласие он высказывает настолько дружелюбно, что хочется сразу с ним во всем согласиться. И, наверное, именно это качество, а не название редакции на удостоверении — лучший пропуск в суть событий.
Золотов — это человек, который не боится писать долго (быстро, за рубежом, ночью, без интернета и нормального компьютера он тоже пишет замечательно — тому доказательство некролог Святейшему Патриарху Алексию Второму). Его тексты выходят, когда, кажется, уже все отписались по событию и сказано уже все возможное. И тогда оказывается, что имело смысл поработать с материалом подольше, чтобы добиться такого качества, насыщения фактами, дозированного инсайда и очень человеческого разговора.
Андрей Андреевич Золотов.
Родился в 1968 году. Закончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Работал помощником в московском бюро газеты «Christian Science Monitor» (США), агентстве «Ecumenical News International» (Женева), с 1997 – штатный корреспондент московской англоязычной газеты «The Moscow Times». С 2003 года советник председателя правления РИА »Новости», главный редактор журнала «Russia Profile». C 2009 года, продолжая возглавлять “Russia Profile», стал заместителем руководителя Объединенной редакции иновещания РИА Новости. Один из основателей Дискуссионного клуба «Валдай».
— Андрей, почему журфак?
— Тяги к практической журналистике у меня не было. Когда стоял вопрос, где учиться мне, главным папиным тезисом (а папа сам закончил факультет журналистики МГУ) было то, что журфак Московского университета дает хорошее общее гуманитарное образование, и выпускники работают в самых разных областях.
Я учился на журфаке долго: с 1984 года по 1992, при этом после второго курса я был в армии, а после третьего курса я поехал в Америку по обмену учиться. Это дало мне рабочий английский язык, другой взгляд на жизнь и окончательно привело меня в Православную Церковь.
— И второй вопрос об истоках: как в жизни появилось православие?
— Я рос в обычной интеллигентной нецерковной семье. Но у меня была няня — дивеевская монахиня Евдокия Ивановна Фролова, а у нас в семье называли ее Татенька. Она прожила с нами сорок пять лет, появившись в нашей семье как домработница моих прабабушки и прадедушки. В войну она фактически спасла нашу семью от голода, потом вырастила мою маму, моего дядю и меня. Умерла она в 1981 году, когда мне было 13 лет, а ей — 93. Она никогда не навязывала нам своей религиозности, но перед глазами был пример удивительной церковной жизни, и поэтому с детства был интерес к Церкви.
Татенька мне рассказывала и про преподобного Серафима, и про свою жизнь и в Дивеево и на подворье Дивеевского монастыря в Петергофе. Одна из любимых историй была о том, как «Наследника крестить везли – в золотой карете!». Рассказывала она и о лагере, в который всех сестер отправили после закрытия монастыря. «Нас не посадили, нас изолировали», — говорила она.
— Помню, как где-то в самом начале 80-х я пошел с Татенькой на Пасхальную службу в Малый собор Донского монастыря – монастырь был тогда недействующим, но Малый собор был открыт как приходской храм. Пропустили через кордон милиции только потому, что я сказал, что вот бабушка старенькая, ей нужна помощь.
Где-то в то же время – я был в 6-м или 7-м классе – мы с одноклассницей гуляли после школы в Донском монастыре. Было 7 апреля, как я теперь знаю, Благовещение. Увидели народ в Малом соборе, расстеленную ковровую дорожку. Ожидали Патриарха Пимена. Он должен был служить панихиду на могиле Патриарха Тихона.
Мы остались, дождались Святейшего. Простояли, ничего не понимая, на богослужении. Может быть, я ошибаюсь, но в памяти осталось, что служили, не облачаясь – Патриарх был в рясе и скуфейке, не в куколе даже. Одно тогда прочно засело в голову: я откуда-то уже знал, что Патриарх Тихон был против Советской власти. А наш «советский» Патриарх, тем не менее, приехал служить у него на могиле. Мне это показалось невероятным – как можно вполне открыто воздавать почести врагу Советской власти? «Церковники своих не сдают!» — подумал я тогда.
В 1985 году на Пасху наш замечательный директор школы, недавно скончавшийся великий педагог Леонид Исидорович Мильграм, решил вдруг по старой памяти послать юнкорров по окрестным церквям фотографировать молодежь, которая идет на крестные ходы, чтобы сделать стенгазету позора.
Комитет комсомола возмутился, обратились ко мне (а я уже в институте учился) с просьбой посодействовать им убедить директора, что этого делать не надо. У меня был очень памятный разговор с Леонидом Исидоровичем, и он мне сказал: «Я с тобой не согласен, но раз вы так считаете, то мы этого делать не будем».
В том же 1985 году на 40-летие Победы на истории КПСС (!) в университете устроили день научного творчества студента, посвященный войне, и я сделал доклад «Патриотическая роль Русской Православной Церкви в Великой Отечественной Войне». На меня смотрели как на чудика, но мне это было интересно.
1988 год – это был грандиозный прорыв Церкви в общественное пространство, помню, как впервые духовную музыку передавали по телевидению.
А в 1989 году я уехал в Америку. Попал в религиозное общество, когда кругом разнообразные храмы и дома молитвы, в которые все ходят, и это очень важная часть американской жизни.
— И там состоялось ваше знакомство с церковной жизнью?
— Так случилось, что в колледже Сары Лоуренс, с котором я оказался, училась внучка протопресвитера Александра Киселева — выдающегося священника русской эмиграции, замечательного человека, который в молодости служил в Эстонии, где его алтарником был будущий Святейший Патриарх Алексий II
I. Потом – в военной Германии, а с середины 50х – в США.
Так я оказался в Нью-Йорке на 108-й улице в маленьком домовом храме преподобного Серафима Саровского у отца Александра Киселева. Впоследствии, в 1990-м году, я был свидетелем первого приезда отца Александра в Россию, где с 1993 года он жил постоянно – в том же дорогом мне Донском монастыре – до его кончины в 2001-м.
Встреча
Там, в Нью-Йорке, произошла моя личная Встреча с большой буквы, если употребить термин митрополита Антония Блума. Она была, наверное, ускорена ситуацией отрыва от дома и своей среды. Это было мое среди чужого. Но через это «свое» пробился свет Христовой Истины. Я вот сейчас могу закрыть глаза и отчетливо представить себе отца Александра, стоящего в открытых Царских вратах своего храма на 108-й улице и произносящего возглас «Слава Тебе, показавшему нам свет!».
Были встречи и с покойным отцом Иоанном Мейендорфом. Свято-Владимирская семинария, которую он тогда возглавлял, была в трех милях от колледжа, где я учился.
Но больше всего общения было с семьей отца Александра Киселева и его дочери, главного редактора журнала «Русское возрождение» Милицы Александровны Холодной.
Решение креститься было совершенно однозначным, но хотелось сделать это дома, в Москве. В 1990 году, когда я вернулся, я крестился. Моим крестным был Андрей Холодный, внук отца Александра Киселева, ныне известный врач-нейрорадиолог, иностранный член Российской академии медицинских наук. Крестили меня чином «Аще не крещен», потому что было не известно, крестила ли меня тайно Татенька или нет.

С протопресвитером Александром Киселевым, его дочерью Милицей Александровной Холодной и ее мужем Игорем Петровичем Холодным
— А приход сразу себе выбрали?
— Вернувшись из Америки, я ходил в Новодевичий монастырь, и очень полюбил архиерейское богослужение, которое там совершал и совершает митрополит Ювеналий. Но при этом в приходской жизни как таковой не участвовал.
Когда я женился (было сие замечательное событие в 1996 году), в течение двух лет мы вместе с женой ходили в храм Иоанна Воина на Якиманке, где тогда служил и до сих пор служит, хотя сейчас уже за штатом, замечательный московский духовник и композитор протоиерей Николай Ведерников, который фактически вырастил и воспитал мою жену. Мы там венчались, в кругу отца Николая, покойной матушки Нины Аркадьевны и их духовных чад я получил первое представление о московской общинной жизни.
В 1997 году моя жена Екатерина Малеина начала работать регентом в Татьянинском храме. Отец Максим Козлов уволил хор и регента и стал искать новый хор, а с Якиманки тоже уволили хор, регентом которого была Катя, хотя она ушла раньше, в результате конфликта с певчими. Потом эти же певчие к ней обратились с предложением попробоваться в Татьянинском храме. Пошли, спели, и их взяли.
 Мое представление о Татьянинском храме — и вообще, и о настоятеле — было сформировано тем нелестным образом, который был представлен в нашей прессе в 1994-1995 годах во время борьбы за храм. Когда моя жена начала там работать, то надо было пойти проверить, куда она попала, не попала ли она в какое-нибудь ксенофобское гнездо. Шел я в качестве внутреннего инспектора в поисках проявлений религиозной ненависти!
Мое представление о Татьянинском храме — и вообще, и о настоятеле — было сформировано тем нелестным образом, который был представлен в нашей прессе в 1994-1995 годах во время борьбы за храм. Когда моя жена начала там работать, то надо было пойти проверить, куда она попала, не попала ли она в какое-нибудь ксенофобское гнездо. Шел я в качестве внутреннего инспектора в поисках проявлений религиозной ненависти!— И чем закончился визит инспектора? Подтвердил опасения, нашли религиозную ненависть?
— Никак не находил, искал и не находил. Довольно быстро втянулся, мне там очень понравилось. Татьянинский храм и стал моим вторым домом в Москве.
— С Татьянинским храмом у Вас связана история передачи иконостаса…
— Да, как я уже говорил, мои первые шаги в Церкви были связаны с храмом преподобного Серафима Саровского на 108-й улице в Нью-Йорке. В 1990 году этот храм был закрыт. На приходском собрании, на котором мне довелось присутствовать, отец Александр объявил своей сильно уменьшившейся общине о том, что Свято-Серафимовский фонд принял решение все внутреннее убранство храма подарить Святейшему Патриарху Алексию, Русской Церкви, а дом продать, потому что пришло время помогать Церкви в России.
Иконостас из храма в Нью-Йорке был сначала установлен в нижнем храме в Большом соборе Донского монастыря. Но в этом нижнем храме служили редко, там была сырость. И вот в 1998 году отец Александр решил этот иконостас оттуда забрать. Они отреставрировали иконы. И вот он позвал меня и сказал: «Андрюша, помоги мне найти новый дом для нашего иконостаса». Потому что иконостас довольно простой, деревянный, не золоченый. Многие предлагали его взять, позолотив, а отцу Александру хотелось сохранить его в том виде, в каком они с начала 50-х годов с этим иконостасом жили в зарубежье.
И вот так случилось, что я познакомил отца Максима Козлова с отцом Александром Киселевым и иконостас храма преподобного Серафима в Нью-Йорке обрел свою новую жизнь в Татьянинском храме, где по сей день находится и где его очень любят. Конечно же, мне очень дорого это обстоятельство.
— Почему Вы не остались в США, когда учились там – ведь это как раз был пик последней волны эмиграции?
— Я столько раз отвечал на этот вопрос моим американским соученикам и товарищам, что ответ практически выучил наизусть: Мои прабабушки и прадедушки остались в России в несравненно более тяжелые послереволюционные времена. И если они так решили – мама говорила мне, что ее дед, мой прадед, слово «Россия», которое тогда редко употреблялось, без слез говорить не мог — то для меня вопрос об эмиграции может встать уже только в случае непосредственной угрозы жизни – моей или моей семьи.
Но я очень люблю путешествовать. И Соединенные Штаты, пнуть которые по поводу и без повода у нас считается признаком большого патриотизма, я тоже люблю.
Когда закачивается объективная журналистика
Весной 1999 года я был в Америке, когда начались бомбардировки Белграда. Это был очень тяжелый момент. Я тогда понял, что когда начинается «горячая» война, то объективная журналистика практически прекращается – по всем каналам идет пропаганда, так как происходит вольная и невольная мобилизация журналистов вокруг своего правительства. И хотя потом были репортажи в «Нью-Йорк Таймс» из Белграда, в первые дни войны была совершенно односторонняя антисербская позиция всех доступных мне в тот момент американских СМИ.
В эти дни в Москве были демонстрации у американского посольства, произошел до сих пор не осознаваемый западными элитами поворотный момент в отношении россиян к Соединенным Штатам. Ведь для многих россиян, людей православной культуры, это показалось своего рода предательством.
Произошло расставание с иллюзией, что мы и Запад составляем один мир, одну цивилизацию. Америка — это страна, где живет множество моих друзей, страна, которая лично мне очень много дала, и у меня было очень тяжелое состояние. Я думал: неужели теперь это страна моих врагов? Я очень хорошо помню это состояние: на выходные я полетел в Нью-Йорк из Северной Каролины, где я тогда находился, практически прощаться с этим моим любимым городом, потому что в тот момент мне казалось, что, может быть, никогда мне не придется больше здесь побывать, по крайне мере, с тем отношением к этому городу, которое у меня до того было.
На память, фактически на прощание, я купил тогда на улице черно-белую фотографию Манхэттена – вид города с башнями-близнецами в центре. А потом было 11 сентября, и башен-близнецов не стало… Эта фотография до сих пор у меня стоит на полке за стеклом – как напоминание и о той поездке, и о Нью-Йорке с башнями-близнецами, и о Нью-Йорке без них…
С уважением и дистанцией
— Вы учились основам религиозной журналистики в США. Чему Вас учили и что Вы вынесли из этих занятий?
— В 1994 году я был приглашенным исследователем в Школе журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке и вольнослушателем ходил на курс Religion reporting, который тогда только начал преподавать Ари Голдман – замечательный журналист, бывший до того корреспондентом «Нью-Йорк Таймс» по религии.
Ари — верующий иудей, который всю жизнь испытывал огромный интерес к христианству и немало думал о том, как сочетать верность своей религии с открытостью тем религиям, о которых он пишет как журналист. У него есть даже книжка о собственном пути в решении этой непростой проблемы, которая так или иначе стоит перед каждым журналистом, работающим в нашей области.
— Что было самое важное, что Вы вынесли из этих занятий?
— Сочетание уважения и дистанции. Мы поочередно изучали разные религии, представленные в Нью-Йорке, и ходили в их дома молитвы сначала как экскурсанты, потом как репортеры. Но первое задание было — написать свою личную духовную историю — My Spiritual History. Причем это могла быть не обязательно история «Как я пришел в церковь» или в синагогу. Может быть, как я из неё ушел — любая личная история, связанная с Богом. Меня это поразило. Понимаете, ведь слова «я» в газетной статье в данном новостном стандарте в принципе не может быть! Но вводным заданием в курс религиозной журналистики было именно это.
Ари Голдман говорил, что для него очень важная вещь — блокнот. Там, где он находится с блокнотом, он журналист. И это дает ощущение дистанции, потому что куда ходить можно, куда нельзя, с кем ты молишься, с кем не молишься и так далее — это очень сложный комплекс проблем. Для ортодоксального иудея в этой области куда больше ограничений, чем для нас, православных христиан. «А с блокнотом я могу ходить везде и говорить с кем угодно, — говорил он, — я при исполнении служебных обязанностей.» И мне этот прием потом очень помогал в работе.
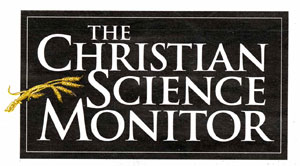 CSM
CSM
— Вашим первом местом работы был Christian Science Monitor?
— Когда я вернулся из США в 1994 году, у меня было два предложения о работе, одно со значительно лучшими условиями, но по-прежнему околожурналистское и с дальнейшим получением зарплаты от американского правительства. И я пошел на меньшие деньги помощником заведующего бюро газеты «Christian Science Monitor». И самое главное — то, что я хотел быть в практической журналистике, а не в околожурналистской надстройке.
В «Christian Science Monitor» я был помощником-переводчиком – то, что называется на профессиональном жаргоне «фиксером», организатором журналистского труда. То есть написание статей в мои обязанности не входило. Но две или три статьи под моей подписью все же вышли.
Самое главное – это то, что там у меня были замечательные учителя, прекрасные журналисты – сначала Дэн Снайдер, потом Питер Форд. Это журналисты такой прекрасной «старой породы», которую сейчас уже редко встретишь – люди вдумчивые, любопытные, по-настоящему интеллектуальные, но в то же время с самого начала учившие меня верности факту и отсутствию эмоций в тексте.
— Российские журналисты и эксперты регулярно переживают, что у нас нет такого издания, и, дескать, вот таким должно быть религиозное издание. Это так, Вы с этим согласны?
— Нет, «Christian Science Monitor» — это не религиозное издание. Это, по существу, светская газета, ныне полностью ушедшая в Интернет (газета как таковая больше не издается). Она была создана очень специфической религиозной организацией «Церковь Христа-Ученого», или «Христианская наука» (Church of Christ, Scientist; Christian Science, не путать с Сайентологией), которую у нас сегодня, наверное, назвали бы «сектой» и которая пережила период своего бурного роста на рубеже 19-го и 20-го веков.
Газета была создана в 1908 году в период расцвета «желтой» прессы в Америке и именно как реакция на «пожелтение» журналистики, которая в свое время очень резко атаковала саму эту религиозную группу и ее основательницу Мэри Бэйкер Эдди. И вот в ответ на это она и решила создать газету, которая не должна ставить перед собой миссионерских задач (по крайней мере, впрямую), освещать события во всем мире и при этом «не оскорблять ни одного человека, но благословлять все человечество».
В газете религия проявлялась лишь в том, что в каждом номере была одна религиозная статья — проповедь, специальным образом из остального контента графически выделенная. И были довольно странные цензурные ограничения, над которыми все немножко посмеивались, но соблюдали их — нельзя было писать об алкоголе или курении для украшения текста (то есть вполне можно было написать об алкоголизме как социальной проблеме, или о продажах табака как бизнесе, но нельзя было написать «сказал он, затягиваясь сигаретой». И как-то на редакторском уровне иногда затуманивался вопрос о смерти в силу какого-то особенного учения этой религиозной группы о смерти.
Но самое главное – это была субсидируемая, нерыночная, качественная, я бы сказал, просветительская газета, которая подчеркнуто объективно писала, в частности, о международной жизни.
— Что вам дал опыт работы в CSC?
— Думаю, определенную печать стиля «Christian Science Monitor» я на себе чувствую до сих пор. Она заключается в том, что ты пишешь не о событии, а ты пишешь о явлении через событие. Ты используешь новость в качестве повода, а дальше всегда идешь от частного к общему, что делают все, но тут можно уйти к очень общим процессам. Это попытка пойти вглубь проблемы с обязательным соблюдением баланса разных сторон и экспертного мнения. По крайней мере, это является тем идеалом, к которому ты стремишься.
Кроме того, оказавшись в среде иностранных журналистов, работавших в Москве в начале 1990-х – а наше бюро было на Садовой-Самотечной дом 12/24, где тогда находились представительства многих западных СМИ – я впервые оказался в ситуации, когда мне надо было объяснять православные реалии моим старшим западным коллегам.Как-то соседи быстро прознали, что вот Андрей может что-то членораздельное объяснить о Православной Церкви, и стали ко мне обращаться. А тема религиозного возрождения была ведь одной из главных тем, описывавших происходившее в бывшем СССР! И все видели, что растет влияние Церкви. Но ничегошеньки в ее сложных реалиях не понимали, или очень мало понимали. И обращались ко мне. А я, соответственно, сам без году неделю в Церкви, без всякого богословского образования, на ходу в чем-то старался разобраться и объяснить. Так вот началась моя религиозная журналистика – на словах, в разговорах.
— Следующим изданием было агентство Ecumenical News International?
— В 1995 году случился (слава Богу, кратковременный) разрыв канонического общения между Московским и Константинопольским патриархатами из-за спора о юрисдикции в Эстонии. Это был большой церковный скандал. И тогда Александр Булеков, ныне игумен Филарет (Булеков), — первый церковный пресс-секретарь, он первым возглавлял Службу коммуникации ОВЦС, когда еще не было никакой пресс-службы патриархии, — обратился ко мне с предложением стать московским корреспондентом агентства «Ecumenical News International».
 Это христианское информационное агентство, базирующееся в Женеве, выросшее из пресс-службы Всемирного совета Церквей и следовавшее очень правильному посылу, что для того, чтобы производить качественные конкурентоспособные новости, надо производителей этих новостей от соответствующей бюрократии удалить, заставить их функционировать как если не полностью независимую, то хотя бы автономную редакцию.
Это христианское информационное агентство, базирующееся в Женеве, выросшее из пресс-службы Всемирного совета Церквей и следовавшее очень правильному посылу, что для того, чтобы производить качественные конкурентоспособные новости, надо производителей этих новостей от соответствующей бюрократии удалить, заставить их функционировать как если не полностью независимую, то хотя бы автономную редакцию.
И вот четыре международные христианские организации, базирующиеся в Женеве, — Всемирный совет церквей, Всемирная лютеранская федерация, Всемирный альянс реформатских церквей и Конференция европейских церквей – создали на паях это агентство.
Информация о межхристианских отношениях или деятельности этих организаций по умолчанию были частью того, о чем это агентство писало. Но при этом и внутренней жизни церквей, церковно-общественным и церковно-государственным коллизиям в разных странах уделялось там серьезное внимание.
На тот момент Россию для этого агентства покрывал некий далекий от православия журналист, который базировался в Варшаве, и наше священноначалие было недовольно качеством его материалов. Решили меня туда двинуть, за что я по сей день невероятно благодарен отцу Филарету и отцу Леониду Кишковскому, который, как я понимаю, меня рекомендовал.
Это было первой профессиональной работой на любимую тему, где я мог что-то сказать.
В «ENI» я писал о дискуссиях вокруг принятия Закона 1997 года о свободе совести и религиозных объединениях – как теперь понятно, первом этапе постсоветской делиберализации, когда государство решило несколько подрегулировать юридический аспект религиозной жизни после его полного освобождения на рубеже 1980-х-90-х и, не без участия Русской Православной Церкви, придать некоторый если не официальный, то полуформальный статус так называемым «традиционным» религиям.
Это был очень драматический процесс, который шел против шерсти либеральному стандарту и американской форме церковно-государственных отношений, запечатленной в российской Конституции, но не соответствующей российской традиции.
Была командировка в Петербург, когда после смерти митрополита Иоанна (Снычева) на петербургскую кафедру был назначен митрополит Владимир, я делал его портрет. Митрополит Иоанн взял на себя роль духовного лидера «патриотической оппозиции» в 90-е годы, а также одного из символов антиэкуменического движения. А митрополит Владимир, наоборот, был человеком, который был воспитан в экуменическом движении и в свое время служил в Женеве.
Я писал тогда и о российских лютеранах: для меня было открытием внутреннее разнообразие о очень глубокие расхождения между разными лютеранскими церквями.
— Что было самое трудное в этой работе?
— Проблемой с агентством было то, что мне все время хотелось писать длиннее, чем надо бы. Но, с другой стороны, это было хорошей школой — писать короче о сложном. Потому что одной из главных проблем и в церковной журналистике, и в светской журналистике о Церкви является необходимость очень глубокие и сложные бэкграунды и контексты укладывать в короткий текст. Например, за мою журналистскую практику мне много раз приходилось писать заметку о том, почему Папа Римский не приедет в Москву. Может быть, раз двадцать или тридцать.
Так вот 1946 год – год Львовского Собора, присоединившего, под эгидой советской власти, украинских греко-католиков к Русской Православной Церкви, — это еще более или менее можно изложить, а 1596 –год Брестской Унии — это уже совершенно вываливается из журналистского контекста. Ну не пишут в газетах про события 1596 года! И то, что есть люди, которые живут сегодня и для которых события 1596 года актуальны и важны — это на самом деле невероятно с точки зрения журналистики.
Помню, по заданию ENI я был на заседании Богословской комиссии, на которой обсуждался вопрос об общении Русской Православной Церкви с «дохалкидонскими» Церквями – Армянской, Коптской и другими древними восточными Церквями. И было поразительно видеть, как сидят живые, нормальные, интеллигентные люди, которые почти с пеной у рта, как что-то очень животрепещущее, обсуждают проблемы пятого века. Четвертый Халкидонский Собор! А мне нужно было написать об этом какой-то текст для агентства. Для них это не что-то такое абстрактное из книжек, а то, что влияет на их реальную сегодняшнюю жизнь.
И вот тут для журналиста возникает очень опасный соблазн. Поскольку эти споры и разночтения кажутся невероятными, очень легко попытаться за всем этим увидеть современную политику. И тогда вроде как все встанет на свои места. Но это далеко не всегда так! Иногда так, но не всегда.
— Если посмотреть на церковные 90-е, если это люди, то кто и — если это какие-то события — то что это?
— Это в первую очередь Патриарх Алексий. Мое воцерковление происходило в семье, для которой Святейший Патриарх Алексий был… ну если сказать «родной человек» — это будет чересчур, то человек почитаемый и близкий — сказать можно. Мы все знаем, что отец Александр Киселев долгие годы был, может быть, единственным, кто к Патриарху Алексию обращался на «ты».

Встреча Святейшего Патриарха Алексия с членами Международного дискуссионного клуба «Валдай». Фото Патриахия.ru
Хорошо помню перенесение мощей преподобного Серафима Саровского зимой 1991 года. Я ходил на Ленинградский вокзал встречать мощи, когда они прибыли из Петербурга, и потом мы шли крестным ходом до Богоявленского собора. Незабываемое событие!
Первые патриаршие кремлевские службы, дивной красоты и в то же время интимности архиерейское богослужение, которое регулярно совершал митрополит Ювеналий в Новодевичьем монастыре, куда я ходил в начале 1990-х, — все это живет в памяти.
 Мне памятна одна встреча с владыкой Ювеналием. В период не то моего краткого жениховства, не то сразу после нашей свадьбы, мы с Катей шли к метро «Юго-Западная». Навстречу идет человек пожилой, можно даже сказать, дедушка, в серенькой рубашечке, в больших темных очках, с бородой и с холщовой сумочкой. Я узнаю, что это идет митрополит Ювеналий. Я его до того всегда видел только в храме – в рясе и мантии или в облачении.
Мне памятна одна встреча с владыкой Ювеналием. В период не то моего краткого жениховства, не то сразу после нашей свадьбы, мы с Катей шли к метро «Юго-Западная». Навстречу идет человек пожилой, можно даже сказать, дедушка, в серенькой рубашечке, в больших темных очках, с бородой и с холщовой сумочкой. Я узнаю, что это идет митрополит Ювеналий. Я его до того всегда видел только в храме – в рясе и мантии или в облачении.
А я с молодой женой, мне так ее захотелось представить, что это чувство побороло всякую деликатность. Я к нему: «Владыка, это моя жена Катя. Благословите!» Он остановился, снял очки, благословил нас и сказал, указывая на свою сумочку: «А я вот тут промышляю». То есть он шел из ларька от метро, где купил себе поесть. Это был очень трогательный момент, который что-то говорит о человеке.
Еще был такой очень памятный для меня момент. Году так в 1992, когда я делал свои первые шаги в качестве «фиксера» для иностранных журналистов, я организовал для молодого американского корреспондента интервью со старейшим работником ОВЦС, ныне покойным Алексеем Сергеевичем
Буевским – это в честь него разные тяжелые для церковного сознания тексты про борьбу за мир или к очередной годовщине Октябрьской революции шутя называли «буёвинами».
И вот корреспондент – звали его Джастин Берк– начинает спрашивать у Алексея Сергеевича о преследованиях Церкви в советский период, а Алексей Сергеевич ему отвечает, что да, до Великой Отечественной войны преследования были, а после войны все было хорошо.
Ну, разумеется, такой ответ Джастина не удовлетворил и он, как и положено хорошему журналисту, начинает с тем же самым заходить с другой стороны. А Алексей Сергеевич опять ему говорит, что да, до войны преследовали, а после войны все было хорошо в отношениях с Советской властью.
А как же там КГБ, невозможность преподавать, посадки вплоть до 80х годов? Ответ: все было хорошо. И так несколько раз. И вот раза так с пятого Алексей Сергеевич не выдержал, взял Джастина за руку и, глядя ему в глаза, сказал: «Молодой человек, ну после войны нас хотя бы не расстреливали!»
Я много раз рассказывал эту историю, и каждый раз у меня мурашки по спине. Потому что можно все что угодно говорить о тех компромиссах, на которые приходилось идти Церкви как организации, как угодно иронизировать над разного рода «буёвинами», выпускавшимися от имени священноначалия, но каждая встреча с представителями того поколения в Церкви – это живое свидетельство веры. И если вдуматься, то между расстрелами и всеми другими формами преследования, действительно, разница огромна.
Если говорить о церковных 90-х, то нельзя не сказать о том противостоянии между условно называемыми церковными либералами и условно называемыми церковными консерваторами, которое в 90-е годы было явным, болезненным. Феномен антиэкуменического движения был одной из тем, на которую приходилось писать, в том числе и объясняя западной аудитории, почему Русская Православная Церковь занимает именно такую сдержанно-критическую позицию в отношении Всемирного совета церквей и вообще экуменического движения.
Это противостояние было каким-то несправедливым, было во всем этом ощущение какой-то неправды. То есть мотивы были ясны, аргументы были понятны, но правды это не добавляло. Ну что, казалось бы, люди делят? Почему при первой возможности православные люди начинают делиться на партии, группки и друг друга поносить?
— Что представляли собой те экуменические встречи? Как участвовала в них Русская Церковь?
— Достаточно побывать на одной экуменической встрече и понять, что наше священноначалие и те представители Церкви, которые в них участвуют, там выглядят махровыми ретроградами, неконструктивными людьми, желающими подорвать общее дело христианского единства, а здесь их наоборот обвиняют в том, что они продались мировому закулисью.
В декабре 1998 года я в качестве журналиста ENI был в Хараре на Генеральной ассамблее Всемирного Совета церквей. Была очень маленькая делегация Московского Патриархата, которую возглавлял нынешний митрополит Иларион (Алфеев). Что интересно, у них даже было благословение Святейшего Патриарха всем членам делегации в священном сане не надевать подрясники! Они должны были ходить только в реверенде – черной рубашке с белым воротничком.
— Почему нельзя было в подряснике ходить?
— Тогда имели хождение видеокассеты со съемками разного рода экуменических встреч, особенно это касалось богослужений и молитв, в которых в прошлые годы было много всяких странностей допущено. Для того, чтобы избежать такой демонстрации, в Хараре не было ни одного богослужения, которое сочетало бы в себе элементы богослужения разных христианских традиций – по существу были богослужения разных традиций, на которых присутствовали гости. Корректно. Но все равно везде опасались подвоха.
![]() — После Christian Science Monitor и Ecumenical News International Вы переходите работать в «The Moscow Times» как журналист, пишущий о СМИ. И там Вы достаточно много пишете о религиозной ситуации в России?
— После Christian Science Monitor и Ecumenical News International Вы переходите работать в «The Moscow Times» как журналист, пишущий о СМИ. И там Вы достаточно много пишете о религиозной ситуации в России?
— Газета «The Moscow Times» одной из своих главных задач видела объяснение иностранцам, живущим и работающим в России, обычаев и реалий этой страны. И в эти рамки местная специфическая Церковь, в общем-то, попадала, и до меня о ней тоже в The Moscow Times писали.
Но моей главной работой было как раз писать о российских СМИ и смежной с ними политике. А тут как раз был Архиерейский Собор 1997 года, и я предложил написать, а там как раз делались первые попытки освоения Церковью современных реалий. И это понравилось главному редактору. И впоследствии церковные темы стали собираться вокруг меня.
— Как выбирали, о чем писать?
— Я выбирал то, что я считал общественно важным, говорящим что-то о тенденции развития общества. И это были темы, связанные со свободой совести, церковно-государственными отношениями, подготовкой и принятием закона 1997 года.
Все, что было связано с вопросом канонизации царской семьи, а также признания или непризнания так называемых «екатеринбургских останков». Эта тема наших читателей очень интересовала, потому что мы знаем, что все, что связано с монархией, вызывает интерес у американских, да и английских читателей.
В 1998 году я был в Екатеринбурге, когда был какой-то очередной этап, связанный с идентификацией царских останков и непризнания их Церковью.
— Это было сложно объяснить?
— Для западного читателя то, что ученые сказали, это и есть истина. Кто-то сказал, что наука – это религия нового времени. А тут… ничего не понятно. Какое такое ритуальное убийство? Почему эти верования оказываются гораздо сильнее любых разумных доводов? И даже когда Синод и Собор потом сказали, что не было ритуального убийства – что, повлияло это каким-то образом на эти живучие мифологемы?Это действительно очень трудно понять современному человеку, тем более западному человеку.
Но постараться в меру своих сил это объяснить и сказать, что это не священноначалие такие идиоты, которые не слышат этих доводов, а речь идет о таких-то и таких-то верованиях, которые имеют под собой такую-то и такую-то почву – можно.Я поехал тогда в Алапаевск и написал дорогую мне статью о Елизавете Федоровне, об Алапаевском монастыре.
В прошлом году побывал там через двенадцать лет, прошел с Крестным ходом от Алапаевска до Межной, написал об этом, снял видео – уже для РИА Новости. Это очень интересно! Я очень чту святую преподобномученицу Елизавету.

Андрей Золотов с внучатой племянницей св. вел. кн. Елизаветы Федоровны принцессой Баденской Маргаритой
— Можно ли написать новость о событии, которому без малого 2000 лет?
— Как-то на Пасху я понял, что не хочется мне снова писать про куличи, яйца и про то, какая это хорошая русская народная традиция праздновать Пасху. И я думал: как можно что-то сказать в газете о сущности Пасхи, о смерти и Воскресении? И вдруг, во время Литургии, кстати, пришла мысль: я поехал в Страстную Пятницу в Бутово и написал статью, которая начиналась новостным лидом: «Иисус Христос умер в пятницу днем в этой маленькой деревянной церкви на Бутовском полигоне, также как Он умер в тысячах православных храмов во всем мире». Это был самый смелый лид в моей жизни. Я был на службе выноса плащаницы в пятницу, вернулся в редакцию и написал. В субботней газете была статья, где я постарался сказать, как здесь совершаются литургии на мощах мучеников, как это было в первые века христианства. Буквально! Я очень благодарен, что редакция мне такую возможность давала.
Премия Темплтона
— Я помню, Вы стали лауреатом Темплтоновской премии по религиозной журналистике – первым из журналистов Восточной и Центральной Европы. Как это произошло?
— Ну, во-первых, не надо путать эту журналистскую премию с большой Темплтоновской премией, которая вручается выдающимся ученым за строительство мостов между верой и знанием. Фонд Джона Темплтона имеет еще много разных проектов, и в том числе премия по журналистике в области религии в США и, отдельно, премия по журналистике в области религии в Европе. Она так и называется – Европейский журналист года в области религии, и присуждается только светским журналистам, трудящимся в области религии. Эта европейская премия присуждается – по крайней мере, так было, когда я ее получил, в 1998 году, – совместно Конференцией европейских церквей и Фондом Темплтона.
А получилось все так, что мой редактор из ENI, Эдди Дуг, уж не помню, написал или позвонил мне и посоветовал подать на эту премию. Материалы ENI подавать было нельзя, потому что это все же церковная печать. А он посоветовал мне подать мои материалы из The Moscow Times. И я подал – две статьи из The Moscow Times – одна из них – очерк о Патриархе Алексие, а вторая – статья о пятидесятниках в России. И третий материал был – это статья-мнение из The Christian Science Monitor – о законе 1997 года о религиозных объединениях. Ну вот, я сделал вырезки, наклеил их на листочки формата A4, приложил свою биографию и отправил по указанному адресу. И благополучно забыл про это.
Каково же было мое удивление, когда через несколько месяцев позвонили нашему главному редактору, Джеффу Уайнстоку, и сообщили, что я получил эту премию и обошел при этом заслуженных религиозных корреспондентов лондонской «Таймс» и «Гардиан», которые получили вторую премию. Это событие послужило, конечно, репутации религиозной темы в газете. Потом меня пригласили на церемонию награждения, которая происходила в рамках пленума КЕЦ, который проходил в бывшем монастыре недалеко от Брюсселя.
Вот это место произвело на меня, я помню, очень мрачное впечатление – может быть, из-за того, что погода была ужасная, все время лил дождь и кругом были наводнения. Но главное – это огромное здание монастыря, построенное в форме каре, как принято в Европе, из темно-красного кирпича. И только один уголок этого четырехугольника занят каким-то церковным учреждением. Остальное – по всей видимости, сдают или продали. В части здания был вот такой конференц-центр, в котором проходило заседание КЕЦ – с комнатами-кельями с маленькими окошками и как из другого мира принесенными душевыми кабинами прямо в комнате. В другой части здания находились какие-то другие учреждения.
Помню, что тогда я был поражен тем, что в европейской стране, не пережившей советского атеизма, может быть такой вот бывший монастырь. С тех пор я еще такие видел и уже не удивляюсь. Как сказал мне однажды с сожалением в голосе старичок-хранитель музея в маленьком баварском городке на озере Тэгернзее, отвечая на мой вопрос, действует ли бенедиктинский монастырь поблизости, «Понимаете, у нас был такой период в истории, Просвещение, и в результате этого монастырь закрыли.»
А вручал мне премию митрополит Галльский Иеремия, который тогда возглавлял епархию Константинопольского Патриархата во Франции и был в тот момент президентом Конференции европейских церквей. Теперь он митрополит Швейцарский. И вместе с ним – директор Темплтоновского фонда, американский протестант-мирянин. И вот я думал – когда я выйду на сцену за дипломом, мне надо будет митрополиту руку пожимать или все же у него благословение взять? Посомневался-посомневался и решил, что негоже все-таки православному человеку с митрополитом рукопожатием обмениваться, даже в официальной обстановке. Благословился, под аплодисменты участников собрания КЕЦ.
— Насколько иностранцам в отношении России интересная тема религии?
— Очень интересна! Например, на конвенции Американской ассоциации славянских, восточно-европейских и евроазиатских исследований довольно много секций, посвященных религии, и православию в частности. Существует отдельная организация, которая называется Ассоциация по исследованиям восточного христианства — на академическом уровне интерес есть. Хотя тоже жалуются, что стало меньше мест в университете, связанных с преподаванием религии, чем когда-то. Думаю, что тут проблема шире. Я заметил, что православные часто жалуются, что их не хотят слушать. А мне кажется, что все наоборот: православных хотят услышать, а они часто не хотят или не могут донести членораздельно свои мысли, предпочитая общие декларации.
— В газете вам давали возможность писать о религии, а какое было отношение к этой теме в принципе? Поддерживали или просто разрешали?
— Когда меня провожали из «Moscow Times», то у нас была такая традиция (надеюсь, что она до сих пор есть в этой газете) уходящему сотруднику делать в подарок шуточную газету. В моей шуточной газете на центральной фотографии меня изобразили в виде Папы Римского, а бывший главный редактор, при котором прошла большая часть моей работы в газете, написал, что у него не было других репортеров, которые приходили бы в газету с миссией содействовать духовному возрождению русского народа.
Это была отчасти ироническая, но и искренняя ремарка, которая была мне приятна. А ведь я никогда такой цели не декларировал. Мало того, я максимально старался действовать по правилам западной журналистики – быть «над схваткой».
 — И вот Вы переходите в РИА Новости.
— И вот Вы переходите в РИА Новости.
— В январе 2003 года пришло новое руководство в «РИА Новости». Светлана Васильевна Миронюк меня пригласила создавать качественное экспертное издание о России. У меня была некоторая проблема с тем, что меня русские воспринимают как американского журналиста, а американцы воспринимают как русского, что я сижу на двух стульях, и я раздумывал, куда же мне двигаться дальше – в русские или в американские?
Предложение от РИА Новости означало, что можно продолжить сидеть на двух стульях, и поэтому меня сразу заинтересовало. В то же время, идти работать на государственное СМИ было для меня как-то страшно и, более того, не очень продуктивно с точки зрения цели проекта – издания, которое читали бы и уважали иностранные специалисты по России. И вот я провел исследование летом 2003 года, и на его базе сформулировал идею совместного проекта РИА Новости и издательского дома Independent Media. Это было то, что надо. А чтобы подготовить исследование, я за две недели взял пятьдесят пять интервью в четырех городах мира — никогда в жизни более напряженно не работал!
— Ваше издание должно формировать образ России у зарубежных экспертов – есть результаты? Удалось что-то изменить?
— Философия «Russia Profile» такова: если человеку сказать, что то, что он думает и знает о России, это все не так, то будет только отрицательный эффект – он отвергнет эту информацию. Кроме того, эти самые клише все на чем-то основаны и многие из них обоснованы. Поэтому мы говорим нашим читателям: то, что вы знаете, мы уважаем; давайте мы вам расскажем что-то еще. Жизнь не черно-белая, она гораздо богаче, в ней есть много оттенков серого и разных других цветов.
А внутренне я надеюсь, что если мне удастся хоть чуть-чуть расширить рамки ваших представлений, то в этих более широких рамках вы сможете сами двигаться и быть более свободными. Сначала я видел у людей некое сомнение. И мне дороже всего оценка известного американского эксперта и дипломата Стивена Сестановича, у которого в 2003 году был такой лёд и такой скептицизм в отношении нашего проекта! А через несколько лет в газете «The Washigton Post» была статья об имиджевых иноязычных проектах России, где Сестанович сказал, что Russia Profile – это лучшее, что было сделано в данной области и что это серьёзное издание. Значит, хоть кому-то хоть что-то мы смогли показать и доказать.
— В определенном смысле Ваша работа – пропаганда. И конфессиональная журналистика в какой-то степени часто становится пропагандистской…
— Тут я не согласен с Вами. Все-таки или журналистика, или пропаганда. Мы работаем с живыми фактами, живыми людьми. Мы бежим что есть мочи от ярлыка пропагандистов, который некоторые пытаются нам навесить. Потому что как только тебя воспринимают как пропагандиста – что бы ты ни сказал – это становится никому не нужно, твоим словам не доверяют.
Вы знаете, бывают талантливые пропагандисты. Есть целый ряд произведений искусства, которые по существу пропагандистские. Фильмы Сергея Эйзенштейна – это пропагандистские произведения. И это гениальные произведения искусства. Или там плакат Ираклия Тоидзе «Родина Мать зовет!» — это потрясающе. Поэтому я не могу сказать, что пропагандой заниматься нельзя. Наверное, можно. Просто я не умею.
Я понимаю, что и пропаганда, и контрпропаганда существуют, но я в них не играю. Такое реагирование – всегда пытаться дать «наш ответ» очередному Чемберлену — вообще не очень продуктивно. Это относится и к тому, что пишется о России за рубежом, и что мы пишем. И это относится к тому, что пишется о Церкви, и что я стараюсь писать о Церкви. Объяснять – да, пропагандировать – нет!
— А что американскому, англоязычному читателю обычно интересно читать о православии в России?
— В России в последние годы, как ни странно, место религии в обществе более свободно обсуждается, чем в западных академических кругах, потому что определенные секуляристские клише там действуют очень сильно.
Например, в 2007 году темой Валдайского форума – это такое собрание ведущих экспертов по России из разных стран мира — была избрана «Россия на перекрестке цивилизаций». Конференция проходила в Казани, и была большая дискуссия на тему отношений религии и цивилизации, влияния религии на современную жизнь общества, в которой участвовали владыка Анастасий, архиепископ Казанский и Татарстанский, муфтий Татарстана Гусман Исхаков, Сергей Александрович Шмеман – известный американский журналист, сын отца Александра Шмемана, и ваш покорный слуга.
После этой сессии одна из участниц форума, авторитетная дама-профессор из США, исследовательница России, подошла ко мне и сказала: «Спасибо, что вы организовали такую сессию. Пожалуй, у нас это сегодня было бы невозможно так эти темы заявлять и так о них говорить».
— Сложилась ли у нас светская журналистика о религии?
— Пожалуй, нет. Хотя в общем и целом ситуация с освещением религии в светских СМИ за последние 10 лет заметно улучшилась. Но, пожалуй, особняком стоит «НГ-Религии» эпохи редакторства Максима Шевченко.
— Почему? Чем она так всех зацепила?
— «НГ-Религии» заявила себя качественной, профессиональной экспертной политической газетой на религиозные темы. И Максиму удалось собрать круг авторов, который мог это делать. НГ-Религии была влиятельной газетой. И то, что там несколько моих материалов были опубликованы, я считаю для себя честью.
Это была политическая газета. Максим Шевченко неоднократно говорил о том, что в России религия — это политическая тема, а не культурная, как в западных СМИ.

На совместной конференции Russia Profile и Harriman Institute в Нью-Йорке Андрей Золотов, профессор Нина Хрущева, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов и директор Harriman Institute Кэтрин Непомнящая
— Вы согласны с такой позицией?
— Думаю, что он прав. Но роскошь журналистики о религии заключается в том, что если ты пишешь о религии, то ты пишешь обо всем — о политике, о культуре, пишешь об искусстве, о людях. Пожалуй, нет другой такой всеобъемлющей, синтетической темы! Это большое счастье, роскошь – иметь возможность заниматься такой журналистикой.
На протяжении всех последних двадцати лет и Православная Церковь, и мусульманская умма, и протестантские группы, так или иначе, ассоциируются с теми или иными политическими темами. В этом отношении Россия совершенно не уникальна. Достаточно посмотреть на американскую политику, чтобы увидеть, насколько мощно присутствие религиозных идей и религиозных разделений в американской политике. По существу, деление на правых и левых в Америке проходит по вопросу об отношении к абортам. А это не что иное, как религиозная тема.
— Есть еще какие-то причины дефицита светской журналистики о религии?
— Наверное, это недостаток традиции, да и страстность русских людей. Мне говорил один друг, что в России все верующие. Атеисты в России тоже верующие, и такого отстраненно-прохладного отношения к религиозным вопросам, которое требуется для объективного разговора о религии, пойди поищи. То есть степень включенности в то, о чем ты пишешь, очень высока.
— А конфессиональная журналистика, например, православная?
— Конфессиональная журналистика как христианская миссия вполне возможна, но это все должно идти от личности. Ведь для миссии важен живой христианский опыт. Нужно увидеть Христа в каком-то человеке. Вот я думаю, что апостолы были полны живого Христа. И это людей привлекало! Я считаю, что некоторые миссионерские опыты журнала «Фома» вполне удачны. Я думаю, что то, что вы сейчас делаете, пытаясь создать трибуну для дискуссии в рамках православного информационного поля – нужное дело.
— Должны ли быть темы-табу в религиозной журналистике?
— Табу быть не должно. А чувство меры нужно. Я считаю, что про дресс-код, например, надо поменьше говорить. Мы имеем дело с ситуацией, когда совершенно непропорциональный акцент делается на внешние элементы, на ритуалы, на обрядовую сторону. Я не могу сказать, что это не важно, но это совсем не так важно, как что-то другое.

На конференции по отношениям России и ЕС в Брюсселе с Федором Лукьяновым, Константином Косачевым и Александром Раром
Однажды моя жена, регент, была приглашена на радиоэфир на одну из радиостанций. Говорили о том, что поется в храме и как поется, о личном опыте, и где-то в середине часа вдруг всплыла тема платочков. «А в платочке ли вы поёте и не беспокоит ли это вас?» А она регентует без платочка, потому что ей этот платочек мешает, и сказала это. И вот, начиная с этого момента, и до конца программы все звонки были посвящены исключительно теме платочков. Эти вещи действительно людей увлекают и затмевают любой серьезный разговор.
— Должна вообще быть дискуссия в православных СМИ?
— Есть вещи, по поводу которых можно ломать копья и заниматься, в том числе, и жесткой полемикой с носителями секулярного сознания. Например, вопрос об абортах. Если бы половина энергии, потраченной на дискуссию по поводу дресс-кода, была бы потрачена на дискуссию о том, как нельзя и как можно ограничивать аборты в РФ, то я бы считал, что при любом исходе этих разговоров это было бы полезным делом. Чего я не могу сказать о дискуссии о дресс-коде. Мне до сих пор не понятен ее глубокий смысл.
— Есть ли изменения к лучшему в православной журналистике?
— Если сравнить ситуацию сегодня и 10 лет назад и 15 лет назад, то прогресс колоссальный. Очень много и в Москве и в епархиях (не во всех) более профессиональной журналистской работы. В этом отношении фестиваль «Вера и слово» является определённым показателем. Но не хватает все равно живых человеческих историй. Не хватает верующего человека, его жизни, его мотивации, его личной истории.
А ведь по существу только такая человеческая история позволяет средствами журналистики передать, что такое Бог. Он может быть отраженным в глазах, в делах героя очерка или интервьюируемого. А ни иконы, ни жития святых, ни проповеди, ни акафисты журналистскими жанрами не являются, даже если кто-то до сих пор пытается печатать их в газете.
— Как в целом вы можете охарактеризовать информационную политику Русской Православной Церкви?
— Усилия Церкви в общественном пространстве явно активизировались, и это чаще всего хорошо. Не всегда информационные поводы удачны, нередко они усиливают протестные настроения. В принципе рост протестных настроений заметен во всех слоях общества, а уж тем более среди людей думающих, независимых. К сожалению, многими Церковь воспринимается как некая новая идеологическая составляющая современного российского режима, и недовольство доминирующей политической ситуацией переносится на Церковь.
— А что, Церковь должна восприниматься как оппозиционная сила?
— Нет, совершенно не обязательно! Но она должна, безусловно, восприниматься, как отдельная от правящего режима и от оппозиции. То есть в чем-то позиция Церкви может совпадать или с теми, или с другими. Но она не может быть ничьим приложением. Вопросы социальной справедливости, заступничество за притесняемых людей или осуждаемых, да просто проповедь слова Божия – это то, что, на мой взгляд, должно больше присутствовать в миссии церкви в обществе и в СМИ.
Вот меня в свое время поразило, когда покойный митрополит Лавр, предстоятель РПЦЗ, стал появляться в российском публичном пространстве – это длилось недолго – он при каждом удобном и неудобном случае своим тихим голосом что-то говорил о Христе. Не о празднике, не о святых, не о важной социально-политической проблеме, а о Христе. И это производило впечатление на людей!
А ситуация, когда иерархи чаще появляются в общественном пространстве вручающими ордена тем или иным власть имущим, нежели проповедующими о Христе или говорящими какие-то неприятные для власти вещи, вряд ли может стяжать большую народную любовь.
Тем более, что мы знаем, что отношения Церкви с властью в реальности гораздо менее безоблачные, чем они предстают в СМИ. То есть Церковь как социальный институт зачем-то пытается сознательно создавать образ распрекрасных отношений с властью, что, во-первых, далеко не всегда правда, а во-вторых, приводит к разочарованию со стороны определённых слоев общества.
— Какое медийное событие, связанное с Церковью, Вы считаете самым ярким за последнее время?
— Я думаю, что, как ни странно, смерть Святейшего Патриарха Алексия и Поместный собор и выборы Патриарха в 2009-м году. Можно ли сказать «Смерть – это успех»? В христианском смысле слова, наверное, и можно и нужно так сказать. То есть то, как общество и СМИ проводили в последний путь Святейшего Патриарха Алексия, говорит о том, что это успех его жизни и успех Церкви.
>>>Последний русский европеец Алексий Второй
— И напоследок — ваш совет журналисту, пишущему о религии?
— Совет? Поменьше видеть себя в роли говорящей головы, поменьше выступать в качестве вещающего эксперта и побольше заниматься репортерской работой.
Недавно мы с моей уважаемой коллегой Ольгой Липич проводили класс религиозной журналистики в Международной мультимедийной школе журналистики, которую РИА Новости учредило совместно с Высшей школой экономики. У слушателей было задание – написать текст. Треть класса написали нечто от себя – решили просто взять и поразмышлять насчет той же реституции, строительства храма в университете и так далее.
Что мы получили — абсолютно некомпетентные, не имеющие отношения к действительности лозунги. Они не удосужились ни с кем поговорить, сделать репортаж, что-то узнать. Ограничились, как это теперь называется, «информацией из интернета» плюс собственными, мало на чем основанными и малоинтересными мнениями. Поэтому мы их работу не приняли, сказали переделать, и в итоге они поработали, и получилось очень хорошо.
Не надо видеть себя оракулами и комментаторами, лучше быть скромными репортерами, которые бы хорошо и документально правильно, фактически верно описывали, что происходит.
Фото из семейного архива Андрея Золотова и из открытых источников в интернете.
Некоторые тексты Андрея Золотова
- На пути к загадочной святыне (+ ФОТО)
- Второй год патриарха Кирилла
- Вызов Крещения
- Разноликие царские дни
- Церковь и современное искусство – диалог или сдача позиций?
- Современная Византия в украинской церковной политике
- Любовь кипрского священника и надежда русского села
- Предсоборное напряжение
- Убийство о.Даниила Сысоева: помолчим от удивления
- Архимандрит Матфей – целая эпоха в истории русской церковной музыки
- Выбор стратегии Русской церкви
- Последний русский европеец Алексий Второй
- Учил души смирением. На кончину митрополита Лавра
Читайте также:
Владимир Гурболиков: Почему я никогда не вступлю в «партию православных»
Владимир Легойда: «Ничего не боюсь!»

















