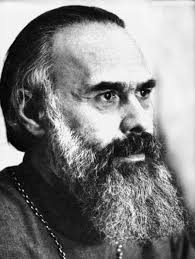
I
В первой беседе мне хотелось бы поговорить о том, что это такое — быть женой священника. Как вы догадываетесь, мои знания получены из вторых рук и вероятно, не очень велики. Но мне хотелось бы отметить один или два момента, которые поразили меня в жизни жен наших православных священников, особенно моменты, поразившие меня болезненно.
Собрав все, что я узнал от разных людей, я пришел к заключению, что в жизни жены священника есть две большие трудности не на уровне действия, а на уровне бытийном. Одна пожилая женщина, на протяжении многих лет жена замечательного священника, сказала мне, что первый момент состоит в том, что тогда как Авраам принес в жертву своего сына Исаака единожды, каждый священник чувствует, что его долг хорошего священника — приносить в кровавую жертву всю свою семью ежедневно. Мало того: в случае Авраама Бог обеспечил в замену ягненка, а за жену и детей священника Он никакого выкупа не предлагает. День за днем муж или отец приносит семью в жертву тому, что полагает своим долгом: созидание Царства Божия и церковная деятельность. Когда жена и дети могут видеть реальную ценность действий мужа и отца, жертва болезненна, но имеет смысл; но гораздо чаще бывает, что объективная ценность действий священника не очевидна, отчасти потому, что в деятельности священника всегда есть сторона, которую он объяснить или передать другим не может, отчасти же потому, что многое, что священник делает, воображая, будто строит Царство Божие, совершенно бесполезно и представляет собой пустые хлопоты.
Во втором случае жена должна проявить понимание и помочь мужу различать между созиданием Царства Божия и множеством действий, не имеющих с этим Царством ничего общего; действий, которые рядом с Гефсиманским молением, Крестной жертвой, славой Воскресения и Вознесения представляются почти кощунственными. Но в первом случае от жены требуется вера, подлинная вера, которая помогает мужу действовать, дает ему ощущение доверия и поддержки жены, даже когда она не имеет права понять его действия до конца. Есть проблемы, связанные с частной жизнью людей, о которых жена не имеет права знать, есть проблемы, связанные с исповедью и дальнейшим развитием человеческих отношений, где жена может принять участие, но очень небольшое, побочное, и здесь снова от нее требуется вера, — вера, покоящаяся на доверии, выражаемая словами: “Я не понимаю, почему ты так поступаешь, но я знаю, что ты человек цельный, человек правдивый, человек Божий, человек любящий, и не вмешиваюсь в твои действия, более того, поддерживаю тебя молитвой, преданностью, всеми силами храня покой и устойчивость в доме”.
Я менее всего говорю о внешней стабильности семьи, я говорю о прочности, надежности; потому что очень легко действовать, когда тебе доверяют, и почти невыносимо что-то делать, когда человек, которого ты любишь больше всех, сомневается в тебе на самом глубинном уровне.
Есть и другие трудности в жизни жены священника. Любой другой человек, когда что-то неладно, может обратиться к Богу. Жена священника порой не может обратиться к Богу свободно и с открытым сердцем, потому что именно Он — причина ее душевного страдания. Ведь именно на службе Ему, в Его имя, из-за Него возникают трудности, которых иначе могло бы не быть; и это должны понимать и учитывать оба — и муж, и жена, и им следует приносить свои трудности Богу во всей простоте и открытости. И помимо Божьего руководства, временами требуется еще чье-то суждение и вмешательство: духовника, друга или епископа.
Я хорошо помню семью одного священника, где возникли большие сложности в отношениях, были потеряны радость, доверие, и не по греховности, а из-за праведности супругов. Муж был исключительно хороший священник. Так как он был русский священник, то он и его семья жили в большой материальной нужде. Все свое время и жизнь он отдавал пастве, семья чувствовала себя совершенно покинутой. Однажды кто-то из детей сказал: “Ох, как бы я хотел быть сиротой, тогда у него нашлось бы время для меня!”. Это очень трагические слова. И как-то я обратился к этому священнику и сказал: “Послушай, ты воображаешь, будто строишь Царствие Божие, но для всех очевидно, что ты разрушаешь собственную семью, а семья есть Церковь, по слову апостола Павла и образу, который он дает. Ты должен отказаться от половины священнической деятельности, чтобы воссоздать свою семью”. Он ответил с полным сознанием, что таково призвание священника: “Как же можно? Бог послал меня к этим людям, разве я могу их покинуть?”. Тогда я воспользовался своей привилегией духовника и сказал: “Ты сделаешь это из послушания, и если кому-то грозит осуждение от Бога, я беру осуждение на себя, но ты отныне отдаешь полжизни семье”.
Он так и поступил, сделав это с удивительной честностью и цельностью. Через некоторое время его жена пришла ко мне и спросила: “Что вы сделали с моим мужем? Мы счастливы!”. Тогда я спросил в свою очередь: “И как это повлияло на жизнь прихода? Приход распадается?”. И она, а затем и ее муж ответили: “Наоборот, не знаю, почему, но мне теперь не нужно бегать из семьи в семью, люди приходят к нам домой, потому что, как они говорят, находят у нас мир, счастье и свидетельство того, что если дать Богу быть хозяином в доме, дом становится раем”.
Я думаю, это очень важно помнить. Может быть, я должен был бы сказать это скорее вашим мужьям, чем вам, но я думаю, всем надо осознавать эту проблему, иначе главным врагом жены священника становится Бог, потому что из-за Него, в Его имя ежедневно приносится Авраамова жертва, из-за Него разрушается радость, счастье, устойчивость семьи.
Я начал с библейского образа, с Авраама, приносящего в жертву Исаака. Хочу представить вам другой образ. Думаю, что если жизнь священнической семьи будет правильно понята, то несмотря на волнение, напряженность, борение, среди которых протекает эта жизнь, она может раскрыться ясности, покою и глубине. Вы наверно помните отрывок из книги пророка Осии, кажется, из второй главы, где Господь говорит: И дам ей <…> долину Ахор, в преддверие надежды (Ос 2:15). “Долину Ахор” можно перевести как “долина тревоги”, поскольку на иврите “Ахар” значит тревожиться и “Ахор” — тревога. “Я превращу долину тревоги во врата надежды”. Пожалуй, именно это я хотел передать вам в нашей беседе и, может быть, помочь вам различить в этой “долине” очертание и признаки открывающихся врат.
Посмотрим на долину Ахор. Вы помните из Священного Писания, что это одно из самых трагических мест еврейской истории. Именно здесь Иисус Навин приказал забросать камнями Ахана, сына Хармия, вместе со всей его семьей за то, что после падения Иерихона они тайно взяли себе часть общей добычи (Нав 7:24–25). Ужас святотатственного воровства и жестокий приговор заставили евреев навсегда назвать место, где это произошло, местом горя, долиной тревоги. Но с этим местом связано и обетование. Исайя говорит (Ис 65:10), что долина Ахор станет местом “отдыха для волов”, местом покоя и мира, а Осия (см. Ос 2:5) дает еще более прекрасное обещание, он говорит, что здесь будет больше, чем мир, здесь будут “врата надежды”.
Мы все искуплены и спасены из рабства Господом, все оставили землю рабства, Египет. Мы взяли в собственные руки наше путешествие к граду Божиему, но вдобавок, как это случилось с евреями на пути из Египта в землю обетованную, некоторые были избраны, чтобы идти под водительством великого пастыря, Моисея, под водительством Христа, Которого прообразует Моисей в Ветхом Завете, и так же быть водителями и помощниками. Священник в Церкви вместе с семьей принадлежит к тем, кого Бог избрал в помощь великому Пастырю. На этом пути, в конкретных обстоятельствах нашей жизни — неоднократно, но символически — единожды мы приходим на место, называемое Иерихон. В истории евреев Иерихон был городом, окруженным двойной стеной, в него никто не мог войти, и выйти из него было невозможно, этот город окружил себя стенами и закрылся в них.
Разве это не образ каждой человеческой души, каждой семьи, любого класса общества, любой политической партии, любой группы людей или любого человека, которые из страха или по ненависти отказываются от общения, от контактов, от человеческих взаимоотношений? В такой ситуации находится священник, его жена и дети. Мы постоянно наталкиваемся на города, обнесенные двойными стенами, защищенные внешней стеной отвержения от других и внутренней стеной замкнутости на себе, и наша задача — заставить эти стены пасть.
Что случилось в еврейской истории? Стены не были сокрушены камнями. Перед лицом отвержения, будь то делом или словом, чем больше вы нападаете, тем больше вас отвергают. К стенам не были применены насильственные способы. Евреям было приказано обойти вокруг стен семь раз (семь — чисто полноты и исполнения) в созерцательной тишине, неся самое святое, что у них было — Ковчег, сосредоточив все внимание на Ковчеге и трубя в трубы и шофары (роги).
Бараний рог, шофар (вспомните жертвенного ягненка, упомянутого мною в начале) и в Ветхом Завете, и в современном иврите связан с прощением и искуплением. В день покаяния и прощения, в Йомкипур, в синагогах во все времена и по всему миру трубят в шофар. Рог возвещает прощение, но прощение означает падение, разрушение стен разделения. Прощение означает, что случилось нечто, что разрушило разделение и создало союз, единение, согласие, общение, связь, зарождающуюся любовь, а может быть и любовь осуществленную. Евреи шли, сосредоточившись только на своем Святое Святых, трубя в рог прощения и искупления, и когда на седьмой день время исполнилось, стены рухнули и пали, и город остался незащищенным. Затем случилось нечто, в историческом плане ранящее и трагическое, нечто, что я вовсе не собираюсь обсуждать: все население было уничтожено. Но образно говоря, эти люди, замкнувшие себя в отрицании внешнего мира и сосредоточенные на самих себе, олицетворяют такое отношение, в результате которого создается разделение и невозможны более единство, общение и любовь. Они должны были исчезнуть.
Точно так же, когда между группами людей или отдельными людьми падают стены, потому что кто-то оказался способен так любить, что прощение пришло к тем, кто не был готов его принять, мир пришел к тем, кто не был людьми мира, тогда все, что есть отрицательного: неприятие, ненависть, алчность, страх, эгоцентризм и т. п., должно быть уничтожено, и те, кому было дано это осуществить благоговейной молитвой и провозглашением любви Божией, звуком рога, никоим образом не должны приобщиться испорченности города. А присвоить что бы то ни было, принадлежащее городу отвержения, есть святотатство, тем самым мы становимся участниками самого существа этого отрицания, и вот почему в текстах, которые я привел, Ахан и его семья должны были умереть смертью тех, кто нес это отрицание, потому что он сам стал этому отрицанию причастен. Они присвоили нечто, то есть хотели обладать этим, исключив всех остальных. Они стали соучастниками духа Иерихона, а не града Божия; и однако эта долина тревоги, долина Ахора, место, напоминавшее о чем-то чрезвычайно трагическом, должно было однажды превратиться в дверь надежды. Особенно трагично, что Ахан и его семья были членами того самого народа, той самой группы людей, которые участвовали в общем богослужении, молились, чтобы пали стены разделения, и однако эти стены разделения выросли в них самих новым Иерихоном.
Это было предательство, святотатство среди тех, кому надлежало творить дело Божие. Чрезвычайно важно понять наше положение: мы — израильтяне, среди нас Ковчег, мы призваны заставить стены рухнуть; но никакая атака, никакая агрессия не заставит стены рассыпаться; при нападении агрессивность и насилие лишь сильнее обороняются. Стены рухнут только от звука горна, трубящего мир, только вследствие священной процессии людей Божиих, свидетельствующих о своем единстве с Ковчегом. Это приложимо к священнику с семьей, потому что то была не процессия левитов, не левитское богослужение, процессия была священная не в “клерикальном” смысле, выражаясь современным языком, — это было действие народа Божия. И первое место среди народа Божия, поскольку речь идет о сознательной готовности действовать согласно воле Божией, принадлежит священнику и той, которая едина с ним, и также тем, кто родились от них.
Теперь я хотел бы предложить вам третий образ, касающийся священника и особенно его жены, в контексте человеческих отношений; не описывая специально приходские ситуации, но человеческую ситуацию в ее универсальном, глубоко человеческом аспекте, универсальном в том смысле, что она приложима ко всему без исключения.
Вы не хуже меня знаете вторую главу Евангелия от Иоанна, рассказ о Кане Галилейской. Мне хочется обратить ваше внимание на роль, которую играет в этом событии Матерь Божия; не ко всей притче, а к месту Богоматери и тому, как Она поступает, потому что Она была не просто “полезной” во внешнем смысле, Она играла непреходящую и решающую роль в этом событии.
Кана, деревушка в Галилее. Брак в бедной семье: гости, крестьяне, друзья из соседних деревень, может быть, несколько друзей из маленьких провинциальных городков в округе — как Питерборская епархия; среди прочих приглашена Мария, Мать Иисуса, и также Иисус с учениками. Пир бедняков. Это значит — все, что у них было, уже на столе, они поставили все, что могли, а сердца гостей еще голодны, жаждут еще радости, веселья еще большего, чем уже испытали, и им не хватает вина. И тогда Матерь Божия обращается к Сыну и говорит: “Вина нет у них”.
Можно ли поверить, что Матерь Божию волновало только, чтобы запас вина был бесконечен и чтобы гости могли пить, пока не упьются, и чтобы праздник любви завершился всеобщим опьянением во всем его безобразии? Конечно, нет. Но вы помните образ вина в Писании: вино веселит сердце человека (см. Пс 103:15), вино бодрит людей. И на другом краю спектра — рассказ о Пятидесятнице, схождении Святого Духа, слова людей, слышавших первую проповедь Апостолов: еще слишком рано, чтобы они могли быть пьяными от сладкого вина, и однако они говорят, как люди опьяневшие (см. Деян 2:13 и сл.). Везде в Писании образ вина есть образ того, что прикосновение Божие, явление Святого Духа может сделать с человеческой душой: зажечь ее так, что она горит пламенем, полным жизни, света, порыва, сияния и тепла.
Матерь Божия обращается к Своему Божественному Сыну не для того, чтобы Он совершил приземленное чудо, которое кончится земной гулянкой, а чтобы Божественное прикосновение придало празднику нечто, что никогда не улетучится, что сделает радость глубокой, вечной. Но обратите внимание на разговор. Я буду пользоваться переводом, который кажется мне наиболее близким к греческому тексту.
“У них нет вина”. Иисус оборачивается к Матери и говорит Ей: “Что Мне и Тебе, Жено? Еще не пришел час Мой”. И затем, против всякой логики, ничего не отвечая Сыну, противореча Его словам каждым Своим действием, Матерь Божия обращается к слугам и говорит: “Что скажет Он вам, то сделайте”. Христос только что сказал, что ничего не собирается делать. Он только что спросил Ее, почему, по какому праву вообще Она обратилась именно к Нему. Она же указывает слугам выполнить, что бы Он ни приказал, и, как бы противореча Себе, Господь совершает нечто. Он совершает чудо в Кане.
Это не цепь бессмыслиц, это нельзя объяснить ошибкой в тексте, это нельзя принять просто потому, что это Священное Писание, в надежде, что когда-нибудь мы сможем понять то, что пока представляется невозможным для понимания. Христианские авторы силились понять этот текст, и из глубин церковного опыта возникло некое объяснение. Святой Иоанн Златоуст принял пессимистическую точку зрения. Он говорит, что здесь мы видим пример обычного поведения матерей: поскольку они привыкли приказывать детям, пока те были маленькими, матери думают, что могут продолжать командовать всю их дальнейшую жизнь, и даже Мать Иисуса заслужила упрек в этом. В свете дальнейшего это толкование кажется мне неверным. Я позволю себе реконструировать текст, — это, конечно, только парафраза и попытка прояснить смысл.
Матерь Божия, тронутая состраданием, знающая, что такое совершенная радость, радость духа, обращается к Сыну и говорит: “У них нет вина, радость тускнеет, пир подходит к концу, но посмотри, сердца их распахнуты, глубоко открыты в ожидании радости”. Он отзывается: “Что у нас общего? Почему Ты обратилась ко Мне? Потому ли, что Ты Мать Моя по плоти и из-за этого чувствуешь Себя ближе всех ко Мне? В таком случае, Мы все еще в области естественных отношений, а это не область благодати, не область Царства, здесь не бывает чудес; и тогда Мой час еще не пришел”. И затем, не отвечая Ему, но свидетельствуя, что Царство Божие неким образом уже пришло, Матерь Божия совершает акт веры: “Что Он скажет вам, то делайте”. И поскольку Она — Та, о Которой Елизавета, движимая Духом, вдохновленная Им в самом сильном смысле слова, сказала: благословенна Ты, уверовавшая, что дано будет Тебе по вере Твоей, по слову Божию (Лк 1:42–45), Она совершает акт абсолютной веры, и Царство Божие устанавливается, ибо везде, где Богу предложена абсолютная вера, то есть полное доверие и верность, Бог свободен действовать: Царство пришло.
По древнему еврейскому изречению, Бог может действовать везде, если только человек Его допустит. И Христос отзывается; здесь больше не действуют естественные отношения, это связи по благодати, по Царству, которое объявлено и свершено, достигло полноты, стало явным. Согласно законам Царства Бог действует свободно, и вода, обычная вода обычной жизни становится вином Царства Божия.
Я сказал, что хочу обратить ваше внимание только на одного человека, на Божию Матерь, потому что во многих жизненных ситуациях вы занимаете именно Ее место. Вы можете быть тем человеком, который способен проявить внимание, чуткость, сострадание, понимание, любовь, вы может различить нужду, не высказанную людьми, которые не верят в возможность выхода. Если вы просто присядете за столом к радующимся, если вы просто посидите у постели больного, если вы просто окажетесь среди обездоленных, сомневающихся, отчаявшихся, — смотрите, слушайте, будьте внимательны, учитесь различать. В какой-то момент вы сможете обратиться к Богу и сказать: Господи, здесь нужда. Ты открыл ее мне, потому что, по-человечески говоря, мы все слишком эгоистичны, слишком слепы, слишком эгоцентричны, слишком замкнуты в себе (по образу Иерихона) и не замечаем нужды рядом. И я верю в Тебя, я доверяю Тебе безоговорочно. Я знаю, что как Ты говорил с Авраамом о Содоме и Гоморре, воспламеняя его любовью, на которую Ты мог бы ответить, как Ты ответил на молитву Твоей Матери, Ты ответишь и на мою молитву. Я в это верю и потому среди людей, которым кажется, что Царство Божие далеко, — Царство Божие уже здесь, оно уже пришло в силе. Ты можешь действовать, Господи, потому что здесь присутствует человек, который верит безоговорочно и зовет: “Приди, Господи Иисусе!”.
И это мы можем делать всегда, везде; нет момента, нет ситуации, когда мы не могли бы быть тем, чем была Матерь Божия в Кане Галилейской, чем были миллионы христиан в подобной или глубоко отличной ситуации. Присутствие веры дает Богу возможность действовать.
II
Я начну с чтения отрывка из “Записок Пиквикского клуба” (см. Ч. Диккенс. Записки Пиквикского клуба. Гл. II. — Ред.) и предлагаю: чтобы лучше связать цитату с последующим текстом, везде, где встречается слово “лошадь”, мысленно подставьте слова “священнослужитель”, или “мой муж”, или “я”.
— Кэб! — окликнул мистер Пиквик.
— Пожалуйте, сэр! <…> — заорал странный образчик человеческой породы <…>
— “Золотой Крест”, — приказал мистер Пиквик.
— Дел-то всего на один боб1 <…>, — хмуро сообщил кэбмен своему другу уотермену, когда кэб тронулся.
— Сколько лет лошадке, приятель? — полюбопытствовал мистер Пиквик, потирая нос приготовленным для расплаты шиллингом.
— Сорок два, — ответил возница <…>
— Что? — вырвалось у мистера Пиквика, схватившего свою записную книжку.
Кэбмен повторил. Мистер Пиквик испытующе воззрился на него, но черты лица возницы были недвижны, и он немедленно занес сообщенный ему факт в записную книжку.
— А сколько времени она ходит без отдыха в упряжке? — спросил мистер Пиквик в поисках дальнейших сведений.
— Две-три недели, — был ответ.
— Недели?! — удивился мистер Пиквик и снова вытащил записную книжку.
— Она стоит в Пентонвиле, — заметил равнодушно возница, — но мы редко держим ее в конюшне, уж очень она слаба.
— Очень слаба! — повторил сбитый с толку мистер Пиквик.
— Как ее распряжешь, она и валится на землю, а в тесной упряжи да когда вожжи туго натянуты она и не может так просто свалиться; да пару отменных больших колес приладили; как тронется, они катятся на нее сзади; и она должна бежать, ничего не поделаешь!
Я думаю, что это прекрасное описание жизни духовенства.
Здесь описан один из основных моментов, делающих жизнь трудной. Кэб (можно сказать “приход” или что угодно) обладает замечательно большими колесами; стоит лошади тронуться с места, они начинают крутиться. И что остается делать лошади, как не бежать, спасаясь от колес? По-видимому, деятельность и все возрастающая деятельность есть неизбежное условие жизни жены священника или его собственной жизни. Но проблема состоит не только в том, чтобы быть деятельными; проблема в том, чтобы знать, является ли наша деятельность христианской. Ибо все, что делают священник и его супруга во имя Христа, должно быть христианским. Я не подразумеваю совершенно нехристианские слова или поступки в моменты нетерпения или что-то подобное. Я имею в виду нечто гораздо более существенное. Что такое христианское действие? Каким образом действие может быть специфически христианским, в отличие от добронамеренной, разумной, эффективной, нравственно здравой деятельности неверующего человека или секулярного мира? И кроме того, как в эту картину включить созерцание?
Если, думая о созерцании, вы определяете его в терминах кельи затворника или отшельника в пустыне, а деятельность оцениваете по ее эффективности или цели, тогда, подобно Востоку и Западу в стихотворении Киплинга, “вместе им не сойтись”. Но есть ли деятельность то, что мы обычно понимаем под этим словом, и нужно ли определять и описывать созерцание в терминах, какие мы обычно употребляем?
Позвольте мне обратить ваше внимание вот на что. Христос — образец для всякого христианина. Не думаю, что кто-либо может утверждать о себе, что он более эффективно, постоянно и совершенно деятелен, чем Христос. Вся Его жизнь была действием, говорил ли Он или молчал, обращался к отдельному человеку или к толпе, исцелял кого-то или просто пребывал в присутствии людей, — Он всегда был в действии, потому что действовал изнутри Себя, и Его влияние сказывалось в том, Чем Он был, а не только в том, что Он делал.
С другой стороны, никто никогда не был столь постоянно и совершенно в созерцании, как Господь, но отнюдь не смысле бегства от жизни в молитву, а в другом, более существенном, более значительном. Евангелие говорит нам, кажется, в 5-й главе от Иоанна: Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу; и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца (Ин 5:30). Иначе говоря, слова Христа, произнесенный Им суд был судом Божиим, который Он воспринял с совершенным вниманием, в акте совершенного слушания и исполнения в совершенном послушании услышанному. Мы не раз видим в разных местах, как Христос говорит, что Отец все еще действует, творит. И то, что Отец делает, Он показывает Сыну, и Сын выражает, воплощает, осуществляет это в Своей земной жизни и до конца времен. Следовательно, говорил ли Он или действовал, Христос всегда действовал из глубины созерцания. И созерцание в Нем было совершенной способностью слушать и слышать, смотреть и видеть, и осуществлять, будь то словом или движением, или безмолвием, или воздержанием от действия, — то, что Бог хотел видеть свершившимся.
Я еще вернусь к тому, каким образом мы можем что-то узнать об этом, но тут мы можем видеть, что действие и созерцание для Христа были одно и то же. Он действовал словом, жестом, поступками; Он Сам был действием Божиим, и именно это характерно для христианского действия. Я не хочу этим сказать, что различные наши действия, совершенные в соответствии с Евангелием, по заповедям Христа, целенаправленно, совместно и, следовательно, в поиске, что и как мы должны делать, не находятся в области христианского делания; но хочу подчеркнуть, что в конечном итоге христианское действие должно быть действием Божиим, которое мы уловили и выполнили. Вот чем мы должны быть на самом деле.
В этом отношении возможно противоречие между нашей человеческой мудростью, проницательностью, уроками опыта, совместного планирования, логических заключений, выводимых нами в контексте Евангелия из некой ситуации, и действиями, которых Бог ожидает от нас. В действиях Божиих есть нечто странное, что я постараюсь прояснить в терминах контраста между человеческой мудростью, умудренностью и Божественной мудростью. Человеческая мудрость обогащается опытом прошлого. Это может быть мое собственное прошлое. Это может быть более широкая область прошлого: прошлое рода, семьи, общественной группы или народа. Это может быть прошлое человечества, это может быть совершенно особенное выражение прошлого, которое мы находим в Священном Писании, где прошлое видится очами Божиими, судится Духом Святым и выражается человеческой мудростью. Человеческая мудрость укоренена во всем, что можно воспринять из прошлого опыта. И с человеческой точки зрения в каждый данный момент мы действуем определенным образом, потому что прошлое научило нас, что так поступать — правильно. Этот способ сработал в прошлом в подобной ситуации и, следовательно, вероятно будет работать и в настоящем. Когда мы планируем будущее, мы также извлекаем из прошлого и проецируем на будущее опыт, накопленный лично или сообща, и накладываем его на то, что еще впереди нас.
Бог же не действует просто исходя из прошлого или настоящего. Он не повторяет Себя, даже если действует похоже в двух различных ситуациях, поскольку в зависимости от контекста и участвующих людей каждая ситуация отлична. Даже если по видимости то, что Бог говорит или делает, повторяет то, что Он уже говорил или делал в другом случае, всегда присутствует новизна, потому что ситуация и участвующие в ней люди другие.
И еще. Бог действует не только потому что Ему предложена ситуация, и Он к ней приспосабливается, чтобы обратить зло в добро, тьму в свет или изменить, исправить, а затем преобразить человеческую ситуацию. Он действует словом и делом, имея в виду исполнение времен. Причина, почему Бог действует определенным образом, находится не в настоящем, она в будущем. Он действует в направлении к, а не исходя из или по причине того, что… — и этим объясняется, почему так часто Божественное действие непредсказуемо и то, что Бог делает, беспрецедентно.
Человек, созданный, чтобы быть спутником Бога в вечности, отпал от Него. Бог веками через Закон, пророков, разнообразными путями, которыми Он являет Себя человечеству, выпрямляет то, что человек исказил. Но в определенный момент Он совершает нечто, что является ответом на падение человечества; что не есть исправление ситуации, но вводит в нее абсолютную, немыслимую новизну: Сын Божий становится Сыном человеческим, Слово Божие облекается плотью, Сам Бог становится частью человеческой истории и облекается всей физической материей нашего мира. Это характерно для Божественного действия; так, имея в виду будущее, имея в виду эсхатологическое исполнение всего, Бог вводит из вечности элемент, отсутствующий и в прошлом, и в настоящем. И если мы представляем себе действие только как прикладную науку, которая исходит из прецедентов, взятых из Писания, и просто стремится приложить все предписания и правила, если мы думаем о христианском действии как об извлеченных из прошлого уроках, прилагаемых день за днем к вечно развивающемуся, развертывающемуся настоящему, то мы не постигаем самого характера христианского действия, которое состоит в том, чтобы передавать неожиданное, всегда новое действие Божие. А это значит, что если мы хотим быть истинными христианами, мы должны, с одной стороны, извлечь все, что можно, из прошлого, с другой стороны, извлечь из слова Божия все руководство для жизни, заключенное в нем, чтобы жить и действовать в соответствии с Его волей, совершенной и желанной; и однако, мы должны оставить простор для неожиданного действия Божия. Мы должны быть настолько свободны, чтобы в любой момент оказаться способными действовать против или помимо всяких ожиданий, не только против ожиданий других, но и против того, что мы могли бы ожидать от самих себя. Но это возможно, только если находиться в состоянии созерцания, которое позволяет нам слушать и слышать, видеть и действовать в согласии с тем, что нам было дано.
Очевидно, что такое созерцательное настроение или подход не имеет ничего общего с теми основными формами созерцательной жизни, которые мы встречаем у многих восточных и западных святых. И сейчас речь идет не об этих главных аспектах созерцания, которые являются следствием Божественной благодати и непредсказуемы, как все Божественные действия, а о том, что мы можем сделать в нашей обычной ситуации, чтобы научиться слышать Бога и видеть Его пути.
Я начал с “Записок Пиквикского клуба”; следующей цитатой я спущусь гораздо ниже Диккенса. Года два назад я на пару с каноником Дугласом Раймзом читал лекции о молитве в нескольких городах Соединенных Штатов. Меня забросило в чей-то кабинет, и так как я был слишком усталым, чтобы оставаться без дела, то взял с полки книгу. Мне предстояло прочесть лекцию о созерцательной жизни, и Провидение послало мне стишок, который вам, вероятно, хорошо знаком, но вряд ли применялся для духовного научения. Он начинается так:
В лесу жила-была премудрая сова.
Преостро видя все, скупилась на слова;
Скупясь же на слова, все слышала и знала.
Ах, если бы она для нас примером стала!
Я думаю, это почти исчерпывающее учение о созерцательной жизни для начинающих и для тех, кто живет приходской жизнью, для людей в миру. Стишок говорит нам, что первое условие, чтобы слышать — научиться некоторой степени молчания, первое условие, чтобы видеть — научиться смотреть. Это кажется очевидным. Но это не очевидно из того, как мы относимся к этой теме. Вы прекрасно знаете, как мы слушаем друг друга. Пока человек говорит, мы в мыслях комментируем его слова, и в конце его речи у нас готово возражение ему. Мы не прислушивались к тому, что он говорил, мы вслушивались в то, что можем ему возразить. То же самое верно в отношении зрения. Очень редко мы смотрим в лицо человеку так, чтобы запомнить и увидеть его. Есть хороший пример этому в Писании и множество примеров в жизни. Например, в рассказе про Авраама, как он проходил на своем пути через небольшое царство, и царь сказал ему: Авраам! Как прекрасна твоя жена! И затем текст прямо говорит: Тогда Авраам поглядел на жену свою и увидел, что она прекрасна. Они были женаты, вероятно, более ста двадцати лет. Конечно, было время, когда Авраам только и делал, что смотрел в ее глаза и видел ее лицо, но затем они поженились, и вместо того чтобы смотреть друг другу в лицо, они стояли рядом, вместе глядя в будущее, в даль.
Не так ли мы поступаем все время? Часто ли мы помним лицо человека, которого каждый день встречаем на работе, на улице, на лестничной площадке? Мы узнаем человека по нескольким формальным характерным чертам, вот и все. Я помню одного священника; проповедуя в его присутствии, я сделал подобное замечание. Он сказал: “Как я могу помнить людей, приходящих ко мне? Я слишком многих вижу!”. Нет, он не видел никого из приходивших к нему! Потом он спросил: “Можете ли сказать, каким образом этому научиться?”. Я ответил: “Закройте глаза и скажите, какого цвета глаза у вашей жены”. Он не смог дать ответ! — они слишком долго были женаты… И это чрезвычайно серьезно. Оно, конечно, звучит забавно, но это значит, что мы не видим людей и не слышим, что они говорят. Что касается слышания, тут дело обстоит некоторым образом еще хуже, потому что глазами мы способны по крайней мере узнать человека, опознать его, но так как мы трусливы, слушаем мы неохотно. Мы слушаем только слова, стараясь не брать на себя риск понять смысл, стоящий за словами; закрываем сердце, чтобы не брать на себя ответственность, чтобы не связаться с мыслью, с жизнью другого человека.
Не случалось ли вам, навещая больного, спросить его: “Ну, как ты сегодня?” — “Спасибо, все хорошо”. И вы знаете, что не станете оспаривать это утверждение. Вы видите тоску в его глазах, слышите неуверенность в голосе, видите осунувшееся лицо, но вы ничего не говорите, потому что знаете, что если вникнуть, то вы окажетесь вовлеченными в ситуацию, а вы боитесь оказаться вовлеченными. И это относится ко всем нам. Это одновременно человечно и бесчеловечно. Так что когда мы слушаем, недостаточно спрятаться за произнесенными словами: “Спасибо, хорошо”. — “Тебе что-нибудь нужно?” — “Нет, спасибо”.— “Ну, ладно”. Мы должны смотреть в глаза, слышать голос, пытаться воспринять мысль, которую выдает и выражение лица, и тон голоса, идти дальше и дальше, рисковать до конца.
Это уже созерцательный подход. Так мы освобождаемся от самосозерцания. Мы разрушаем стены Иерихона и смотрим с тем, чтобы увидеть, слушаем с тем, чтобы услышать. И это созерцательный подход. Этому каждый может научиться, не сходя с места. У вас будет возможность проделывать такого рода упражнения в созерцании каждый раз, когда кто-либо встретится вам, каждый раз, когда кто-то позвонит вам в дверь, каждый раз, когда на улице вам встречаются люди, ничем с вами не связанные, каждый раз, как вы пойдете в магазин. И это будет началом таких глубин проникновения, какие вам даст Бог в ответ на вашу открытость. В идеале мы должны научиться быть настолько свободными от себя, настолько постоянно чуткими, чтобы воспринимать и принимать все впечатления, полученные от ближнего и от Бога.
Образцом такого рода созерцательного подхода может служить наблюдение за птицами. Если вы хотите наблюдать дикую природу, вы должны встать рано и быть на месте до пробуждения природы. Вы должны устроиться в поле или в лесу очень тихо, спокойно, растворившись в тени, так, чтобы стать совершенно незаметным, а затем вы должны одновременно быть полностью настороженным, внимательным и живым, чтобы ничто не могло отвлечь ваше внимание, вашу восприимчивость, и одновременно быть до конца непредубежденным, полностью способным воспринять все без исключения, что встретится на вашем пути, чтобы не упустить то, что случится, из-за того, что ждете чего-то, что так и не появится.
Это постоянно приложимо к человеческим отношениям. Вы встречаете человека и приклеиваете ему ярлык “учитель”, “директриса”, “епископ”, “мой сосед”, и как только вы наклеиваете ярлык, ярлык заслоняет вам человека. Потому что человек не есть то или другое из упомянутого, он чрезвычайно сложное существо, а вы знаете только одну его грань, отмеченную вашим ярлыком; а в нем есть еще бесконечно много граней, о которых вы даже не подозреваете.
Вот и еще одно упражнение в созерцательном подходе. Оно удивительным образом приложимо к отношениям между мужем, женой и детьми, потому что подобно тому, что я цитировал об Аврааме, я мог бы назвать бесчисленные семьи, где, живя бок о бок, люди больше не смотрят друг другу в лицо; либо смотрят в лицо другому ради того, чтобы уловить на этом лице то, что было там давным-давно или в момент откровения, в момент открытия.
Помню, однажды в Америке я зашел в старый храм. Я просто зашел посмотреть и увидел: сидит человек, охватив голову руками в состоянии, как мне показалось, глубокой подавленности. Я подошел к нему, обнял за плечи и сказал: “В чем дело?” (Это очень не по-английски, но русские — они русские, дикари). Он обернулся ко мне и начал плакать, а потом рассказал, что женат уже двадцать пять лет, что он священник. И он обнаружил, что больше не любит свою жену, и единственный выход для них — расстаться. А если он расстанется с женой, то расстанется и со священством, потому что это будет полный крах всего, во что он верил.
Мы поговорили, не очень долго, но действительно, что называется, “от сердца к сердцу”. И я посоветовал ему пойти домой, и прежде чем позвонить в дверь, остановиться и осознать, что он ищет не девушку, на которой женился двадцать пять лет назад, что он не станет искать черты, которые он видел некогда, и в целом девушку, которой больше нет; он остановится и скажет себе: я звоню в дверь незнакомой женщины. Кого я встречу? — и спросит себя, может ли он полюбить эту женщину, которую прежде никогда не видел. Он так и сделал, и потом написал мне, что никак не ожидал того, что случилось. Он остановился, отбросил все прежние образы, позвонил в звонок и взглянул в лицо женщины, открывшей дверь; и влюбился в нее. Потому что он посмотрел в лицо действительности и не отогнал ее ради того, что когда-то было реально, но не отвечало его ожиданиям теперь.
Это опять-таки урок и упражнение в созерцательном подходе, касающиеся и внутрисемейных отношений, и каждого человека, встречающегося на нашем пути. Это приложимо не только к людям, но и к Священному Писанию, и к жизни в целом. Мы читаем Писание и находим, что оно устаревает, каждый отрывок мы читали так часто, каждый образ привычен, — пока читаются первые слова отрывка, мы можем пересказать почти все дальнейшее. Но устаревает не слово Божие, устаревает наша восприимчивость. Мы не стали новыми, не дали себе возродиться при первом чтении и потому возвращаемся ко второму прочтению немного менее восприимчивыми, немного отяжелевшими.
Если позволительно привести образ не из Писания и не слишком богословский, я помню, что мой дедушка любил выпить стакан вина; и однажды он сказал: “Когда я выпью стакан вина, то становлюсь другим человеком, и этот другой человек тоже хочет стакан вина”. Не могли бы мы точно так же поступать с Писанием? Разве не потому мы не нуждаемся “во втором стакане вина”, что не стали другим человеком? Второй стакан вина — это многовато, но один стакан вина каждому новому человеку — в самый раз. И поэтому существенно важно, чтобы то, что мы читаем, стало жизнью, чтобы и молитва воплощалась в жизнь. Если мы прочли молитву, она должна стать программой действия, а не программой, которую мы представляем Богу выполнять за нас. Если мы прочли отрывок из Писания и он что-то значит для нас, он должен стать жизнью, тогда он изменит нас достаточно, чтобы этот самый отрывок в следующий раз стал абсолютно новым, также как и в еще следующий раз. Но если мы не изменимся, то нам покажется, что это просто повторение.
Знаете, это все равно что отправиться на прогулку за город. Смотришь на дерево ранним утром, в полдень, на закате; дерево не меняется, и однако какое оно разное! Объективно дерево все время одно и то же, но ваше видение совершенно различно. Таким же образом на фоне происходящих в нас изменений слова Писания приобретают для нас вечно обновляющееся значение. Но для этого требуется читать внимательно, вдумчиво, то есть следует освободиться от предвзятых идей, вникнуть: что же Бог хотел сказать, отбросить подсознательное мнение, будто Он это так часто говорил, и какая от этого польза. Старайтесь понять очень точно, что именно Он сказал, и относитесь к отрывкам из Писания как к письму от любимого вами человека. Мы не вычитываем ошибки на письме, мы не читаем с красным карандашом в руке, проставляя там и сям точки и запятые, мы не останавливаемся на формальном смысле слов, мы читаем в словах всю душу человека, хотя слова временами так просты и ничего не сказали бы кому-нибудь другому, но мы-то знаем, что за ними стоит. Мы читаем письмо так, как мы смотрим на витраж. Витраж передает нам тему; это может быть поклонение волхвов или Воскресение; он дает нам и ощущение красоты, поскольку у него яркие, живые цвета, прозрачные, сверкающие; но витраж заставляет нас также думать о свете, который льется в окно и придает смысл картине; без света и картины не было бы, только темное пятно на стене и никакой красоты.
Таким же образом мы должны научиться читать Писание, читать так, чтобы воспринять то, что Святой Дух вложил в данный эпизод. Но чтобы достичь этого, мы не должны набрасываться на текст, мы должны научиться сидеть и смотреть. Смотреть, как мы смотрим на дерево на закате, как мы смотрим в лицо, от которого не можем оторвать глаз, в витражное окно, на творение великого мастера; слушать, как мы слушаем великую музыку, которая намного превосходит нас и потому обнимает, охватывает и делает нас глубже, шире, приобщает нас к богатству мира, иначе оставшемуся бы для нас чуждым. Все это созерцательный подход. Как это важно для человеческих отношений, и как бесконечно важно для устойчивости наших собственных мыслей и нашего внутреннего “Я”. Если мы приобретем такой подход, то ничто не поколеблет нашу жизнь, не ворвется в нее; все будет возникать перед нами, как дар Божий нам, чтобы мы увидели и поняли; все — человек или ситуация — будет тем, по отношению к чему мы можем быть действием Божиим, если только научимся смотреть так, чтобы видеть, и слушать так, чтобы слышать и понимать.
Есть места в Писании, где в какой-то момент Бог говорит со мной лично. Есть другие места, которые несущественны для меня в данный момент, и это вполне естественно. Подумайте о том, как возникли Евангелия. Христос говорил иногда с одним человеком или с двумя, гораздо чаще с небольшой группой или с толпой людей. Один человек задавал вопрос, и Он говорил с этим человеком. Кто-то в толпе разделял интерес к теме; ответ Христа был обращен и к ним. Большее число людей смутно понимали, о чем вообще идет речь; они слушали и сохраняли то, что могли извлечь из слов Христа, оно должно было принести плоды позже. Но многие, вероятно, пожимали плечами (именно так говорится в Писании) и говорили: “Не понимаем, о чем Он говорит, что Он имеет в виду?”. То, что Он говорил, было выше их, вне сферы их опыта или понимания. То же самое с нами. Когда мы читаем отрывок из Писания, может оказаться, что в этот момент Господь обращается к нам лично; в других случаях я случайно слышу, что Он говорит другому человеку, чьи переживания или опыт так мне близки, что Его слова делаются мне понятны, отвечают на вопрос, который я не задал, но который во мне был. А порой Он обращается не ко мне, и я должен быть готов жить бесконечным богатством, уже данным мне, без новых и вечно обновляющихся откровений.
Мы не нуждаемся в большом знании Писания и в прямых советах или указаниях Божиих для того, чтобы достичь подлинной полноты жизни по Евангелию. Если мы до конца воплотили в жизнь что-то одно, мы исполнили все Евангелие. Помните, если вы нарушили одну заповедь, вы нарушили все заповеди.
Мне вспоминается один эпизод из жизни египетских святых. Однажды человек по имени Павел пришел в пустыню к Антонию Великому с вопросом, как спастись. Антоний предложил ему остаться в пустыне и стать монахом. “Что это значит?” — спросил Павел. “Будешь трудиться в пустыне, спать на голой земле, есть и пить меньше, чем хочется, и все время молиться”. Тот ответил: “Первые четыре вещи легки, я бедный крестьянин, всегда тяжело трудился, у меня никогда не было постели, я никогда не ел и не пил вволю; но как быть с молитвой? Я неграмотный”. — “Выучи Псалтырь наизусть, — сказал Антоний, — и повторяй на память каждый день”. — “А как это сделать?” — “Садись рядом. Будем вместе плести корзины, я буду читать наизусть Псалтырь, а ты повторяй”. Они сели, и святой Антоний начал: “Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых…” Павел повторил стих раз-другой, затем говорит: “Можно, я похожу и заучу это?”. Прошел час, он не вернулся, настал вечер, его все нет. Антонию стало любопытно, куда пропал Павел, затем он осознал, что любопытство — грех, и начал с этим грехом бороться. Долго боролся, через сорок лет преодолел свое любопытство относительно Павла, идет по пустыне свободный от любопытства, только с духовной заботой, нашел Павла: “Что же ты за ученик? Хотел выучить Псалтырь, а ушел после первого стиха!”. И Павел с грустью ответил: “Да. Эти сорок лет я старался стать человеком, который никогда не идет по стопам нечестивых”. Как видите, нет нужны знать огромное число текстов Писания. Все дело в подходе, при котором знание становится жизнью.
Мне хотелось бы сказать еще о другом виде созерцания, которое так же важно для нас, как чтение Писания: это созерцание жизни. Идет ли речь о нашей личной жизни или о жизни большой или малой общины, или о жизни всего человечества в нашу эпоху или на протяжении веков, мы можем обратить на нее созерцательное внимание, то есть мы можем, прежде чем оказаться вовлеченными в ситуацию, успокоиться, осесть и предаться созерцанию. Обычно, когда мы подходим к жизни поверхностно, мне кажется, мы видим ее, вероятно, как мышь может видеть снизу ткань на ткацком станке — беспорядочное переплетение нитей с висящими концами, уродливое и бессмысленное. Чтобы уловить суть узора на ткани, мы должны перерасти размер мыши и достичь человеческого роста. Это делается в процессе приобщения уму Христову, причастностью дарам Божиим, вхождением нашим в глубины истины вместе с Ним, Духом истины. И тогда мы можем увидеть ткань на станке, еще не законченную. Она началась с сотворением мира и закончится, когда будут судимы небеса и земля и наступит конец мира, и будет все новое (Откр 21:5). Мы можем вывести поспешные заключения, можем посмотреть на ткань, увидеть узор и сразу бездумно сказать: “Я уловил узор и могу теперь продолжать ткать; если я повторю прежнее движение, оно так и будет повторяться”. Но если верно сказанное в начале, если Бог не просто повторяется тысячелетиями, а вводит в каждый момент новизну, неповторимое по цвету и линии пятно, то этого недостаточно.
Мы должны научиться видеть еще нечто. Мы должны посмотреть на станок, увидеть, что произошло до сих пор, воспринять не от вида станка, а от того, что мы знаем о ткущем Мастере, каким может быть Его следующее движение. Другими словами, динамику жизни следует выводить не из уже происшедшего, а из духа Творца; научаться от Духа Божия, знающего пути Божии, которые настолько же выше наших путей, насколько мысли Его выше наших мыслей. И чтобы правильно продолжать Его замысел, чтобы знать, где наше место, что нам следует делать в данный момент, мы должны отвернуться от станка, от ткани и посмотреть в глаза Мастеру и уловить, какова Его линия, каким будет Его следующий жест. Тогда мы сможем действовать, потому что это действие будет действием великого Мастера, ткущего историю вместе с нами. Кто-то еще воспроизведет узор, и кто-то другой внесет в рисунок неверные линии и неправильные цвета. И тогда мы должны ввести цвет, который Господь хотел здесь видеть, чтобы преобразить дисгармонию, которую внесли другие, слепые к Его намерениям, в гармонию, потому что неожиданный штрих придаст смысл буйным диссонирующим цветам и линиям, внесенным в рисунок по недостатку человеческой приобщенности Духу Божию.
Опять-таки, это созерцательный подход. Это значит, что мы не должны бросаться поступать “правильно”, так как “правильный” поступок может оказаться простым повторением, он может быть хорош с объективной точки зрения, а с точки зрения художника никуда не годится. Представим себе на мгновение, что большому художнику предлагает помощь в работе кто-то, кто не одарен художественным чутьем. Возможно, он сделает что-то вполне адекватное: человек, привыкший красить стены или расчищать соборы, хорошо знает, каким цветом можно выкрасить весь собор сверху донизу, он точно знает, как устроены окна; но задача не в том, чтобы сделать точное, как моментальный снимок, воспроизведение, а в том, чтобы передать выражение, а на таком уровне это недостижимо. Для этого мы должны научиться чему-то, что, мне думается, многие из нас умели делать в какой-то период своей жизни: уметь остановиться перед тем, как начать действовать.
Вы, вероятно, видели или сами участвовали в хороводе на лужайке, и знаете, что происходит. Есть мелодия, есть ритм; и порой, когда хоровод уже в движении, кружится в гармонии с музыкой и чувством общего движения участников, появляется опоздавший. Если опоздавший неразумен, он вломится в круг, нарушит ритм и станет диссонирующим началом. Но если он понимает и любит танец, он остановится в стороне, будет смотреть и слушать до тех пор, пока музыка не войдет в него ритмом, слушать, пока сам не станет частью танца, с которым он еще не слился; и видишь, как он (или она) раскачивается, а затем плавно вливается в круг, не нарушая его движения. Этому мы должны научиться, и это тоже созерцание. Не вся жизнь танец, но вся жизнь — движение, и мы можем войти в движение в любую минуту, если только способны воспринять мелодию и войти в ритм.
Это все, что я могу сказать о созерцательном подходе. Как видите, я не говорил ни о каком созерцании особо высокого уровня, я практически не упомянул слова “молитва”, потому что все, что я сказал, есть молитва. Приобщение духу и сердцу Бога, обучение восприятию Его воли, приведение своей воли в гармонию с волей Божией, дисциплина тела, чтобы мы могли прославлять Бога и в теле, как в душе, — все это такого рода связь с Богом, которая и есть молитва, потому что молитва — нечто очень далекое от молитвенных упражнений, которые мы умеем выполнять, — что один маленький мальчик в моем приходе называл, в отличие от молитвы, “молитвословить”. Если вы попытаетесь применять то, что я сказал, добавив то, что знаете из собственного опыта, проверяя сказанное собственным опытом, исправляя с помощью того, чему вас учит и что подсказывает вам Святой Дух, вы увидите, что вся ваша жизнь в целом, как бы велика ни была сумятица, как ни сложны ситуации, может быть одновременно молитвой, созерцанием и действием. Действием целенаправленным и планомерным, однако совершенно гибким, способным под воздействием Бога в любой момент принять новое направление, способным воспринять импульс или вторжение неслыханной новизны, которая претворяет нас в подлинные источники Божественного действия подобно тому, как вера Матери Божией в Кане Галилейской сделала Царство Божие реальным, присутствующим в силе в ситуации, в которой без Нее это было бы невозможным.
III
Я хочу поговорить о молитве и богослужении. В наши дни стало как бы общим мнением, что современный человек не может молиться и не молится. Я думаю, оба положения ошибочны.
Современный человек, как все люди во все времена, и молится и может молиться. Что он молится — я понял из брошюры, которую прочел промыслительно или случайно в Соединенных Штатах. Небольшая брошюра, авторы — Теодор и Синтия Уэдел; первый же абзац произвел на меня сильнейшее впечатление. Там говорилось, что если не определять молитву как благочестивое упражнение, выполняемое при некоторых определенных условиях, то молятся все люди и все время, но они не всегда молятся Богу. Они могут молиться Его противнику. Это меня очень поразило, надеюсь, поразит и вас. Действительно, если вместо того, чтобы определять молитву как благочестивое упражнение, мы определим ее как крик, подымающийся от всего нашего существа: “Пусть это произойдет, я хочу этого, дай этому случиться, я стремлюсь к этому”, тогда мы молимся все время, потому что нет минуты, когда душой или телом мы не стремимся к тому, чтобы что-то произошло или, напротив, не случилось. Единственная разница, как указывают авторы, состоит в том, что не все молитвы могут быть обращены к Богу, — некоторые, многие, большая часть обращены к Его противнику.
На грани находятся молитвы, пытающиеся минимизировать риск. В “Исповеди” блаженного Августина можно прочесть одну из ранних молитв святого, когда, осознав умом, что Бог есть, многое уже зная о Нем, но еще не в состоянии сразу перемениться умом и сердцем, он молился Богу и говорил: “Боже, даруй мне целомудрие… но еще не сейчас!”. Это была очень честная молитва, пусть и несовершенная. Я почти готов сказать, что это был пример совершенной молитвы, потому что она была такая честная, правдивая, искренняя, так ясно сознавала, что должно быть и что есть на самом деле.
Приведу вам другой пример, более резкий. Был бродяга, о котором я долгие годы заботился. Как-то, после двенадцати или тринадцати лет нашего знакомства, он забрел в наш лондонский храм на пасхальную заутреню. Он совершенно откровенно рассказал мне о своих впечатлениях и реакциях. Он оказался в гуще толпы, окруженный людьми всех возрастов, все держали свечи. Я вошел в церковь после крестного хода и приветствовал народ нашим пасхальным возгласом: “Христос воскресе!”. Толпа ответила: “Воистину воскресе!” — и мой приятель подумал: вот это да! ишь, как он кричит! Ему за это платят, и он честно отрабатывает свои деньги… Затем он увидел, что люди мне отвечают, и подумал: это, должно быть, старики, которые ему платят. Но тут он огляделся, потому что услышал молодые голоса, и увидел, что стоит среди молодежи. Это поразило его, так как он этого не ожидал. Он прислушался к их голосам, пригляделся к лицам и ясно понял, что они не притворяются. Они исповедовали свою веру в воскресшего Христа. И тогда он испугался, потому что осознал, что если это правда, то для него это очень серьезно, тем более что после двух-трех возгласов его подхватило окружающими молодыми голосами, и он услышал, что и сам кричит вместе с ними “Христос воскресе”. И тут он подумал, что должен защититься от опасности впасть в руки Бога Живого. Он понял, что если это правда, то вся его жизнь должна измениться. Как он выразился, он тогда обратился к дьяволу и сказал: “Всю жизнь ты был мне помощником. Помоги мне сейчас, иначе я пропал!”. А затем с горечью, теперь уже преодоленной, он сказал мне: “И эта сволочь так и не пришла мне на помощь!”. Годы верности ему оказались ни к чему. Он был предан тем, кто лжец и убийца, чье слово ничего не стоит.
Вот человек, который почувствовал опасность встречи с Живым Богом и совершенно прямодушно пытался спасти свою шкуру. Но разве мы, пусть не так грубо и открыто, не поступаем очень часто так же, когда находит на нас искушение? Ведь мы же знаем, что наш дух, побуждаемый скорее страхом, чем любовью, взывает: “Боже, помоги!”, и одновременно наше тело, сердце, все силы нашего существа кричат: “Но я стремлюсь к этому, я страстно этого желаю, хоть бы только Бог отсрочил Свою помощь!” (подобно блаженному Августину), или хоть бы что-то воспрепятствовало Его помощи! (как мой друг Дэнис или все, что напоминает его случай). И этот крик всего нашего существа, сердца, и ума, и тела, и души, это страстное желание — и есть молитва гораздо более непосредственная, гораздо правдивее выражающая наше подлинное состояние, чем та, которую мы возносим из своей зачаточной веры, из страха Божия, рабского страха, еще не развившегося в сыновний страх в нас.
Но в таком случае мы должны осознать, что молитва — нечто, с чем мы хорошо знакомы, но что требует от нас, чтобы мы определились и сделали выбор; и здесь-то стихийная молитва сталкивается с молитвой по убеждению; наша страшливая, слабовольная молитва должна руководствоваться молитвой нашего разума, актом воли. Именно здесь молитва и ее путь, так же как наш собственный, зависит от принятой нами шкалы ценностей. Английское слово worship ‘поклонение, богослужение’ коренится в слове worth, ценность; в корне акта богопоклонения лежит оценка и выбор, которые заставляют нас сказать, что то или другое достойно всецелой нашей верности. Это — имеет предельную ценность для меня, это — относительно ценно, это — еще менее ценно, а это не имеет никакой цены. Так что когда мы подходим к осознанию своего сложного внутреннего состояния, внутренней борьбы с самим собой, раздвоения, когда нас раздирают два закона, воюющие в нас, когда ветхий и новый Адам вовлечены в смертельную борьбу, когда добро и зло, жизнь и смерть, тьма и свет сражаются внутри нас, решающим шагом будет наш собственный выбор: кому я отдаю свою преданность?
Это не значит, что в момент, когда я выбрал и отдал свою преданность Богу, молитва, которую я обращаю к Нему, преодолеет стихийный крик моего существа. Это значит, что, сделав выбор, я могу ополчиться против страстных устремлений внутри меня. Дело не в том, чтобы заставить умолкнуть крик. Пусть он присутствует как напоминание, что между двумя законами идет война, что две силы противоборствуют, что я в напряжении еще не разрешившемся, но дай мне разрешить его; я сделал выбор, — дай мне быть на стороне Господа, против обманщика. Это значит, что молитва, рассматриваемая под таким углом, воспринятая так, как я пытался вам показать, начнется с волевого акта и будет использована как оружие.
Разумеется, будут моменты, когда спонтанная, полная чувства молитва будет потоком литься из нашего сердца, но гораздо чаще в ней не будет ни спонтанности, ни чувства, она будет актом верности, преданности, лояльности Тому, Кто мой Господь; и тогда эта молитва преодолеет ту. Тогда более слабое восстанет против более сильного — и победит, потому что сила Божия в немощи совершается (см. 2 Кор 12:9). Можно сказать: даже в нашей немощи, можно также сказать: только в нашей немощи. “Даже” в том смысле, что Бог не нуждается в нашей силе, чтобы дать нам силу, Он не нуждается в нашей крепости, чтобы сделать нас крепкими; и “только” в нашей немощи, потому что наша сила не может достичь ничего. Мы не можем при помощи тварной силы победить дьявола, силы тьмы, его голос внутри нас, порыв страсти. Мы не можем также достичь своего человеческого призвания с помощью человеческой силы. Мы призваны быть причастниками Божественной природы (см. 2 Пет 1:4). Это может быть дано и принято; никаким образом мы не можем сами это совершить, сами достичь. Мы призваны стать членами, живыми членами Тела Христова; мы не можем стать таковыми собственной силой. Мы призваны все вместе, в нашем единстве и каждый из нас в отдельности стать храмами Святого Духа: все, что мы можем сделать — быть внутренне свободными и способными воспринять Его. Мы призваны быть сынами и дочерьми Живого Бога, это может быть даровано и принято, это не может быть создано и произведено искусственно. Так что обратимся ли мы к темной стороне в нас или к высочайшему призванию, к которому мы предназначены Богом, не своей силой сможем мы достичь его или преодолеть, это может только Божественная сила; но Божественная сила действует внутри нашей слабости.
Но слово “слабость” должно быть правильно понято. Это не та слабость, которая заставляет нас всегда выбирать то, что легко, что привлекает и обольщает нас, это слабость другого рода. Апостол Павел говорит о ней в двух местах, и ясно, что это не та слабость, которая и не пытается быть верной Богу, это слабость, которую можно назвать гибкостью, отданностью, прозрачностью.
Китайский мыслитель Лао-Цзы говорит в одном из своих сочинений, вернее, в своем единственном сочинении, что сила и смерть всегда идут рядом, а жизнь и слабость составляют пару, сосуществуют, и объясняет это с помощью двух образов. Он говорит: посмотри на большие дубы, они так сильны, но внутри ствола жива только малая часть, все остальное — это мертвое дерево, охраняющее жизнь внутри, но и держащее ее взаперти; и чем сильнее выглядит дуб, тем толще будет мертвая часть за счет живой. Посмотри, говорит он, на виноградную лозу, у нее растут самые кончики, те части, что ребенок может переломить двумя пальцами; лоза полна жизни, потому что она такая хрупкая; она хрупкая, потому что она в становлении. Я думаю, слабость, о которой говорит апостол Павел, можно понять в этом смысле: не как слабость, заставляющую нас делать неправильный выбор, а как хрупкость, способную к становлению, хрупкость, в которой нет сопротивления, поскольку нет силы, мощи, тяжести.
Если хотите, обратимся к примерам. Вы учите ребенка писать: вы берете руку ребенка в свою, вкладываете в его пальцы карандаш и начинаете водить его рукой. Пока ребенок не знает и не подозревает, чего вы ждете, строчки выходят совершенно ровные; в момент, когда ребенок вообразит, что он знает, и начинает помогать, все идет вкривь и вкось, потому что он будет тянуть или толкать не вовремя. Он приложит свою силу к вашей, тогда как только его слабость обеспечивает гармонию движения.
Возьмем другой пример: парус, верно направленный, может улавливать ветер и доставит лодку к месту назначения, потому что он так хрупок, так гибок; если заменить его крепкой и прочной доской, никуда не попадешь. И вместе с тем парус так хрупок, что может быть разорван в клочья. Этот пример не так неуместен в области богословской, как кажется, потому что “ветер” в греческом языке и на иврите — то же самое слово, что “дух”. Когда веет Дух, мы можем Его уловить и Он унесет нас только благодаря гибкости паруса, а не при помощи прочной и несгибаемой силы.
И последний пример: сравним железную латную рукавицу, какие мы видим в древних доспехах, с перчаткой хирурга. Первая мощная, твердая — и как мало можно ею сделать; вторая так тонка — и какие чудеса может сотворить умная рука в ней.
Так что мы можем быть уверены, что все возможно нам силою Христа, если мы сами не противимся или не помогаем (что одно и то же) силе Христовой нашей собственной “силой” и собственной слепотой. Несомненно, наша слабая молитва, скудная молитовка, просящая только о помощи против сильнейшего из возможных врага, приведет нас к победе, ибо Тот, Кто внутри нас, сильнее того, кто в мире. Это очень важно для нас, потому что в таком случае не требуется ожидать, чтобы в нас возникла молитва, полная чувства, в драматические моменты, когда мы молимся, потому что глубоко потрясены или видением Бога, или осознанием действующей внутри нас смерти. Мы можем молиться целенаправленно, с уверенностью, с радостью, бесстрашно, потому что мы беспомощны, слабы, но Господь Вседержитель на нашей стороне.
Это подразумевает несколько видов молитвы. Когда мы потрясены присутствием Божиим, Его красотой, Его святостью, просто чувством Его близости, молиться легко; молитва сама льется из нашего сердца, мы можем воспевать хвалу Господу. Это может быть благодарность; это может быть все что угодно, это может быть одно-единственное слово, выражающее все, что мы хотели бы выразить. Вспомните псалом Давида, стройный псалом, где внутри как будто строго идущей строки, внезапно, между двух запятых, обращаясь к Всевышнему, к Господу, к своему Богу, Давид вдруг восклицает: “Радость Ты моя!”2. Присутствие Бога стало столь реальным, что он отвечает Богу в порядке отношений, а не в терминах богословских определений.
Опять-таки, когда мы охвачены чувством нашего недостоинства, когда грех, смертность становятся столь явными, столь очевидными, что затмевают все остальное, мы можем молиться, мы можем кричать всем существом: “Я Твой, Господи, спаси меня! Я тону, Господи, спаси меня!”. Но и в промежутке, когда мы не захвачены живым чувством молитвы, мы также в силах бороться и молиться. Можно молиться собственными словами, можно молиться словами, которыми другие люди пользовались до нас. Нас может унести молитвенный дух собравшейся общины или мы можем молиться в контексте совершающегося таинства. Бывают минуты, когда мы можем обратить к Богу молитвы, рожденные нашим собственным умом, нашим сердцем, нашим опытом. Бывают минуты, когда у нас нет слов, когда простейшие слова вымирают. Тогда мы можем обратиться к тем людям, гигантам духа, героям веры, кто в моменты подъема или когда перед ними разверзались глубины ада, изливали молитвы кровью сердца, молитвы иногда очень простые, иногда очень глубокие и сложные. Но когда мы пользуемся словами, стоившими столь много другим людям, мы не имеем права пользоваться ими скороговоркой или легкомысленно. Мы должны помнить, что слова богослужения, слова, которые мы собираем в жизни святых, дорого им стоили. Молитвы воплотились в слова, их произнесли люди в момент глубочайшей муки или на высотах видения; и если мы хотим употреблять эти молитвы, мы должны относиться к ним благоговейно, с уважением и с величайшим вниманием. Мы должны учиться искать и находить за словами мысль, давшую им форму; за мыслью исследовать собственный жизненный опыт; это относится к каждому из нас, но и ко всем людям, с которыми мы связаны, ко всему, о чем мы знаем через литературу, историю, музыку, искусство; мы должны вобрать глубокий человеческий опыт, лежащий в основе всего этого. Мы должны научиться общаться с людьми, которые произнесли эти слова, разделять их знания в той мере, в какой наша жизнь отзывается на их жизнь и опыт. Мы должны также помнить, что молитва, не ставшая жизнью, делается тусклой и унылой. Только если молитвы, которые мы произносим, применять в жизни, они оживут и будут жить.
Всего один пример. Святой Филипп Нери был человеком вспыльчивым и истощил терпение большинства монастырской братии. Настал день, когда кончилось его собственное терпение. Он больше не мог выносить самого себя, поэтому пошел в церковь, бросился ниц перед распятием и молил Бога даровать ему терпение. После молитвы он вышел из церкви и встретил одного из братьев, никогда не причинявшего ему неприятностей. Брат этот сделал ему обидное замечание. Филипп вспылил. Он пошел дальше и встретил своего друга, поделился с ним своим негодованием и получил в ответ резкий выговор. Он снова вспылил. Так случилось и в третий и в четвертый раз, и наконец он побежал обратно в церковь, пал на колени перед изображением Христа и сказал: “Господи, разве я не просил Тебя дать мне терпение?”. И Господь ответил: “Да, Филипп, и Я умножаю тебе случаи научиться терпению”. Так что видите, что между молитвенными славословиями и жизнью имеется определенная связь, без которой молитва не оживет.
Есть и другой контекст наших молитв. Мы можем возносить наши молитвы в контексте общественного богослужения. Тогда молитва может быть одновременно упорядоченной и полной чувства, но это молитва общины, возносимая к Богу. Но есть контекст, в котором наша молитва прямо связана и обусловлена Богом. Это — совершение таинств. Таинство есть действие Божие, совершаемое среди народа Божия, посредством одновременно Его служителей и используемой материи. И здесь мы поставлены лицом к лицу с действием Божиим. Тогда в центре не наши чувства, а глубина нашего непонимания, то, как мы можем отозваться на Божественное действие, в которое мы вовлечены. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы мы осознавали, что в нашем молитвенном богопоклонении имеются два полюса, участвуем ли мы в совместном богослужении или молимся в одиночку. С одной стороны, есть правда, выражающая, кто я такой, она может быть полна чувств, она должна быть подлинной; но с другой стороны, есть правда Божия, неизменная правда Божия; и между этими двумя полюсами моя молитва должна найти пути и форму выражения. Молитва должна принимать во внимание Бога, и на этом фоне я должен найти выражение и сам по себе, и вместе со всеми собратьями по вере.
IV
Я уже говорил, что очень часто думают, будто люди не молятся, и попытался объяснить, что это иллюзия, что люди молятся. Молятся все время, со всем порывом, всей жаждой, голодом, отчаянием, со всем устремлением души, и чтобы сделать нашу молитву актом богопоклонения, — поклонения, обращенного к Богу, — существенно — ясно осознавать, кому мы молимся, к кому обращаем глубинный крик нашей души и всего нашего существа. Я упомянул также, что очень часто говорят, что в наши дни почти невозможно молиться Богу; обычно это объясняют тем, что мы полностью погружены в обыденную жизнь, вовлечены в нее по уши, а Бог не вовлечен, не связывает Себя, Бог в безопасности на Своих бесстрастных и удобных небесах. И это очень важно, потому что если правда, что Бог сотворил нас, пустил в жизнь, а потом удалился в незыблемый покой, в то время как мы должны противостоять всем трагедиям жизни, тогда нам чрезвычайно трудно находить с таким Богом общую почву для молитвы.
Однако я думаю, что думать о Боге в таких терминах значит клеветать на Него. Мне хотелось бы рассмотреть с вами два отрывка из Евангелия, две бури на Геннисаретском озере. Их описания похожи, но не идентичны, и по-видимому являют два аспекта проблемы, потому что они показывают даже в личностях Апостолов поведение, свойственное всем нам. Общая схема такова: Апостолы пересекают море на маленькой лодке. В одном случае Господь вместе с ними; в другом Он остается на берегу и должен догнать Апостолов по водам. В обоих случаях Апостолов в море застает буря и они вынуждены бороться за свою жизнь. В обоих случаях захваченные бурей Апостолы борются изо всех сил, со всем умением, храбростью, умом и опытом. В обоих случаях вся их опора по видимости — маленькая скорлупка лодки, которая отделяет их от надвигающейся почти неизбежной смерти. И что же происходит? Они борются, почти доходят до отчаяния — и видят Христа, идущего в буре. Первая их реакция — вскричать от страха. Это не может быть Христос.
Евангелие говорит, что Апостолы приняли присутствие Христа за явление призрака. Это не может быть Христос, потому что для них Христос — Владыка гармонии, Он несовместим с окружающей их смертельной опасностью, несовместим с бурей и с их бедственным положением. Они вскрикивают, потому что это не может быть Христос: если бы это был Христос, буря должна была бы стихнуть.
Разве не так мы поступаем, когда на нас обрушивается буря? Происходит ли буря у нас в семье или в нашей собственной душе, или она охватывает большее количество людей, общественные или политические структуры, народы, — стоит возникнуть буре, как мы считаем, что Господь отсутствует и уж точно Его нет в сердцевине бури. И однако, вот что говорит Христос: “Не бойтесь, это Я”. Он здесь, в самой сердцевине бури, там, где мы не ожидали, потому что Он в той же мере Господь бури, как и Господь тишины, мира и гармонии. Нам трудно это понять, но мы можем это пережить в точности как Апостолы. Если посмотреть на поведение Апостолов в этой ситуации, то мы видим, что они устремлялись к берегу; все их усилия были направлены на то, чтобы избежать бури, уклониться от нее, оказаться в безопасности на твердой земле. Господь шел прямо в центр ситуации. Вы, должно быть, слышали выражение “око урагана”. Это точка наивысшего напряжения, где вся ярость ветра и бури схлестнулись в сокрушительном противостоянии. И это точка абсолютного покоя, поскольку здесь все силы напряжения встречаются и уравновешиваются. В этой точке — не равновесие мира и покоя, а противостояние всех грубых, сокрушающих сил: и здесь Христос. Он в точке, где встречаются все напряжения, в точке слома, в точке, где можно быть только сокрушенным или, если предпочитаете, распятым. И если среди этих образов спросить себя, кто же в центре событий? — это Христос. Он, а не ученики, которые ищут защиты от смерти в маленькой лодке и стремятся к ближайшему берегу.
И это мы делаем постоянно. Мы ищем защиты от ярости бури, но и эту защиту мы пытаемся использовать, чтобы быть как можно ближе к краю бури. Мы никогда не рискнем войти в ее сердцевину. Петр попытался, узнав голос Христа, сказал: “Если это Ты, повели мне прийти к Тебе”. В эту минуту, услышав голос, узнав Господа, он почувствовал, что быть с Ним важнее, существеннее самой безопасности, важнее защиты, которую дает скорлупка-лодочка. И Христос сказал: “Иди”, и Петр покинул безопасность лодки, вышел в бурю. И пока у него было одно только желание — быть с Господом, быть там, где Господь, где и есть наше реальное место, пока он смотрел только на Господа, он мог идти по водам, мог противостоять напору ветра; он шел к Богу. Но вдруг он вспомнил, что может утонуть, что идет по воде, а вокруг бушует буря, и начал тонуть, — и в эту минуту Христос взял его за руку. “Господи, спаси меня, погибаю!”. Тут же они оказались в лодке, и лодка сразу оказалась у берега. В ответ на потерю веры Петра, на вернувшееся самосознание Христос смиренно ответил, протянув руку, вернув Петра в безопасность, дав безопасность всей группе Апостолов. Но не в этом наше призвание: наше призвание не в том, чтобы искать безопасности, не в том, чтобы обращаться к Господу с мольбой: “Спаси нас от опасности!”. Наше призвание — быть там, где Господь, в той точке, где ярость бури находится в равновесии, потому что напряжение достигло здесь наибольшей силы.
Другой образ — еще одна буря. Та же общая схема, только Господь вместе с Апостолами. Апостолы борются за жизнь, а Христос спит. Мало того, Евангелие говорит: Он спит “на возглавии”. Апостолы борются за жизнь, смерть повсюду, а Христос не только спит, Он спит с удобством.
Разве не это мы чувствуем во множестве случаев? Мы сражаемся, мы в опасности, в борьбе, а Он-то в Своих уютных небесах ничем не рискует, Он бессмертен, для Него нет опасности. Его нет с нами. И Апостолы обращаются ко Христу (скорее даже набрасываются: в греческом тексте употреблено слово “ярость”). Они не обращаются к Нему со словами: “Господи, у Тебя вся власть на земле и на небесах, скажи слово, и все будет в порядке”. Они употребляют слова, звучащие по-гречески как: “Тебе дела нет, что мы погибаем?!”, что означает: “Ты не заботишься о нас и по-видимому Ты ничего не можешь сделать. Ладно, если Ты сделать ничего не можешь, по крайней мере раздели с нами тоску, наш ужас, раздели нашу смерть, мы не допустим, чтобы Ты этого избежал”. И Христос отстраняет их: “О, маловерные, долго ли Мне еще быть с вами?”. И затем обращается к буре и набрасывает на нее собственную успокоенность, Свою тишину, совершенное равновесие, совершенный мир, какого мир сей дать не может, и говорит: “Утихни”, — и буря утихает. Апостолы в обоих случаях допустили, чтобы буря бушевала не вокруг них, а внутри них. Они ответили на смертельную опасность страхом смерти, они ответили также на агрессию извне насилием изнутри. Христос отказывается допустить, чтобы буря стала Его внутренним состоянием; Он остается тихим, безмятежным. И буря должна приспосабливаться к Его безмятежности, так как Он отказался приспособиться к ее дисгармонии.
Разве мы не делаем то же самое, что Апостолы, когда что-то случается в нашей жизни, в нашей маленькой личной жизни или в жизни мира. Разве мы не говорим: “Где же Господь? наверное, заснул”. Это очень важно, поскольку наше существование и молитва всегда, всегда протекают среди напряжения и жизненных бурь.
Но здесь нам следует быть более проницательными. Есть разные уровни жизни и есть разные подходы к жизненным бурям. Если читать газеты и пытаться представить себе мир, каким он отражается и отображается в новостях, не увидишь ничего, кроме бури, дисгармонии, трагедии, страдания и неразрешимого ужаса, потому что сводки новостей содержат все поражающее, драматическое. Таков взгляд многих людей на мир: по-видимому, им недоступен ни более мелкий уровень, ни более широкий обзор, и жизнь действительно становится пугающей. Если на нескольких страницах одной только газеты обнаруживаешь весь ужас, всю дисгармонию современного мира, без смягчающего, утешающего слова, без слова веры и прозрения, тогда вокруг хаос и мы в тисках страха.
Но в видении истории есть два других уровня. Есть видение Бога, передаваемое нам Писанием, открываемое великими провидцами, святыми Божиими, теми, о ком Амос говорил, что пророк это тот, с кем Бог делится Своими мыслями. Это видение мы находим в Ветхом Завете. История рассматривается им в совершенно иной перспективе: великие события упомянуты походя, поскольку не имеют значения для конечного становления мира; события, кажущиеся невеликими, хороши они, или дурны, или злы, ярко выступают вперед. Злые — поскольку они являются предательством Бога, они — действие людей, ведущее к разрушению Царства. И добрые события: они предлагаются нам, чтобы мы научились от Духа Святого видеть жизнь в правильном соотношении. Один из наших священников сказал в проповеди: “Только Святой Дух может открыть нам значение вещей слишком малых, чтобы привлечь человеческое внимание”. В такой перспективе, в видении, которое есть Божие видение, малые вещи могут стать куда более решающими, чем те, которые занимают первую страницу газет.
И есть другой уровень, где жизнь обретает иного рода гармонию. Мне вспоминается, как однажды на войне, под обстрелом, я удобно лежал на траве, стараясь не слишком высовываться. И поскольку делать было нечего, я стал смотреть на траву и увидел, какая чудесная зеленая трава, и передо мной два муравья ползут по былинке и тащат зернышко. И внезапно мелкие вещи стали реальнее, чем вещи человеческого масштаба; масштаб человека был — ненависть, убийство, война, страх и все прочее; но в малом масштабе, на малом уровне жизнь продолжалась во всей своей красоте, во всем своем богатстве. И я уверен, что многие из вас, многие люди во всем мире пережили нечто подобное в момент потрясений и трагедии в семье, в обществе, в мирное время и на войне. Если только мы можем перерасти уровень человеческого напряжения и спуститься ниже него, и посмотреть на вещи как бы меньшие человека, природы, на незыблемо мирное течение жизни, мы откроем для себя еще один род гармонии.
И мы должны стараться не допускать, чтобы наша телесная и душевная жизнь, в молитве и в заботах, в деятельности и в горе, проходила на уровне первой страницы газеты, потому что пока происходят газетные события, на более высоком уровне Бог продолжает Свое дело спасения, а на более низком происходят тысячи разных вещей. Да, есть стрельба на войне и есть товарищество, и есть вся красота человеческих отношений, и великодушие людей, живущих бок о бок. Можно смотреть только на ненависть, можно видеть и другие аспекты; одно не ведет к другому, но в наших силах не стать слепыми ко всему осмысленному из-за чепухи, привлекающей наше внимание; и еще мы можем сознавать присутствие глубокого смысла, действия Божия, и всего истинно человеческого и человечного, — все это существует даже среди напряжения и ужаса. Если думать в таких терминах, то мы можем молиться, можем не терять молитву или вернуться к молитве; и мы должны точнее осознать свое место и место Бога.
Прежде всего мне хотелось бы сказать несколько слов о нашем месте и о том, что можно думать о молитве среди смятения. В житиях святых православного календаря упоминается человек, живший в шестом веке, кажется, в Греции. Он был неграмотный молодой крестьянин. Однажды он пришел в приходской храм и услышал чтение отрывка из Писания, который его поразил и вдохновил, о том, что надо непрестанно молиться. Он ушел из церкви в близлежащую пустыню и решил жить в ней молитвенной жизнью. Ему было лет девятнадцать, у него не были ни образования, ни опыта, ни знаний, но он услышал в этих словах голос Божий, обращенный к нему лично. Позднее он описал одному посетителю свой первоначальный опыт, и вот, что он в целом рассказал ему.
Он ушел в горы, молясь теми немногими молитвами, какие знал. Он знал Кирие, элеисон — Господи, помилуй, он знал Отче наш, знал молитву Богородице и все. Он радостно повторял их в окружении благоуханной и радостной природы. А затем наступил вечер, стало холодно, наступила ночь, он начал слышать вокруг звуки, шаги, лапы, скребущие землю, видел горящие глаза и осознал, что окружен опасностью, что вокруг в поисках добычи рыщут дикие звери. И он не мог больше молиться мирно, радостно, постоянно ни молитвой Господней, ни какой-либо другой. Он мог только озираться в страхе, стараясь видеть одновременно и позади, и впереди себя, справа и слева, прислушиваясь к шагам, треску веток, видя вспыхивающие и гаснущие глаза, и все кричал: “Господи, помилуй! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня!”. Его охватил смертный ужас, и так он молился всю ночь.
А затем наступило утро; он устал, замерз и был голоден. Он подумал, что надо поискать ягод, но затем сообразил, что бегавшие вокруг лапы принадлежат тушам, которые, вероятно, сейчас спят в кустах, а горящие глаза сейчас вероятно закрыты, но тоже где-то прячутся. И так он начал искать ягоды, пронизанный страхом, и все говорил: “Господи, помилуй! Господи, помилуй!”. И всякий раз, как он касался куста, всякий раз, как он входил в заросли, он чувствовал, что его подстерегает смерть. Так он провел весь день; в минуты, когда он засыпал, он забывал обо всем, когда снова пробуждался, ему казалось, что он слышит похрустывание и видит горящие глаза. Затем наступила ночь, и то же испытание началось снова.
Со временем он привык к этому, но тогда начались всевозможные искушения. Он сожалел о мирном доме, он хотел знать, достигнет ли когда-нибудь его молитва Бога, искушения приходили со всех сторон, и душевные, и телесные, и он боролся с ними, крича “Господи, помилуй!”. И так он сражался много лет. Однажды Господь явился ему, и тогда мир сошел на него, совершенный мир, который только Бог может дать, не осталось ни страха, ни опасений ни человека, ни животных, хищных зверей, ни бесов. И тогда он узнал, что покой — это дар Божий, что его окружает мир хищных зверей, внутри него страсти и искушения, вокруг него и повсюду возможная смерть и внутренняя погибель. И тогда изнутри глубокого покоя, который даровал ему Бог, он произнес: “Господи, помилуй меня, грешного!”, зная, что покой ему не принадлежит, что покой этот — от Бога. И когда позднее его спросили, кто научил его непрестанно молиться, он дал поразивший собеседника ответ, он сказал: “Бесы” — поскольку чем больше бесы на него нападали, тем больше он молился о спасении. И когда покой сошел на него, он знал, что покой этот он обрел только благодаря Божией защите.
Мы думаем, что хаос, в котором мы живем, обстоятельства нашей жизни — помеха нашей молитве. Это не так, все это могло бы быть поводом для молитвы, только мы принимаем обстоятельства, и плохие и хорошие, недостаточно серьезно. Если бы мы каждую минуту сознавали, что речь идет о жизни и смерти, что пришедший к нам столь не вовремя человек — это Христос стучится в дверь, чтобы получить убежище, помощь, пищу и милосердие, или что Господь пришел, чтобы сделать мой дом местом Присутствия, принести дар любви, милосердия и сострадания, которым Он владеет, мы могли бы принимать друг друга, как говорит Павел, как Христос принимает нас (см. Рим 15:7). Если бы мы сознавали, что каждое жизненное событие есть ситуация, когда Христос говорит: “Мне нужен христианин в центре бури. Ты готов?”, и если бы, как Исайя в 6-й главе своего пророчества, мы встали бы и сказали: вот я, пошли меня (Ис 6:8), тогда никакие обстоятельства не помешали бы нам быть в сердцевине Божьего дела и, следовательно, мы были бы способны молиться о руководстве и помощи, о милосердии и благодарности. Мы не можем молиться, потому что живем где-то между двумя уровнями, не на уровне Бога, не на мельчайшем уровне муравья. Мы живем на уровне ложного беспокойства, смятения, не имеющего ни решения, ни смысла. От нас зависит смотреть на вещи иначе; и когда приходит искушение, когда приходит нападение извне или внутреннее искушение, проблема опять-таки не в том, чтобы его избежать, проблема в том, чтобы встретить его лицом к лицу; ибо важно не быть свободным от нападения и искушения, важно встретить их лицом к лицу, разрешить и преодолеть. Борьба может быть важнее победы, потому что именно борьбу мы можем принести Богу как свидетельство нашей веры и преданности. Победа всегда будет Его победой; победа есть дар, борьба — наша. И очень часто борьба дает нам большую близость к Богу, чем облегчение, которое время от времени предлагает нам Бог.
Есть такой рассказ из жизни пустынных отцов. К одному старцу пришел молодой монах и сказал: Отче, возблагодари со мной Бога: я свободен от всякого искушения. Старец сказал в ответ: прежде чем воздать хвалу Богу, скажи: когда ты чувствовал себя более беспомощным, теперь или когда был в искушениях? — Конечно, тогда. — Когда ты чаще обращался к Господу, надеясь только на Него, тогда или сейчас? — Конечно, тогда. — Когда ты чувствовал себя более смиренным и сокрушенным сердцем: когда тебя осаждали искушения или теперь? Конечно, тогда. — В таком случае, сказал старец, вернись в пустыню и проси Бога вернуть тебе искушения, которые Он отнял, потому что чувствовать себя беспомощным, смиренным и надеяться только на Бога бесконечно важнее, чем быть свободным от искушений.
Я полагаю, что это приложимо ко всем нам во всех жизненных обстоятельствах, и если мы не хотим вести жизнь, представляющую собой хаос, если мы не хотим оказаться в положении Апостолов, допустивших, чтобы буря бушевала внутри них, мы должны научиться молиться непоколебимо, с мыслью о стоянии в Божием присутствии, и раз и навсегда в уверенности, что Он — Господь мира и Господь гармонии, но также и Господин бури, что Он имеет всю власть, и что если бушует буря, наше место — рядом с Ним, в сердце бури.
В этом отношении может помочь короткая молитва Кирие, элеисон, — Господи, помилуй, которую все вы хорошо знаете. Только мы должны придать слову элеисон ‘помилуй’ все его значение и размах.
В английском, как и во всех современных языках, слово элеисон ‘помилуй’ имеет ограниченный смысл. Это греческое слово происходит от того же корня, что и оливковое масло, маслина. Вместо того чтобы пытаться выводить значение из слов, давайте посмотрим в Библию: где встречаются образы масла, маслины, и что мы можем из этого вывести, чтобы сделать наше Кирие, элеисон таким богатым, как только можно, и быть способными употреблять эти слова как полную смысла молитву, устойчивую, которую можно предложить Богу во всех обстоятельствах, простую, прямую и однако богатую.
В первый раз оливковая ветвь возникает в Библии в книге Бытия при конце потопа. Голубь, посланный Ноем из ковчега, приносит ему веточку оливы. Потоп пришел к концу, появилась суша. Что это значит в отношениях человека с Богом? Это значит, что ярость, гнев Божий пришел к концу, что прощение дается свободно, безвозмездно, незаслуженно, как совершенный дар. Это значит также, что перед человечеством, то есть перед каждым из нас есть время и пространство, расширяющиеся возможности и устремления. Если таков смысл веточки, значит, когда мы дошли до дна, когда грех одолевает нас, когда потеряна всякая надежда, когда мы не заслуживаем снисхождения, когда мы можем рассчитывать, по словам преподобного Исаака Сирина, только на Божию несправедливость: если Бог был бы справедлив, мы давно уже были бы в аду, — тогда мы можем сказать: Господи, помилуй! пусть Твой гнев прекратится, хотя я его заслуживаю, пусть придет прощение, хотя я его не заслужил и, как в молитве Манассии, дай мне время на покаяние… Но когда Бог исполняет нашу мольбу, очень часто мы обнаруживаем, что не можем использовать Его дары, потому что мы малодушны, сломлены волей, помрачены умом, немощны и бессильны.
Тогда на ум приходит другой образ, образ доброго самарянина, который пролил на раны человека, избитого грабителями, очищающее вино и затем целебное и смягчающее масло. Мы нуждаемся в излиянии Божественной помощи и благодати, чтобы воспользоваться Его прощением и всем, что Он нам предлагает. Кирие, элеисон — излитая, словно масло, целительная благодать. Но когда мы одарены силой, когда мы можем идти вперед, все-таки наше человеческое призвание все еще превосходит то, что достижимо человеческими силами. Мы призваны быть не просто замечательными представителями некоего животного вида, мы не двуногие, при помощи эволюции достигшие пределов, вообразимых тварью. Мы призваны Богом в акте творения быть Его друзьями в вечности. А друг — это тот, кто преломляет с тобой хлеб, кого приглашаешь к столу, с кем ты равен. Наконец, в воплощении Бог выбрал стать одним из нас, нашим Братом, чтобы через Него мы могли открыть наше сыновство, стать сынами и дочерьми Отца Господа Иисуса Христа.
V
Это наше последнее собрание. Поэтому я хотел бы сказать лишь несколько слов в заключение, подвести итог и оставить побольше времени на ваши вопросы. Я хотел бы сказать две вещи.
Я начал с цитаты из книги Осии: Долина Печали (Ахор) станет вратами надежды (см. Ос 2:15). В своих беседах и в ответах на ваши вопросы я пытался показать, как эта долина тревоги, смятения, беспорядка, бури, долина, которую временами мы видим как место, проклятое Богом, где нет ничего от Божественного мира, может стать, если посмотреть по-другому, вратами надежды. Я уже цитировал отрывок из Исайи, где он говорит, что долина тревоги станет пастбищем для овечьих стад (см. Ис 65:10). В жизни ваших мужей очевидно, что есть стадо, духовные овцы — стада ваших мужей, пасущиеся более или менее спокойно в долине, которую они воспринимают как место покоя, под защитой и заботой пастыря, под руководством и благословением Того, Кого Мэри Уэбб называет “Хозяин великого стада”. Овцам хорошо в долине; есть трава, есть забота пасущего. Долина представляется долиной тревоги, да и то пока лишь только для пастыря и его семьи; однако это долина надежды, потому что она раскрывается в новые времена. Иерихон по существу уничтожен, вырван с корнем. Не осталось охраняющих стен, они пали. Каждый отдельный маленький Иерихон можно встретить тем же звуком рога и той же победой любви.
Я хотел бы сделать вместе с вами еще один шаг по этому пути. Надежда должна быть укоренена в радости, а радость — в некоем уже пережитом опыте, не в том смысле, что надежда пытается вернуть прошлое, а потому что она укоренена в уверенности, основанной на нашем собственном опытно пережитом прошлом. Мне хотелось бы напомнить вам отрывок в конце 28 й главы Евангелия от Матфея, когда Христос говорит Своим ученикам, чтобы они шли в Галилею: там Меня встретите. На первый взгляд, очень странный приказ. Ученики только что встретили Христа, и Он Сам тут же говорит им, что встретит их в Галилее. Кроме того, почему в Галилее, а не где-либо еще? Разве Галилея — особенно святое, священное место? Разве Галилея — в большей степени врата в Царство Божие, чем Иерусалим, чем Сионская горница, Гефсиманский сад, Крестный путь, Гроб Господень? В чем дело? Мне кажется, Галилея имела особое значение в жизни учеников. В Галилее они впервые встретили Господа Иисуса Христа. Это место первых откровений, это место, где началась Весна их жизни, новизна жизни. Галилея — место первого открытия вечной жизни, восходящего солнца, конец ночи, о которой говорит Исайя (см. Ис 21:4,12). Поэтому вернуться в Галилею после жестких, грубых, жестоких переживаний в Иудее означало вернуться к началу всех начал, вернуться к месту, где все было новым, все в становлении, все свежесть, новизна весны.
Идите в Галилею, оставьте землю Иудеи, где прошла вся борьба, где все застыло в противостоянии, ненависти, отвержении, где все осуществилось в убийстве и смерти. Идите и обретите там вновь все, что на вас хлынуло из вечности, где вы вошли в преображенное время, преображенную историю. И они пошли в Галилею и встретили Христа там, где встретили и обнаружили Его впервые. Тяжкие, жестокие годы в Иудее должны были показаться страшным кошмаром. Они вернулись туда, где все было жизнь, жизнь в избытке, место первого чуда в Кане, место первой встречи с воплощенной любовью.
Я думаю, то, что случилось с ними, случается не раз в жизни каждого из нас по отношению к Богу, по отношению к ближайшему окружению, к родителям, супругам, детям, друзьям; по отношению к приходу, ко всем общественным группам. Есть минута первого открытия, ничем не замутненного видения другого, пока жизнь не сплела двух людей напряжением и проблемами. Позже мы проходим через разные стадии: пыль покрывает свежесть весенних листьев, их иссушает палящий зной, все твердеет, нагромождаются проблемы, неразрешенное напряжение делает жизнь трудной, отношения теряют гибкость. Мы должны время от времени возвращаться в Галилею. Это относится к каждому встреченному человеку, потому что первая встреча была полна безграничных возможностей. Они усыхают с течением времени, и однако они здесь, как семена любви, и если их поливать, охранять, они могут снова расцвести в бытие и цветение Весны.
Вспомните, как вы впервые попали в утомительный, скучный, трудный, назойливый приход. Вы ожидали чего угодно. Это была встреча в Галилее. Вы отворяли двери одному входящему за другим с полной открытостью, без предубеждений, готовые ко всему, то есть готовые узнать посланного вам Богом человека. А потом все стало трудным, однообразным, тяжким. Вы начали жизнь жены священника, радуясь его священству, а позже его священство так много отняло у вас, создало так много проблем, что радость теперь только смутно припоминается, священство стоит между ним и вами; я мог бы продолжать, приведя множество примеров. Найдите время, минуты, украденные у жизненной суеты, минуты, когда внезапно, неожиданно на вас снисходит мир, тишина, ясность, и вернитесь в Галилею. Вспомните, как вы радовались на рукоположении вашего мужа, что он стал в новом смысле, новым образом, на новом уровне человеком Божиим, человеком, которого посылает Бог, и как вы готовились рука об руку идти к новой цели. Вспомните приход, каким вы его видели первое время. Вспомните людей. Верните себе все это, потому что все это так же реально сейчас, как было тогда. Будущий помощник священника, следующий дьякон, следующий настоятель приедут в этот же самый приход и снова увидят в нем Весну жизни, и их жены тоже.
И если вы научитесь находить среди сухих, жарких песков Иудеи, среди скал горы искушений свой путь в Галилею, вы снова обнаружите, что все здесь, никуда не пропало, и вы сможете начать снова, начать вновь, в новизне, которую ничто не может у нас отнять, потому что эта новизна состоит не из зеленых лугов и прекрасных холмов и неба Галилеи. Новизна состоит в веянии духа жизни, духа любви, истины и сыновства, духа, который порой расцветал свободно; и мы его принимали, и он освежал нас, давал нам жизнь, цель, отправлял нас в путь. Возвращайтесь так часто, как можете, с вниманием к каждому человеку, каждому месту, каждому напряжению в ту точку, где Галилея благоухала жизнью и неограниченными возможностями.
И только тогда вы сможете услышать Христа говорящего: Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас (Ин 20:21). Слова эти были сказаны сразу после распятия, на третий день, да что там, — всего через 36 часов. Это не был образ энергичного Миссионерского общества, за которым стоит великолепие и вся мощь страны, посылающей миссионеров в свои колонии. Слова эти значили: Я был Богом, но так возлюбил мир, что согласился на то, что слава Моя угаснет, сила сойдет на нет, согласился стать полностью солидарным с людьми, которых пришел спасти. Я стал уязвимым, потому что они были изранены. Я стал беспомощным, как они. Я согласился на видимое поражение, чтобы показать им, что поражение не в том, в чем они его видят. Я стал презираемым в глазах всех тех, кто верит в победу, власть и силу, дабы показать им, что слава человека — не в похвале от людей, но человек воистину осуществившийся являет славу Самого Бога. Это слова священномученика Иринея Лионского.
Быть посланным Христом, как Отец послал Его — в этом смысл тайны Воплощения. Это означает все, что содержится в понятии Страстной недели. Это означает такую любовь к людям: чтобы быть единым с ними, Он принял даже непостижимую, непонятную потерю Бога, выраженную в словах, сказанных с Креста: Боже Мой! Боже Мой! зачем Ты Меня оставил? (см. Мк 15:34) и в провозглашении Апостольского Символа веры: Он сошел во ад. По-еврейски ад — место, где Бога нет. Мы не можем принять этих слов, если не имеем в себе жизни. Мы не можем понять следующих за этим слов Христа: Мир вам, если мы не понимаем, что посланы во имя любви, и что любовь уже победила.
Любовь — не чувство, не эмоция. Любовь — такая полнота жизни, что тот, кто охвачен ею, может положить жизнь, может свободно отдать ее. Но чтобы так поступить, мы должны быть охвачены жизнью и быть на пути к той полноте и силе жизни, которая здесь подразумевается. Это и есть долина Ахор, место, где пасутся овцы и где пастух с семьей стережет их ценой собственного покоя, мира, а временами и ценой собственной жизни. Это та самая долина, которая становится вратами жизни.
Перевод с английского М. Шмаиной
под ред. Е. Майданович
1Боб — шиллинг на лондонском арго тех дней. — Ред.
2См. Пс 31:7 в церк.-слав. переводе.