Я хотел бы рассмотреть с вами вопрошание, то, как мы ставим под вопрос Бога, с двух точек зрения: с одной стороны, посмотреть, как Сам Бог ставит под вопрос тот Свой образ, который мы создаем, и с другой стороны, то, как мы ставим под вопрос Его Самого, не в категориях образа, но в категориях Личности.
Надеюсь, я успею сказать о том и о другом, но начать хотел бы с проблемы образа и представить ее вам, так сказать, в четырех выражениях: вера, сомнение, истина и реальность.
Детская вера, взрослые сомнения
Современный мир, современная жизнь очень жестко ставит под вопрос веру. Мне кажется, только подлинная, истинная вера может выдержать это испытание, но любые суррогаты веры, все поверхностные подходы к вере — слава Богу! — бывают сокрушены и уничтожены.

В христианском обществе, то есть в обществе, где христиане еще в большинстве, где и неверующие в своем большинстве еще сохраняют былую связь с христианством, эта проблема легко подменяется проблемой безразличия и легковерия. В обществе, где господствует атеизм, особенно там, где атеизм безудержный, агрессивный, проблема веры встает более четко, потому что является личной ответственностью и начинается в какой-то момент с события, — с обращения, с открытия.
Одна из проблем западного мира в том, что человек рождается в обществе нейтральном или еще христианском; то, что составляет интеллектуальное или эмоциональное содержание веры, нам дается с самого начала, — когда мы еще способны всё воспринять и еще неспособны применить свой критический ум, поставить под сомнение, поставить под вопрос, сделать выбор. В результате вера сохраняется, пока является актом простого доверия: у ребенка или у людей, интеллектуально не склонных ставить что бы то ни было под вопрос.
В детстве этот акт веры направлен на Бога через посредство родителей или воспитателей, или всей среды; это акт простого доверия, в результате которого человек становится наследником, обладателем общего достояния. Но позднее воспитание, которое мы даем молодежи, детям, далеко уступает образованию, какое они получают, например, в плане научном или гуманитарном.
И неизбежно наступает момент, когда внутри человеческой личности сталкивается ребенок с его детской верой и взрослый человек с его опытом и светским образованием. Начинается диалог, который часто — поединок между взрослым человеком, у которого нет данных веры, и ребенком, у которого нет данных разума.
Иногда взрослый ум разбивает в пух и прах способность верить того ребенка, который еще жив в нем; иногда ребенку удается проявить упорство и отстоять свое право на существование. Тогда внутри человеческой личности происходит разделение; бок о бок живут ребенок с чистым сердцем и взрослый с утонченным интеллектом, и человек лишь поочередно может быть или верующим, или взрослым.
В различные моменты то берет верх ребенок, то взрослый человек вступает в свои права, профессионально или в целом как член общества. И в конечном итоге, в той мере, в какой взрослый всё же участвует в жизни ребенка, веру, в плане интеллектуальном, подменяет легковерие, способность принимать с некоторым безразличием, с некоторой наивностью данные, которые касаются лишь эмоциональной жизни, жизни сердца; интеллект в полном своем объеме как бы отделен от этой жизни.
Не то мы видим в Священном Писании. Не о такой вере говорит Послание к Евреям, не такой вера предстает в опыте христианства первых веков или в опыте христиан, которые открывают своего Бога сейчас, в контексте агрессивного, воинствующего атеизма.
Вера святых
Мне кажется, следует попробовать определить, где именно начинается вера. В творениях преподобного Макария Египетского, в одном из его слов есть место, где он ясно показывает внезапный, молниеносный опыт встречи с Богом. Он говорит, что в этот момент, лицом к лицу с Живым Богом, когда человека уносит, будто вихрем, опыт, которым невозможно управлять, который невозможно ограничить, невозможно даже наблюдать, пока он происходит, человек просто весь отождествляется с этим опытом.
Ум замолкает, потому что анализ невозможен, умолкают все силы души, потому что единственное, на что способна душа — до конца заполниться происходящим с тем, чтобы пересмотреть его позднее, — подобно тому, как тонущий человек не имеет времени на психологический анализ своего состояния или на рассматривание волн, или на мысли о температуре воды.
Лишь после можно обратиться на себя, поставить себе вопросы. Это состояние, которое Феофан Затворник называет “блаженный плен души”, состояние, где замирает всякая деятельность, потому что всё стало внутренним молчанием с целью слушать и видеть. Этого состояния хватило бы тому, кто его переживает.
Но, по слову преподобного Макария, Бог заботится не только о том, кто способен на такое восприятие, Он заботится и о тех, которые еще неспособны на такой опыт. И Он отходит, подобно тому, как море отходит при отливе, и оставляет того, кто был полностью погружен в опыт, как бы на берегу.
Есть момент, когда опыт еще весь в вас и когда к вам возвращается самосознание: вот этот момент, говорит Макарий, и есть начало веры. Уверенность целиком тут, она присутствует с такой ясностью, что не возникает никакого сомнения. Но пережитый опыт становится теперь невидимым, и вера предстает нам как уверенность в том, что перестало быть непосредственным опытом, она охватывает пережитый опыт, из которого мы вышли или только еще выходим.
Но в сердцевине веры, как ее определяет преподобный Макарий, есть опыт. Мы склонны подчеркивать слово “невидимый” и преуменьшать значение “уверенности”, тогда как на самом деле ударение лежит на уверенности. Нечто становится предметом веры не потому, что оно невидимо; опытная несомненность этого невидимого приводит к тому, что оно стало предметом веры, а не легковерия.
Так вот, это возможно, только если у нас есть вера, основанная на опыте, будь то внезапном или постепенном. Только при наличии ослепительного опыта, подобного тому, какой открылся Савлу на пути в Дамаск, или опыта, который незаметным образом родился или развился в глубине нашей души, имеем мы право сказать, что наша вера — в уровень опыта, отраженного в Священном Писании.
Иначе мы можем лишь сказать, что доверяем другим, которые познали, открыли, почувствовали то, о чем мы еще ничего не знаем, и что временно, поскольку у нас нет никаких причин отрицать их опыт, мы принимаем его действительность — но вера принадлежит им, мы ею лишь воспользовались. Они обладают ею, или, вернее, охвачены ею; мы ее берем взаймы — и это совершенно иное положение вещей.
Христианин на перекрестке
И здесь встает проблема сомнения. Сомнение означает двойственность; сомнение означает дихотомию, разветвление, момент, когда путь раздваивается; момент сомнения есть момент, когда мы приходим к пересечению путей и видим перед собой две возможности. Обычно христианин, оказавшись на перекрестке, впадает в страх; единственность, простота прежнего положения поставлена под вопрос; ему почти кажется, что выбор, который он призван сделать — чуть ли не богохульство.
В каком-то смысле сомнение указывает, что в нас есть неопытность, недостаток понимания, что мы неспособны безошибочно сделать верный выбор. Свобода выбора, свобода безразличия, о которой говорит Габриель Марсель, есть уже признак того, что мы не умеем немедленно отличить истинное от лжи, распознать Бога от карикатуры на Него.
У пророка Исаии есть место, которое в православном богослужении читается в навечерие Рождества; там говорится: Младенец родится Израилю, Который, прежде чем научится различать добро от зла, уже выберет добро…
Момент, когда мы останавливаемся и ставим себе вопрос, означает, что в нас есть неспособность распознать добро и зло, отличить истину от ошибки, жизнь от смерти, Бога от князя мира сего. Это факт, с которым надо считаться, но этот факт является также неотъемлемой частью нашего становления, нашего роста, нашего возрастания, в конечном итоге которого мы будем окончательно привиты к Богу.
Христианина охватывает страх, потому что ему кажется, что как только он ставит под вопрос свой образ Бога, он грешит против Самого Бога. Я хочу вам пояснить его ошибку, коротко сравнив сомнение христианина с систематическим, творческим сомнением в научном поиске.
Ученый собирает данные; когда их становится слишком много и не удержать в одной руке, когда, чтобы использовать эти данные, надо их связать между собой, расположить так, чтобы рассматривать их как целое, а не по отдельности, ученый строит гипотезу, теорию, модель, которая позволила бы держать все данные вместе и видеть их взаимосвязь. Но ученый прекрасно знает, что эта модель искусственна, что это лишь способ объединить данные и что объективная реальность обнимает множество других фактов.
И первое, что сделает настоящий ученый, построив такую модель: он начнет искать ошибку в своем построении или, если ошибка не находится, искать тот новый факт, который никоим образом не вписывается в модель; потому что лишь разрушив модель, ученый может приблизиться — возможно, всего на шаг — к более истинному видению реальности, которая всегда превосходит промежуточное видение, выраженное его моделью, его теорией, его гипотезой.
Отношение ученого к сомнению таково, что он ищет сомнения, систематически к нему прибегает; это сомнение беспощадно, оно мужественно, и всё время это сомнение возможно лишь потому, что в основе его лежит уверенность: цель его поиска — не построение модели, а всё более истинное, всё более полное видение реальности. И ученый знает, что разрушение всех последовательных моделей реальности никак не угрожает самой реальности, тому, что есть на самом деле.
Так вот, мы, христиане, могли бы чему-то научиться в отношении сомнения, обуревающего нас или встающего перед нами. Сомнение, вопрос появляется лишь тогда, когда нашему сознанию предстает новый факт; пока новых фактов нет или пока мы не обнаружили слабое место на своем пути, мы со всем согласны. Но когда мы обнаружили слабое место или новый факт — это означает, что у нас есть новые данные для построения, а не просто данные для разрушения.
И это очень важно: ученый ставит свою модель под вопрос, потому что уверен, что реальность незыблема. Христианин не смеет посягнуть на свою модель, потому что боится, что его модель и есть Сам Бог и что, ставя под сомнение модель, он посягает на Бога.
Что касается богословских выкладок, с этим еще можно справиться. Но когда мы собрали в модель данные Откровения, проблема становится гораздо болезненней, потому что и тут мы делаем ошибку: мы путаем то, что нам уже открыто, с полнотой того, что еще предлагается нашему познанию; мы смешиваем частичное откровение, пусть и очень богатое, с видением Самого Бога.
Святитель Григорий Богослов в IV веке сказал, что если бы нам удалось собрать все данные Откровения и создать из них как можно более богатый и полный образ Бога, если в этот момент мы безрассудно сказали бы: Вот мой Бог, — мы создали бы идола, который закрывает видение Бога истинного, вместо того чтобы создать прозрачный образ, который позволил бы нам видеть сквозь него реальность, все более его превосходящую. И тут мы подходим ко второй двоице выражений, к разнице между реальностью и истиной.
Что есть истина?
В русском языке, особенно после писаний отца Павла Флоренского, существует, мне кажется, пагубное смешение этих выражений. Флоренский производит слово истина от глагольной формы есть — естина и говорит, что истина — это просто то, что объективно есть. (К глаголу быть слово истина скорее всего отношения не имеет. Этот корень в славянских языках может иметь ряд значений — от ‘настоящий’ до ‘наличные деньги’, а в родственным славянским индо-европейских языках может значить ‘ясный’. Впрочем, если и для лингвистов существует правило, согласно которому значение слова несводимо к его этимологии, то в других областях знания оно тем более существенно, и дальнейшие рассуждения автора — хороший пример понимания этого факта. — Ред. «АиО»). Это сомнительная этимология, и это также очень опасная точка зрения.
Это точка зрения, породившая самую крайнюю нетерпимость, самые жестокие религиозные преследования, потому что если отождествить истину в ее выражении с той реальностью, о которой идет речь, тогда ошибка в формулировке означает богохульство, означает непрощаемый грех. Но если мы поймем, что между сформулированной истиной и реальностью существует связь, а не идентичность, в диалог между людьми о Божестве привносится свежая гибкость. Я хотел бы несколько пояснить, что я имею в виду.
Реальность — это всё, что есть, знаемое нами или незнаемое; это и познанное, и тайна Бога и творения. Истина — это та частица реальности, которую мы познали и выразили. Здесь два ограничительных выражения: познали — означает, что я увидел то малое, что мне доступно; выразили — означает, что я попытался определить в терминах языка то малое, что увидел. На самом деле здесь двойное ограничение.
Когда мы видим человеческую личность, мы не видим всю ее, мы схватываем лишь что-то из этой личности. И когда мы хотим передать другому доступными нам средствами языка схваченное нами, мы еще ограничиваем то, что можно было бы сказать. Так что между тем, что я говорю, и тем, что на самом деле есть — целый ряд ограничений. Можно бы развить эту тему на библейских примерах, но сейчас на это нет времени.
А теперь я скажу нечто об истине. Если истина — это выражение реальности, в той мере, как мы ее охватили и находим способы выразить (а способы эти многочисленны), то здесь вступают три основоположных фактора. Первый — тот, что реальность может быть выражена статически или динамически.
Когда, например, я делаю фотоснимок, я запечатлеваю момент истины, абсолютно идентичный тому мигу, когда была сделана фотография, но очень ограниченный. Можно сфотографировать человека, когда он говорит из глубины сердца, в такой момент и под таким углом, что он будет только смешон.
Эта фотография совершенно истинна с точки зрения момента и совершенно ложна с точки зрения ситуации. В этом отношении фотография — истина, ограниченная моментом, застывшая и не передающая жизнь. Многое в богословии создавалось именно так: был схвачен момент, заморожен и было сказано: Вот оно!
Можно поступать и по-иному; мы можем пытаться выразить динамизм ситуации, истину движения, а не событий, стоящих за движением. Примером я вам дам картину Жерико под названием “Дерби в Эпсоме”. Когда вы смотрите на картину, вы видите несущихся лошадей. Если вы знаток в лошадях, а не в живописи, вы заметите, что лошади так не скачут: художник исказил данные естествознания, чтобы передать нам чувство движения.
И прав-то он, если он хотел довести до нас именно движение, но он неправ, если хотел показать, как лошадь скачет галопом. В богословии есть та же проблема; есть аспекты богословия, которые могут быть выражены только динамически. Но чтобы выразить их динамически, невозможно сделать ряд моментальных фотографий. Мы должны выразить движение, а не то, о чем идет речь.
И наконец, есть третья проблема: та, что мы всегда выражаем истину с какой-то точки зрения. Мы не выражаем ее с точки зрения Бога, а с точки зрения человека, с точки зрения того физического пункта, откуда я смотрю. Я хотел бы вам дать пример не очень возвышенный, но он, мне кажется, реален: пример искусственных зубов, вставной челюсти.
Когда вы говорите: Вот искусственные зубы, вы исходите из определенной точки зрения: настоящие зубы сами растут во рту и вынуть их нельзя. С этой точки зрения зубы, которые можно положить на этот стол или в стакан — ненастоящие. Но если обратиться к сделавшему их технику — настоящие они или нет? Это настоящие вставные зубы. Так вот, это очень важно, потому что мы делаем множество утверждений, не сознавая, что делаем их с определенной точки зрения, и что есть и другие точки зрения.
Я не хочу сказать — точки зрения нашей веры, я вовсе не хочу сказать, что можно взвесить различные аксиомы и логически развить иную тему, я лишь хочу сказать, что на самом деле точки отсчета часто определяют истину или ложность того, что мы говорим. Всё это ставит под вопрос образы и формулировки, которые мы высказываем о человеке, о Боге, об их взаимных отношениях.
Но центр тяжести, так сказать, источник надежды — именно сомнение, а не безошибочная устойчивость, потому что сомнение в каждый миг ставит под вопрос узость нашего видения, ограниченность нашего понимания, и свидетельствует в каждый миг, что Сам Бог, Живой Бог вторгся в наше сознание и ломает модель. Модель разлетается на куски, но это ни на миг не предполагает угрозы Самому Богу.
Бог превосходит модель, превосходит статичный образ. Он превосходит и динамичный образ, превосходит и понятие тайны. Он превосходит познание как мы его понимаем в терминах познания мира материального, Он превосходит даже приобщенность, как мы ее понимаем в меру нашего опытного знания. Все может — и должно быть — поставлено под вопрос, не потому чтобы мы ставили под вопрос Бога, человека или взаимоотношение, но потому что в каждый момент Бог требует от нас более глубокого понимания и более животрепещущего отношения с Ним.
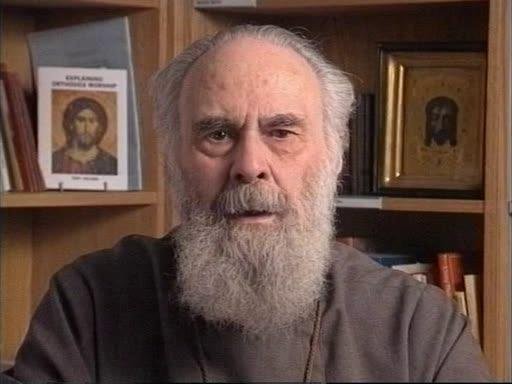
Бог под нашим вопросом
А теперь несколько слов о том, как мы ставим под вопрос Бога, — не модель Бога, потому что на самом деле Он, а не мы, ставит под вопрос эти модели; мы-то были бы очень рады раз и навсегда сделать Его чем-то неизменным и ничем не рисковать. Но бывает, мы ставим под вопрос Самого Бога, и я попробую вам это показать, сказав о двух бурях на озере, описанных в Евангелии.
Начинаются эти описания одинаково. Ученики Христа покинули берег озера в лодке, направляясь к другому берегу. Ночью на озере поднимается буря. Они борются, они в смертельной опасности, силы их подходят к концу, мужество колеблется, надежда угасает, и тогда что-то происходит.
В первом случае они видят Христа, идущего по волнам среди бури, и вскрикивают от страха: Это привидение!.. Почему это привидение? Потому что, будь это Христос, Он не мог бы быть среди бури. Христос — Царь мира, Царь гармонии, Тот, Кто может победить все восстания природы, Кто может вернуть гармонию всему, что ее потеряло. Раз гармонии нет, значит, то, что они видят — не Христос.
Именно так мы поступаем ежеминутно; мы ставим Бога под вопрос: где Бог при землетрясении? где Бог в пожарах? где Бог в войне? где Бог в голоде? где Он? И словами: вы Его не видите? Его нет? Это, может, привидение? Будь Он тут, всё это не могло бы случиться… — мы ставим Бога под вопрос.
А другой аспект вопрошания виден из другого рассказа. Апостолы борются со смертью, которая обступает их со всех сторон, и Христос спит на корме корабля, с головой на подушке. Они борются, они чувствуют, что побеждает смерть. Они оборачиваются и видят, что Христос как бы устранился. Он отдыхает. Они, Его создания, борются, скоро погибнут, а Он в покое на Своем небе, спокойно там спит, положив голову на подушку. Они обращаются к Нему, но не говорят ничего подобного тому, что сказал сотник: “Не приходи, Господи, скажи только слово, и слуга мой выздоровеет…”.
Они будят Его, и текст жёсток, они почти что говорят Ему: Тебе дела нет, что мы погибаем — что, применительно к событию, означает: “Если Ты ничего не можешь сделать, по крайней мере раздели наши страхи и умри с нами”. Не так ли мы поступаем всё время? Мы сомневаемся, что Бог поможет; мы не уверены, что Бог может помочь, но если Он ничего не может сделать, хоть бы страдал с нами вместе, хоть бы разделил наш ужас.
Мы под вопросом Бога
Есть места в Священном Писании, где Бог как бы оборачивается против нас и по существу говорит нам: вы Меня обвиняете; но теперь Я вас ставлю под вопрос. Где вы? Где Я и где вы? Я — в сердцевине бури — а вы?.. .
Мы говорим, люди часто говорят: “Как молиться Богу, Который уходит от ответственности, Богу, Который скрывается, Богу, Которому дела нет, Который устраняется?..”. Кто безответственен — Бог или мы? Мы всё время стараемся уйти от ответственности. Бог взял на Себя ответственность раз и навсегда, и никогда не уходит от нее. Мы включаемся на миг, а потом, когда устанем, отправляемся отдохнуть до следующего раза.
Когда кто-то болен, мы сидим с ним; но в какие-то моменты уходим и поспать. Когда кто-то в тревоге, мы остаемся рядом, но порой уходим отдохнуть. Если чья-то нужда бывает слишком длительна, мы начинаем терять терпение. Мы были готовы все сделать, лишь бы нужда не продолжалась слишком долго.
Вот уже пятнадцать лет в нашем приходе мы молимся о двух людях, страдающих рассеянным склерозом. Однажды кто-то мне сказал: “Сколько же мы будем молиться за Елену и Екатерину? Я устал каждое воскресенье слышать их имена!”. Я ответил: “Как ты думаешь, это двое не устали семь дней в неделю называться Еленой и Екатериной и нести свою болезнь?”.
Вот как мы берем ответственность или уходим от нее. Даже промежутка в шесть дней между службами недостаточно, чтобы дать нам время отдохнуть и с некоторым порывом вернуться на десять секунд к именам Елены и Екатерины.
Воплощение как ответственность
Бог вошел в ответственность совсем иначе. Воплощение означает, что Он принял на Себя ответственность сполна и на веки вечные. Кажется, в конце 9-й главы Иов, лицом к лицу с Богом, Которого он не понимает и не может принять на условиях, на которых Его встречают и принимают его друзья, — как Властелина, имеющего все права, перед Которым мы всегда виновны, потому что по самому определению Он всегда прав, — Иов восклицает: Где тот, который станет между мной и моим Судьей, кто положит руку на Его плечо и на мое плечо?..
Иов осознал, что дело не в том, чтобы найти как бы посредника, кто говорил бы несколько слов в успокоение одного и в утешение другого, чтобы поддерживать между обоими терпимое равновесие. Иов ждет кого-то, кто сделает шаг и встанет в сердцевине ситуации, кто протянет руки и соединит обоих, удержит их в единстве.
То, что он искал пророчески, в своем духе сыновней любви, сыновнего видения, мы находим во Христе. Сын Божий стал Сыном человеческим; Он делает шаг, который вводит Его в сердцевину конфликта, вернее, Он Сам становится сердцевиной конфликта, потому что в Нем встречаются все элементы конфликта, человек и Бог сходятся до конца в своем противостоянии. Он несет на Себе осуждение, Он становится не только проклятым, — Он становится клятвой, как говорит Писание. Бог отвергнутый, Он выведен из града человеческого, Он распят вне Иерусалима.
В Нем сходятся все элементы конфликта, и Он от этого умирает, — вот что берет на Себя Бог по отношению к человеку. Мы ставим Его под вопрос — но не Он ли должен нас ставить под вопрос? И когда я говорил о буре: в сердцевине бури — Он. Мы бьемся, стараясь максимально уйти от нее. Мы пытаемся достичь берега, мы пытаемся найти защиту, хотя бы временную и столь непрочную защиту в лодке. Он-то стоит в этом бушующем море, Он — в сердцевине разбушевавшегося ветра. Он — там, где в равновесии предельного напряжения сталкиваются все бушующие силы, разбивая всё, на что обрушиваются.
Вот, мне кажется, как встает проблема, когда мы ставим под вопрос Бога и нами же созданные Его образы.
Можно задаться вопросом: куда простирается эта Божия солидарность? До какого предела Он идет? Он стал человеком, Он согласился на двойную солидарность с Богом и с человеком, но на чем Он останавливается? И, значит, где должны мы остановиться в этой солидарности?
Мне кажется, вот что мы видим. Мы видим, что Он сделал этот шаг, — шаг предстательства. Мы часто думаем, что предстательство состоит в том, чтобы позвать Бога на помощь, сказать Ему: “Господи, вот нужда, вот трагедия, — приди”. Предстательство начинается не в тот момент, когда мы что-то произносим; оно начинается в момент, когда мы делаем шаг.
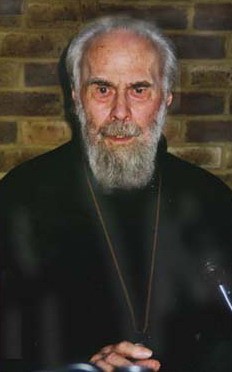
Предстательствовать — это сделать шаг, который поставит нас в центр проблемы, в сердцевину конфликта. Бог сделал этот шаг. Он стал человеком. Во-первых, Он стал человеком раз и навсегда. Он не выходит из этой ситуации. Распятый и воскресший, Он все еще и навсегда носит следы Своего распятия. Даже в Своем воскресении и в Своей славе Он не освободился, так сказать, от Своего распятия. Страдание проходит, но раненность страданием навсегда остается где-то в нас.
Но с кем Он отождествился? Он не отождествился с человеком вообще, Он не отождествился просто с порядочными людьми, со святыми и праведниками. Он отождествился с блудницей и блудным сыном, Он отождествился во всеми, кто нуждался в спасении.
Те, кто не был способен больше жить в Его области, обнаружили, что их Бог пришел и живет там, где оказались они: Бог уязвимый, Бог беззащитный, Бог истощивший всю Свою славу, Бог побежденный и презренный в глазах тех, кто верит лишь в силу и славу, Он согласился разделить с нами человеческие ограничения, голод, жажду. Он согласился разделить с нами смерть. Но до каких пределов Он пошел?
Если бы Он согласился просто на физическую смерть, немногие приняли бы Его: как просто для Того, Кто бессмертен, умереть физически. Трагедию, единственность смерти Христа составляет именно то, что на кресте Он восклицает: Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил?.. Он разделяет с нами не только физическую смерть.
Единственно почему человек умирает, это потеря Бога; умирают, потеряв Бога, смерть — не просто увядание цветка. Поэтому-то человек умирает: цена греха — смерть, а грех — это отделенность от Бога. И Христос разделяет с нами потерю Бога; Он измерил, как никто в тварном мире не мог измерить, что такое — потерять Бога, быть без Бога, а теистом.
И это же мы выражаем в Апостольском символе веры, когда читаем: Он сошел во ад… Этот ад — не дантовский ад, это ад, о котором говорится, например, в псалмах: место, где Бога нет, место Его радикального, невосполнимого отсутствия. Он сходит туда вместе со всеми потерявшими Бога. Это ад, который обнаруживает, что, захватив человека, на самом деле принял Бога, и ада больше нет, потому что ад как место отсутствия наполнен теперь присутствием Бога Живого.
Вот мера солидарности Божией, вот мера Божией ответственности. И когда мы ставим Его под вопрос, сознаем ли мы, до какой степени сами уходим от ответственности, и насколько Он — в самой ее сердцевине?
Я хотел сказать вам о том, как разнообразно мы бываем поставлены под вопрос и сами ставим вопрошание. О разных аспектах этого вопрошания можно сказать еще многое, но я хотел бы оставить вас с этой проблемой, оставить вас с рядом проблем, чтобы вы над ними задумались, так, чтобы мы когда-нибудь перестали быть детьми по разуму, оставаясь детьми по сердцу.
Может быть, тогда настанет христианское обновление, подлинное обновление, обновление, которое достигнет измерения интеллектуальной новизны, которое было свойственно первым векам, вырастет в меру этих людей, которые сумели думать и имели мужество думать, имели мужество всё поставить под вопрос: в первую очередь, себя, своих богов, всё.
Они нашли и проповедали, возвестили истины, — истины, пленниками которых мы стали, тогда как эти истины должны бы быть для нас — открытые окна, открытые двери, должны помогать нам прозреть и видеть, а не оставаться пленниками чужих мыслей и чужого опыта, жить заимствованным вместо того, чтобы просто жить.
Перевод с французского Е. Майданович
Альфа и Омега № 4 (26)
Читайте также:
Митрополит Антоний: Если сомневаешься…
Причастники Божественной природы
Кому Господь сказал: «Покайтесь»?

