Катерина Гордеева
Грачева и ее чувство смеха
Фото Кристины Александровой для Правмира и из личного архива Елены Грачевой
AdVita – крупнейший в России благотворительный фонд, который помогает взрослым и детям с онкологическими заболеваниями. В канун его дня рождения журналист Катерина Гордеева поговорила с административным директором фонда Еленой Грачевой о русской литературе, чувстве справедливости, Юрии Лотмане, любви, смерти, и анимационном сериале «Летающие звери»
Звоню Грачевой на мобильный ранним утром. Вместо обычного тонкоголосого, немного удивлённого «Да, Катечка», слышу звонкое: «Ну, давайте еще, пока всё правда, но не то…» А в ответ – детский ор: «Хитрый! Жадный! Толстый! Себе на уме! Чувствительный!» – «Чувствительный? – переспрашивает голос Грачевой. – Как вы себе это представляете: чувствительный? Давайте подумаем эту мысль…»
Больше всего в этот момент я боюсь, что она заметит, что не нажала в телефоне «отбой». Сижу, замерев, с трубкой и слушаю самый интересный в своей жизни урок литературы. Административный директор петербургского благотворительного фонда AdVita Грачева преподает литературу в Санкт-Петербургской классической гимназии. О ее уроках ходят легенды – сама Грачева говорит, что это мифы.
Больше всего в этот момент я боюсь, что она заметит, что не нажала в телефоне «отбой». Сижу, замерев, с трубкой и слушаю самый интересный в своей жизни урок литературы. Административный директор петербургского благотворительного фонда AdVita Грачева преподает литературу в Санкт-Петербургской классической гимназии. О ее уроках ходят легенды – сама Грачева говорит, что это мифы.
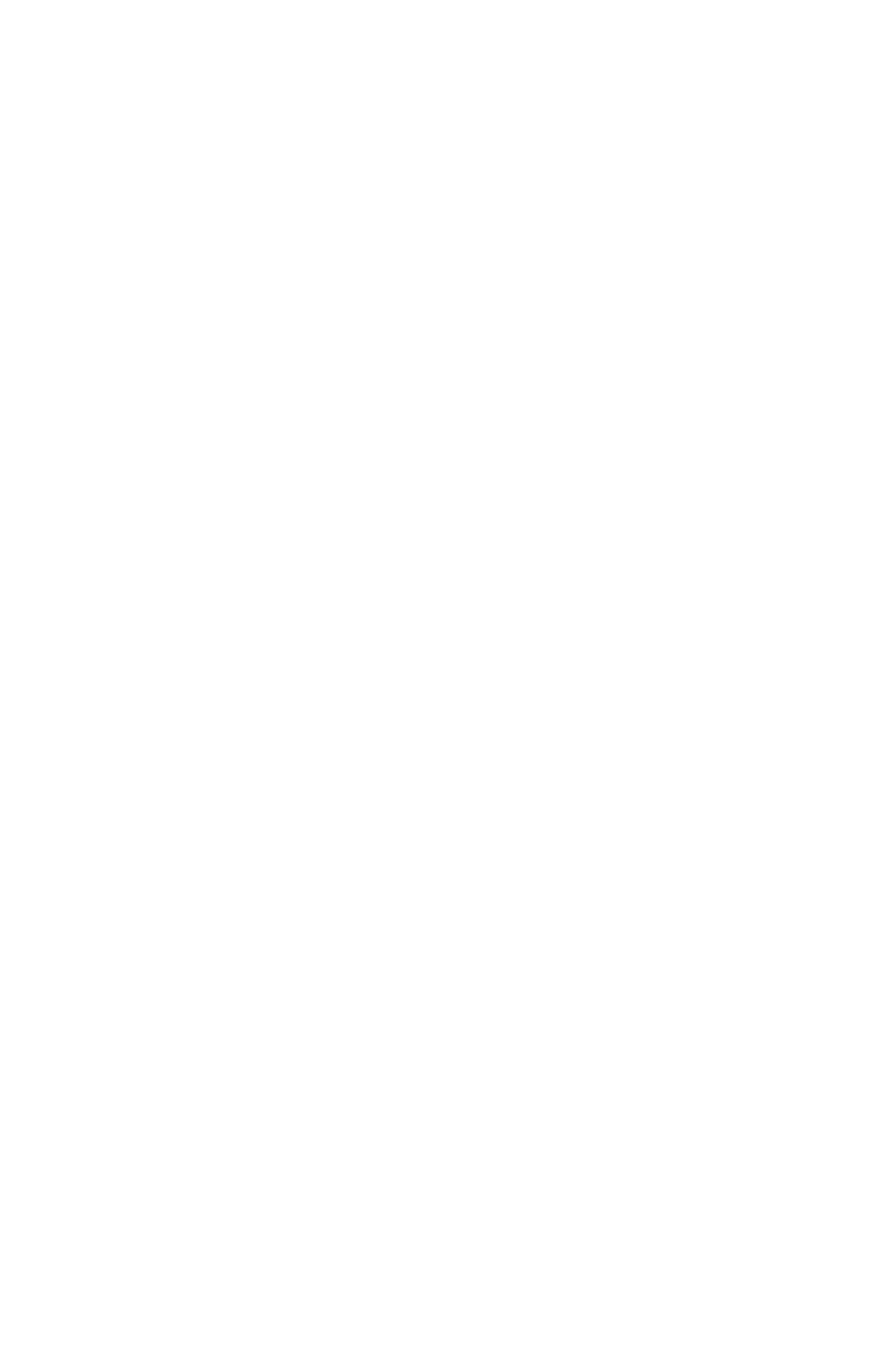
«Обогреть космос».
Грачева рассказывает, как устроен фонд AdVita
Грачева рассказывает, как устроен фонд AdVita
— Ты, когда утром просыпаешься, сперва думаешь про русскую литературу или про российскую онкологию?
— Я думаю, что нужно как-то встать и пойти работать. Потом пытаюсь вспомнить, какой сегодня день, куда я должна идти.
— Варианты?
— В гимназии у меня сейчас шесть уроков, они распределены на три дня и поставлены первыми — чтобы день был дальше свободный. Так что, скорее всего, я иду сначала в гимназию, потом в фондик. Правда, не всегда в офис, это может быть встреча, совещание, переговоры где угодно.
— AdVita исполняется 17 лет. Почти все фонды, начинавшие или одновременно с вами или даже позже, теперь стали большими, зубастыми, мыслят масштабно, а вы так и остались в прежней терминологии: фондик, больничка. Как будто все не всерьез.
— Галя [Чаликова, первый директор фонда «Подари жизнь»] так говорила, это от нее все... «Фондик», наверное, чтобы лишнего пафоса избежать. И это только я в нынешней AdVita так говорю. Другие говорят как положено: системность, планирование, kpi, социальный возврат на инвестиции. Они — профессионалы. А я — выучившийся чему-то волонтер. Но как бы так не увлечься системностью, планированием и kpi, чтобы не потерять то, что всегда в фонде AdVita было главным — готовность вникнуть и что-то придумать для каждого человека, который к нам пришел. Денег на всех мы точно не соберем, но голову приложить и как-то помочь можно почти всегда. А так полюбившаяся всем теперь системность и предсказуемость — не то, чем надо заниматься всем без исключения.
— Но системную благотворительность сейчас все чаще противопоставляют адресной, считается, что она правильнее.
— Тут, мне кажется, просто какая-то речевая ошибка. Знаешь, когда проверяют школьные сочинения, иногда пишут: «неверный выбор слова». Это — не противопоставляемые вещи. Системная помощь — это про работу с государством, это GR (government relationships — взаимоотношения со структурами власти — прим. «Правмир»). Когда ты меняешь законы, которые есть, или пишешь новые. Такие мозги, опыт и такие возможности из всех известных нам фондов у скольких есть? Мы этих людей знаем. Их мало.
То, что делают остальные, я бы делила на адресную помощь и инфраструктурную. Инфраструктурная — когда мы поддерживаем не конкретного человека, а подразделения каких-то больничек, какие-то службы — консультативную или паллиативную, но сама система оказания помощи не меняется.
Разумеется, есть и пограничные случаи: если мы платим за реактивы и оборудование для лабораторий, чтобы пациенты за анализы не платили, — это программная помощь. А если мы платим за клиническое исследование, чтобы появился новый протокол лечения — это, по идее, вроде как тоже программная помощь. Но новый протокол лечения похож на новый закон: он изменит жизнь всех больных с таким диагнозом во всем мире, так что это, может, уже и системная помощь. Ну и, само собой, хоть системная, хоть программная — помощь все равно, в конечном счете, конкретным людям, не марсианам.
— Я думаю, что нужно как-то встать и пойти работать. Потом пытаюсь вспомнить, какой сегодня день, куда я должна идти.
— Варианты?
— В гимназии у меня сейчас шесть уроков, они распределены на три дня и поставлены первыми — чтобы день был дальше свободный. Так что, скорее всего, я иду сначала в гимназию, потом в фондик. Правда, не всегда в офис, это может быть встреча, совещание, переговоры где угодно.
— AdVita исполняется 17 лет. Почти все фонды, начинавшие или одновременно с вами или даже позже, теперь стали большими, зубастыми, мыслят масштабно, а вы так и остались в прежней терминологии: фондик, больничка. Как будто все не всерьез.
— Галя [Чаликова, первый директор фонда «Подари жизнь»] так говорила, это от нее все... «Фондик», наверное, чтобы лишнего пафоса избежать. И это только я в нынешней AdVita так говорю. Другие говорят как положено: системность, планирование, kpi, социальный возврат на инвестиции. Они — профессионалы. А я — выучившийся чему-то волонтер. Но как бы так не увлечься системностью, планированием и kpi, чтобы не потерять то, что всегда в фонде AdVita было главным — готовность вникнуть и что-то придумать для каждого человека, который к нам пришел. Денег на всех мы точно не соберем, но голову приложить и как-то помочь можно почти всегда. А так полюбившаяся всем теперь системность и предсказуемость — не то, чем надо заниматься всем без исключения.
— Но системную благотворительность сейчас все чаще противопоставляют адресной, считается, что она правильнее.
— Тут, мне кажется, просто какая-то речевая ошибка. Знаешь, когда проверяют школьные сочинения, иногда пишут: «неверный выбор слова». Это — не противопоставляемые вещи. Системная помощь — это про работу с государством, это GR (government relationships — взаимоотношения со структурами власти — прим. «Правмир»). Когда ты меняешь законы, которые есть, или пишешь новые. Такие мозги, опыт и такие возможности из всех известных нам фондов у скольких есть? Мы этих людей знаем. Их мало.
То, что делают остальные, я бы делила на адресную помощь и инфраструктурную. Инфраструктурная — когда мы поддерживаем не конкретного человека, а подразделения каких-то больничек, какие-то службы — консультативную или паллиативную, но сама система оказания помощи не меняется.
Разумеется, есть и пограничные случаи: если мы платим за реактивы и оборудование для лабораторий, чтобы пациенты за анализы не платили, — это программная помощь. А если мы платим за клиническое исследование, чтобы появился новый протокол лечения — это, по идее, вроде как тоже программная помощь. Но новый протокол лечения похож на новый закон: он изменит жизнь всех больных с таким диагнозом во всем мире, так что это, может, уже и системная помощь. Ну и, само собой, хоть системная, хоть программная — помощь все равно, в конечном счете, конкретным людям, не марсианам.
— Основные споры идут о разнице между программным сбором и адресной помощью.
— Это как раз самое понятное. Собрали деньги на Петю и заплатили за Петино лечение, все прозрачно и всем хорошо. Как только мы доходим до конкретной больнички и понимаем, что таких Петь в отделении пятьдесят, нам уже кажется несправедливым остальных Петь бросить без помощи. Но как только мы начинаем собирать на все отделение, жертвователи начинают тревожиться: а как мы узнаем, что все Пети в отделении лекарства получат? Вы что, будете каждого предъявлять? А если нет, мы как это проверим? И вообще: как почувствовать, что по ту сторону перевода живой человек, если в назначении платежа я пишу унылое: «на уставную деятельность»? На эти законные вопросы мы пока не умеем отвечать.
— Собирать сразу всем Петям в отделении рациональнее и полезнее — чтобы доктор просто мог доставать из шкафа нужный препарат и лечить, а не бегать по фондам с криками: «Петя помирает, дайте денег!»
— По-хорошему, эффективнее всего для фонда — добиться, чтобы государство или страховая компания давали столько денег, сколько нужно всем Петям во всех больницах. Но пока мы будем идти к этому светлому будущему, конкретные Пети могут умереть. Разумеется, хочется быть продуманными и системными. Но вот пример: мы молодцы и программным образом купили лекарство в отделение. Всем дали, только один Вася возьми да выпишись. Больничка ему с собой если и может лекарства дать, то чуть-чуть, на дорожку. Домой он приедет — там заявки, тендеры, местный бюджет, у которого ни копейки нет, препирательства с Минздравом, звонки в Росздравнадзор, до судов доходит. Поэтому, конечно, мы Васе будем покупать лекарства адресно, пока он от государства их не может получить.
— В уставе AdVita написано, что фонд помогает любым онкологическим пациентам — и взрослым, и детям. Выходит, что ваша уставная задача — обогреть космос.
— Ты права, ни Паша [Гринберг, учредитель фонда AdVita], ни я никогда не хотели выбирать: этому помочь, этому нет, мы не Господь Бог и вообще-то не должны это решать. Это была и есть чудовищная проблема для нас. Знаешь, я довольно долго входила в разные комиссии при Минздраве: и по трансплантации костного мозга, и по лекарственному обеспечению, и по детской онкологии. И с Госнаркоконтролем в Петербурге пыталась общаться. Мало что у меня получилось. Разве что некоторые изменения в закон о ввозе незарегистрированных препаратах, позволяющие ввозить новые лекарства не в чемоданах с двойным дном, как Ленин «Искру», а легально. Еще мы вместе с петербургскими трансплантологами написали тонну бумаг с проектами, чтобы государство взяло на себя расходы по трансплантации костного мозга и поиску доноров, по созданию регистра потенциальных доноров. Ездили к министрам. Но ничего не вышло.
— Но вот совсем недавно вышел приказ Минздрава о порядке оказания медицинской помощи при трансплантации костного мозга.
— Это важный документ. Но государство пока не платит ни за поиск донора в зарубежных регистрах, ни за создание собственного российского регистра. Непонятно, как донору оплатить дорогу к месту забора клеток, как выплатить ему зарплату за пропущенные дни. Государство этого не обещает.
В общем, если возвращаться к моему личному GR-опыту, он скорее плачевный. Я, по сути, сломалась и дезертировала.
Но вот полтора года назад AdVita открыла, наконец, паллиативную программу, потому что пришла Катя Овсянникова, которая была готова ввязаться — сейчас она уже говорит, что не понимала, во что, — и оказалось, что, если с государством не работать, ничего не выйдет вообще. Так внезапно, с паллиативом, в фонд вернулись GR, а Катя уже работает не только в фонде AdVita, но и в фонде «Вера», и это правильно.
— А как вы между собой эту работу делите?
— У нас — консультативная служба и сопровождение конкретных семей, с этого года добавилась программа обучения медиков и школы ухода для родственников. У «Веры» — системная поддержка хосписов и выездных служб. По мне — отличный симбиоз. Только мне очень страшно за сотрудников — они уж совсем за пределами физических сил существуют. При этом говорят, что счастливы.
— Это как раз самое понятное. Собрали деньги на Петю и заплатили за Петино лечение, все прозрачно и всем хорошо. Как только мы доходим до конкретной больнички и понимаем, что таких Петь в отделении пятьдесят, нам уже кажется несправедливым остальных Петь бросить без помощи. Но как только мы начинаем собирать на все отделение, жертвователи начинают тревожиться: а как мы узнаем, что все Пети в отделении лекарства получат? Вы что, будете каждого предъявлять? А если нет, мы как это проверим? И вообще: как почувствовать, что по ту сторону перевода живой человек, если в назначении платежа я пишу унылое: «на уставную деятельность»? На эти законные вопросы мы пока не умеем отвечать.
— Собирать сразу всем Петям в отделении рациональнее и полезнее — чтобы доктор просто мог доставать из шкафа нужный препарат и лечить, а не бегать по фондам с криками: «Петя помирает, дайте денег!»
— По-хорошему, эффективнее всего для фонда — добиться, чтобы государство или страховая компания давали столько денег, сколько нужно всем Петям во всех больницах. Но пока мы будем идти к этому светлому будущему, конкретные Пети могут умереть. Разумеется, хочется быть продуманными и системными. Но вот пример: мы молодцы и программным образом купили лекарство в отделение. Всем дали, только один Вася возьми да выпишись. Больничка ему с собой если и может лекарства дать, то чуть-чуть, на дорожку. Домой он приедет — там заявки, тендеры, местный бюджет, у которого ни копейки нет, препирательства с Минздравом, звонки в Росздравнадзор, до судов доходит. Поэтому, конечно, мы Васе будем покупать лекарства адресно, пока он от государства их не может получить.
— В уставе AdVita написано, что фонд помогает любым онкологическим пациентам — и взрослым, и детям. Выходит, что ваша уставная задача — обогреть космос.
— Ты права, ни Паша [Гринберг, учредитель фонда AdVita], ни я никогда не хотели выбирать: этому помочь, этому нет, мы не Господь Бог и вообще-то не должны это решать. Это была и есть чудовищная проблема для нас. Знаешь, я довольно долго входила в разные комиссии при Минздраве: и по трансплантации костного мозга, и по лекарственному обеспечению, и по детской онкологии. И с Госнаркоконтролем в Петербурге пыталась общаться. Мало что у меня получилось. Разве что некоторые изменения в закон о ввозе незарегистрированных препаратах, позволяющие ввозить новые лекарства не в чемоданах с двойным дном, как Ленин «Искру», а легально. Еще мы вместе с петербургскими трансплантологами написали тонну бумаг с проектами, чтобы государство взяло на себя расходы по трансплантации костного мозга и поиску доноров, по созданию регистра потенциальных доноров. Ездили к министрам. Но ничего не вышло.
— Но вот совсем недавно вышел приказ Минздрава о порядке оказания медицинской помощи при трансплантации костного мозга.
— Это важный документ. Но государство пока не платит ни за поиск донора в зарубежных регистрах, ни за создание собственного российского регистра. Непонятно, как донору оплатить дорогу к месту забора клеток, как выплатить ему зарплату за пропущенные дни. Государство этого не обещает.
В общем, если возвращаться к моему личному GR-опыту, он скорее плачевный. Я, по сути, сломалась и дезертировала.
Но вот полтора года назад AdVita открыла, наконец, паллиативную программу, потому что пришла Катя Овсянникова, которая была готова ввязаться — сейчас она уже говорит, что не понимала, во что, — и оказалось, что, если с государством не работать, ничего не выйдет вообще. Так внезапно, с паллиативом, в фонд вернулись GR, а Катя уже работает не только в фонде AdVita, но и в фонде «Вера», и это правильно.
— А как вы между собой эту работу делите?
— У нас — консультативная служба и сопровождение конкретных семей, с этого года добавилась программа обучения медиков и школы ухода для родственников. У «Веры» — системная поддержка хосписов и выездных служб. По мне — отличный симбиоз. Только мне очень страшно за сотрудников — они уж совсем за пределами физических сил существуют. При этом говорят, что счастливы.
«Как быть счастливым».
Грачева дает урок литературы
Грачева дает урок литературы
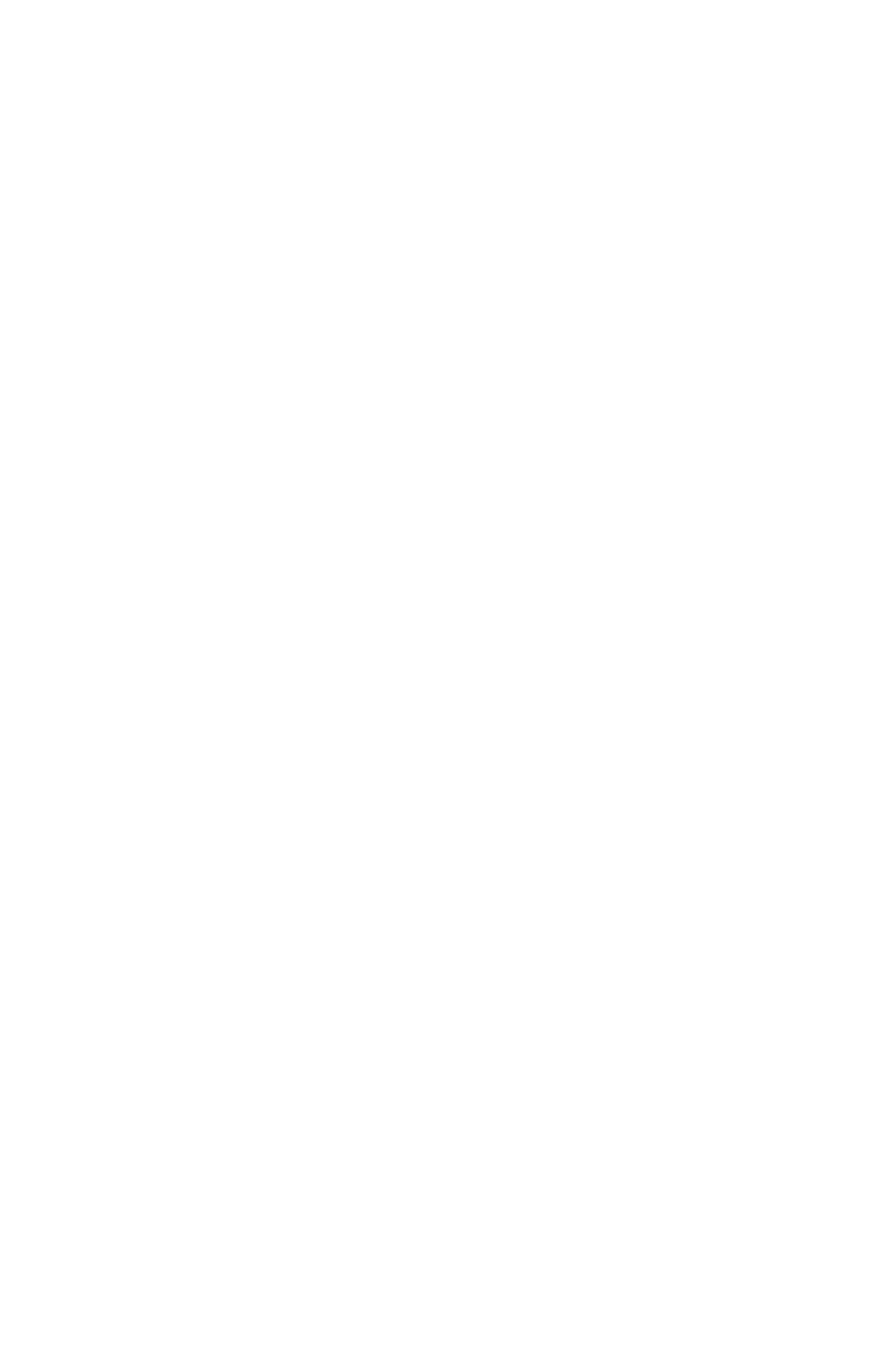
В Петербурге неожиданно светлый солнечный день, такой прозрачный и легкий, что возникает иллюзия беззаботности. Мы идем с Грачевой по зеленой траве Новой Голландии. Так хорошо, что хочется снять обувь и идти босиком. «Это ужасная, кстати, история, — говорит вдруг Грачева, — про наш внутренний запрет на то, чтобы быть счастливым». «Ты сейчас о чем?» — переспрашиваю я, немного обалдев от внезапного поворота разговора. «Вот просто быть счастливым, ни за что, — продолжает Грачева так, будто мы только что прервали этот разговор. — Не заслужить счастье, а задарма получить и научиться ему радоваться». — «Например?».
Грачева оглядывает безупречную Новую Голландию, словно в поисках предмета, который помог бы объяснить, как устроено незаслуженное счастье. Но такого предмета нет. И Грачева с облегчением смеется своим тонким смехом, чуть обгоняет меня и, глядя прямо в глаза, спрашивает: «Вот помнишь, как в „Что делать?"? В некотором отношении это — мой любимый роман. Человек должен быть счастлив просто по праву рождения. Мы как-то больше привыкли к Достоевскому: человек не родится для счастья, человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием. А житейское счастье — это для обывателей, потому как им трагизм мира недоступен. Вон Вертер страдал, что филистеры могут быть счастливыми, а он нет, ибо чувствует глубоко. А Чернышевский прямиком сказал: а давайте за нормального человека заступимся. Ему для счастья не сказать, чтобы много надо-то.
Помнишь, как Верочка боролась, чтобы мамаша в ее дверь стучала, прежде чем войти? А с каким удовольствием Чернышевский разрешает героине чувствовать себя счастливой от вкусных сливок или хороших ботинок, будь она трижды идейный человек и борец за права?»
Мы немного молчим, видимо, пытаясь представить себе себя — неслыханно счастливыми по праву рождения. Рядом под симпатично подстриженным деревом драный кот протяжно мяукает, не в силах вынести простодушную трескотню синиц на нижней ветке.
Грачева оглядывает безупречную Новую Голландию, словно в поисках предмета, который помог бы объяснить, как устроено незаслуженное счастье. Но такого предмета нет. И Грачева с облегчением смеется своим тонким смехом, чуть обгоняет меня и, глядя прямо в глаза, спрашивает: «Вот помнишь, как в „Что делать?"? В некотором отношении это — мой любимый роман. Человек должен быть счастлив просто по праву рождения. Мы как-то больше привыкли к Достоевскому: человек не родится для счастья, человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием. А житейское счастье — это для обывателей, потому как им трагизм мира недоступен. Вон Вертер страдал, что филистеры могут быть счастливыми, а он нет, ибо чувствует глубоко. А Чернышевский прямиком сказал: а давайте за нормального человека заступимся. Ему для счастья не сказать, чтобы много надо-то.
Помнишь, как Верочка боролась, чтобы мамаша в ее дверь стучала, прежде чем войти? А с каким удовольствием Чернышевский разрешает героине чувствовать себя счастливой от вкусных сливок или хороших ботинок, будь она трижды идейный человек и борец за права?»
Мы немного молчим, видимо, пытаясь представить себе себя — неслыханно счастливыми по праву рождения. Рядом под симпатично подстриженным деревом драный кот протяжно мяукает, не в силах вынести простодушную трескотню синиц на нижней ветке.
— Ты замечаешь, как то, ради чего ты пришла в благотворительность, все же меняется в лучшую сторону?
— С большим скрипом. Законы меняются быстрее, чем люди. Инструкция Минздрава уже несколько лет говорит: можно запросто сделать так, чтобы люди не терпели боль. А люди, от которых это зависит, говорят: да ладно, все терпели, и эти потерпят.
— Как специалист по русской литературе можешь объяснить — откуда эта нелюбовь русских людей друг к другу?
— Не нелюбовь. Непонимание, недопонимание, что человек — ценность. Любой. Это не русское, это советское, мне кажется. В советской системе ценностей была идея — государство, высшие какие-то цели. А человек был средством обеспечить это все. Квинтэссенция советской идеологии — это не «Миру — мир» или «Пятилетку в четыре года». Это — «бабы новых нарожают». И «вас много, а я одна». И «вы кто такой».
Жена одного нашего подопечного, пожилого водителя скорой помощи из маленькой южной станицы, рассказала, что они к нам в фонд три раза приходили. Доходили до дверей, потом муж говорил: слушай, ну кто я такой, чтобы мне миллион рублей дали, столько детей болеет — разворачивались и уходили. Потом как-то врачи на них крепко наехали, и они дошли и даже вошли, но разговаривали, страшно извиняясь, что заболели и пришли побеспокоить. Вот что это такое? Наших родителей воспитывали так: «Потерпи», а их — их родители. Но почему мы должны терпеть? Все эти роды, зубы, да что угодно: терпи. И рот закрой.
— Каким образом получилось, что ты — другая?
— Да полно других вообще-то. У меня-то понятно: великая русская литература, несколько фантастических людей рядом, очень важный для меня момент крещения. Но вначале — родители.
— С большим скрипом. Законы меняются быстрее, чем люди. Инструкция Минздрава уже несколько лет говорит: можно запросто сделать так, чтобы люди не терпели боль. А люди, от которых это зависит, говорят: да ладно, все терпели, и эти потерпят.
— Как специалист по русской литературе можешь объяснить — откуда эта нелюбовь русских людей друг к другу?
— Не нелюбовь. Непонимание, недопонимание, что человек — ценность. Любой. Это не русское, это советское, мне кажется. В советской системе ценностей была идея — государство, высшие какие-то цели. А человек был средством обеспечить это все. Квинтэссенция советской идеологии — это не «Миру — мир» или «Пятилетку в четыре года». Это — «бабы новых нарожают». И «вас много, а я одна». И «вы кто такой».
Жена одного нашего подопечного, пожилого водителя скорой помощи из маленькой южной станицы, рассказала, что они к нам в фонд три раза приходили. Доходили до дверей, потом муж говорил: слушай, ну кто я такой, чтобы мне миллион рублей дали, столько детей болеет — разворачивались и уходили. Потом как-то врачи на них крепко наехали, и они дошли и даже вошли, но разговаривали, страшно извиняясь, что заболели и пришли побеспокоить. Вот что это такое? Наших родителей воспитывали так: «Потерпи», а их — их родители. Но почему мы должны терпеть? Все эти роды, зубы, да что угодно: терпи. И рот закрой.
— Каким образом получилось, что ты — другая?
— Да полно других вообще-то. У меня-то понятно: великая русская литература, несколько фантастических людей рядом, очень важный для меня момент крещения. Но вначале — родители.
«Просветители бы сейчас все огребли по полной».
Грачева рассказывает, как устроена совесть
Грачева рассказывает, как устроена совесть
Отец Грачевой — потомок переселенцев по Столыпинской реформе. У прапрадеда была большая семья и огромное хозяйство в Сибири: мельница, кони, коровы. Разумеется, в советское время Грачевых раскулачили. Но из Сибири высылать особо было некуда. Просто отняли землю, мельницу, коров, лошадей, урожай, всё. Никто из этого поколения Грачевых после случившегося никогда не работал на советскую власть.
«Это были настоящие независимые сибирские крестьяне, — рассказывает Грачева. — И мой папа такой же был независимый всю жизнь: ругался со всем начальством и был фанатиком хорошо сделанной работы. Когда что-то делали криво и косо, страдал и кидался переделывать. И совесть у него тоже, видимо, от этих самых независимых сибирских людей происходила».
— У тебя, видимо, тоже совесть? Почему ты, как и многие другие люди российской благотворительности, ходишь на оппозиционные митинги?
— Я бы не назвала эти митинги оппозиционными в прямом смысле слова. Наша повестка не политическая, а гуманитарная: прекращение пыток не должно зависеть от того, какое правительство у власти; чтение имен у Соловецкого камня и признание сталинских репрессий убийствами, а не эффективным менеджментом, не должны зависеть от того, какая партия победила на выборах. Протест против войны — общечеловеческая повестка, не нами придуманная. В конце концов, даже на митинг за свободные выборы мы приходим не за и не против конкретных людей.
— Выборы — это политическая повестка, Лена.
— Хорошо, пусть политическая. Но это же про то, что человеку хочется нормально выбирать. Что в этом оппозиционного? Просто мы живем в такое время, что любой честно и остро поставленный вопрос оказывается оппозиционным.
— Важны ли тебе политические взгляды жертвователей фонда?
— Я понятия не имею, кто те люди, которые переводят деньги в фонд. Может, среди них и людоеды есть.
— Ну, а если Гитлер?
— Тут, скорее речь о ситуации, когда условный Гитлер что-то от тебя хочет взамен. Слава Богу, в фонде я не одна принимаю такие решения. Не знаю. Может, любые деньги возьму. А может, не возьму, если взамен захотят чего-то, что принесет вред фонду.
— А что может принести вред фонду? Чего ты не можешь себе позволить?
— К счастью, меня пока никто не ставил перед таким выбором. Знаешь, мне хватает и того выбора, который нам приходится чуть не каждый день делать, когда мы кому-то отказываем. Каждый четверг в фонде собирается совещание: директора, отдел работы с подопечными, бухгалтерия, представитель клиники. Мы должны принять решение, какие заявки мы одобрим, какие отложим, а какие отклоним. Целая куча народу сидит и размазывает кашу по тарелке: вот деньги, что у нас есть, вот — те, что мы планируем собрать, вот обращения и заявки от врачей. Например, закончилось клиническое исследование по ниволумабу, в нем было 132 человека. Теперь они в одночасье перестанут получать от производителя бесплатное лекарство, которое им помогало. Но у нас нет денег, чтобы купить этот препарат всем нуждающимся.
— Скольким можете?
— Тридцати. И мы взяли тридцать пациентов.
— Что сказали остальным?
— Сказали как есть. А до этого долго разбирались с каждым случаем. Сначала врачи написали, кого можно вовсе снять с препарата, так как эффект получен, кого перевести на другую терапию, кому-то дозировку снизить. Потом мы со своей стороны смотрели, у кого какие родственники работают, кто хотя бы кредит взять сможет, кому помогут работодатели. Но необходимость такого выбора — абсолютно разрушительная вещь и для врачей, и для нас.
— Сколько денег нужно фонду AdVita, чтобы закрыть все существующие сейчас дыры?
— Сейчас мы собираем от 10 до 20 миллионов рублей в месяц. Надо как минимум в два раза больше. А когда клиника [имени Горбачевой] расширяется — например, в прошлом году было присоединено два новых отделения, — вообще непонятно, что делать. Мы же не можем внезапно начать в два раза больше денег собирать.
— Но клиника — государственная, почему два новых отделения сразу зона вашей ответственности?
— Госзакупок не хватает никогда. И по оборудованию, и по лекарствам. Есть вещи, которые финансируются на 10%, есть которые на 80%. На 100% не финансируется ничего.
— AdVita собирает деньги, кажется, всеми возможными способами. Ты часто читаешь лекции по литературе, иногда в вашу пользу проводят уроки и тренинги. Анимационный фильм «Летающие звери» — мой любимый — был тоже частью вашего фандрайза?
— Да. Денег зверики приносили не сказать, чтобы много, несколько процентов от общего бюджета. Но это было еще и продвижение наших идей и наших ценностей.
— Как это работало?
— Рабочая схема была такая: создается мультфильм, а все средства от продажи лицензии, проката, мероприятий, связанных с «Летающими зверями», идут в фонд AdVita. Сейчас в YouTube у «Зверей» около 700 миллионов просмотров, и это вполне ощутимые миллионы рублей, которые мы получаем от прокатчиков.
— На какие деньги создавался сам сериал?
— В первый год студия получила грант от Госкино. А во второй уже не получила. Тогда встал вопрос о закрытии проекта, и наш спаситель, Капитан Немо [крупный анонимный благотворитель, на протяжении полутора десятков лет помогавший некоторым российским фондам], решил, что он готов продолжить финансирование сериала. А потом у Капитана случились финансовые трудности, и производство сериала пришлось остановить. Мы обращались и в Фонд кино, и в Минкульт — глухо. Новый серий нет и, видимо, не будет.
— В титрах ты значишься продюсером. А кому принадлежит идея сериала?
— Главный вдохновитель звериков — режиссер Миша Сафронов, человек, который отторгает зло и агрессию в любых проявлениях всеми своими чакрами, как убежденный буддист. Это во многом его мир — там много любви и сочувствия — и нет агрессии. Когда писались первые сценарии, Мишу все ругали, что не хватает напряжения, нет конфликта. Но конфликты там, конечно, есть, самые что ни на есть человеческие: кто-то кого-то недопонял, не услышал, по настроению не совпали, все такое тонкое и нежное. А злодеев нет. И не надо. Нам нравится.
— Сколько нужно денег, чтобы сериал продолжился?
— Бюджет студии был около 20 миллионов рублей в год. На эти деньги создавалось три сериала — «Звери», «Машинки», «Коля и Оля», еще три были в запуске. Все это теперь остановилось.
— Горюешь?
— Да. Обидно, что не получилось сохранить жизнь зверикам. Вообще обидно, когда не успеваешь, не получается, не хватает сил. Знаешь, моя мама до сих пор не может понять, что у меня за работа, как можно на ней убиваться с утра до вечера, из года в год.
«Это были настоящие независимые сибирские крестьяне, — рассказывает Грачева. — И мой папа такой же был независимый всю жизнь: ругался со всем начальством и был фанатиком хорошо сделанной работы. Когда что-то делали криво и косо, страдал и кидался переделывать. И совесть у него тоже, видимо, от этих самых независимых сибирских людей происходила».
— У тебя, видимо, тоже совесть? Почему ты, как и многие другие люди российской благотворительности, ходишь на оппозиционные митинги?
— Я бы не назвала эти митинги оппозиционными в прямом смысле слова. Наша повестка не политическая, а гуманитарная: прекращение пыток не должно зависеть от того, какое правительство у власти; чтение имен у Соловецкого камня и признание сталинских репрессий убийствами, а не эффективным менеджментом, не должны зависеть от того, какая партия победила на выборах. Протест против войны — общечеловеческая повестка, не нами придуманная. В конце концов, даже на митинг за свободные выборы мы приходим не за и не против конкретных людей.
— Выборы — это политическая повестка, Лена.
— Хорошо, пусть политическая. Но это же про то, что человеку хочется нормально выбирать. Что в этом оппозиционного? Просто мы живем в такое время, что любой честно и остро поставленный вопрос оказывается оппозиционным.
— Важны ли тебе политические взгляды жертвователей фонда?
— Я понятия не имею, кто те люди, которые переводят деньги в фонд. Может, среди них и людоеды есть.
— Ну, а если Гитлер?
— Тут, скорее речь о ситуации, когда условный Гитлер что-то от тебя хочет взамен. Слава Богу, в фонде я не одна принимаю такие решения. Не знаю. Может, любые деньги возьму. А может, не возьму, если взамен захотят чего-то, что принесет вред фонду.
— А что может принести вред фонду? Чего ты не можешь себе позволить?
— К счастью, меня пока никто не ставил перед таким выбором. Знаешь, мне хватает и того выбора, который нам приходится чуть не каждый день делать, когда мы кому-то отказываем. Каждый четверг в фонде собирается совещание: директора, отдел работы с подопечными, бухгалтерия, представитель клиники. Мы должны принять решение, какие заявки мы одобрим, какие отложим, а какие отклоним. Целая куча народу сидит и размазывает кашу по тарелке: вот деньги, что у нас есть, вот — те, что мы планируем собрать, вот обращения и заявки от врачей. Например, закончилось клиническое исследование по ниволумабу, в нем было 132 человека. Теперь они в одночасье перестанут получать от производителя бесплатное лекарство, которое им помогало. Но у нас нет денег, чтобы купить этот препарат всем нуждающимся.
— Скольким можете?
— Тридцати. И мы взяли тридцать пациентов.
— Что сказали остальным?
— Сказали как есть. А до этого долго разбирались с каждым случаем. Сначала врачи написали, кого можно вовсе снять с препарата, так как эффект получен, кого перевести на другую терапию, кому-то дозировку снизить. Потом мы со своей стороны смотрели, у кого какие родственники работают, кто хотя бы кредит взять сможет, кому помогут работодатели. Но необходимость такого выбора — абсолютно разрушительная вещь и для врачей, и для нас.
— Сколько денег нужно фонду AdVita, чтобы закрыть все существующие сейчас дыры?
— Сейчас мы собираем от 10 до 20 миллионов рублей в месяц. Надо как минимум в два раза больше. А когда клиника [имени Горбачевой] расширяется — например, в прошлом году было присоединено два новых отделения, — вообще непонятно, что делать. Мы же не можем внезапно начать в два раза больше денег собирать.
— Но клиника — государственная, почему два новых отделения сразу зона вашей ответственности?
— Госзакупок не хватает никогда. И по оборудованию, и по лекарствам. Есть вещи, которые финансируются на 10%, есть которые на 80%. На 100% не финансируется ничего.
— AdVita собирает деньги, кажется, всеми возможными способами. Ты часто читаешь лекции по литературе, иногда в вашу пользу проводят уроки и тренинги. Анимационный фильм «Летающие звери» — мой любимый — был тоже частью вашего фандрайза?
— Да. Денег зверики приносили не сказать, чтобы много, несколько процентов от общего бюджета. Но это было еще и продвижение наших идей и наших ценностей.
— Как это работало?
— Рабочая схема была такая: создается мультфильм, а все средства от продажи лицензии, проката, мероприятий, связанных с «Летающими зверями», идут в фонд AdVita. Сейчас в YouTube у «Зверей» около 700 миллионов просмотров, и это вполне ощутимые миллионы рублей, которые мы получаем от прокатчиков.
— На какие деньги создавался сам сериал?
— В первый год студия получила грант от Госкино. А во второй уже не получила. Тогда встал вопрос о закрытии проекта, и наш спаситель, Капитан Немо [крупный анонимный благотворитель, на протяжении полутора десятков лет помогавший некоторым российским фондам], решил, что он готов продолжить финансирование сериала. А потом у Капитана случились финансовые трудности, и производство сериала пришлось остановить. Мы обращались и в Фонд кино, и в Минкульт — глухо. Новый серий нет и, видимо, не будет.
— В титрах ты значишься продюсером. А кому принадлежит идея сериала?
— Главный вдохновитель звериков — режиссер Миша Сафронов, человек, который отторгает зло и агрессию в любых проявлениях всеми своими чакрами, как убежденный буддист. Это во многом его мир — там много любви и сочувствия — и нет агрессии. Когда писались первые сценарии, Мишу все ругали, что не хватает напряжения, нет конфликта. Но конфликты там, конечно, есть, самые что ни на есть человеческие: кто-то кого-то недопонял, не услышал, по настроению не совпали, все такое тонкое и нежное. А злодеев нет. И не надо. Нам нравится.
— Сколько нужно денег, чтобы сериал продолжился?
— Бюджет студии был около 20 миллионов рублей в год. На эти деньги создавалось три сериала — «Звери», «Машинки», «Коля и Оля», еще три были в запуске. Все это теперь остановилось.
— Горюешь?
— Да. Обидно, что не получилось сохранить жизнь зверикам. Вообще обидно, когда не успеваешь, не получается, не хватает сил. Знаешь, моя мама до сих пор не может понять, что у меня за работа, как можно на ней убиваться с утра до вечера, из года в год.
«Дед ничего не ответил, но сломал вилку».
Грачева говорит о семейной любви к городу
Грачева говорит о семейной любви к городу
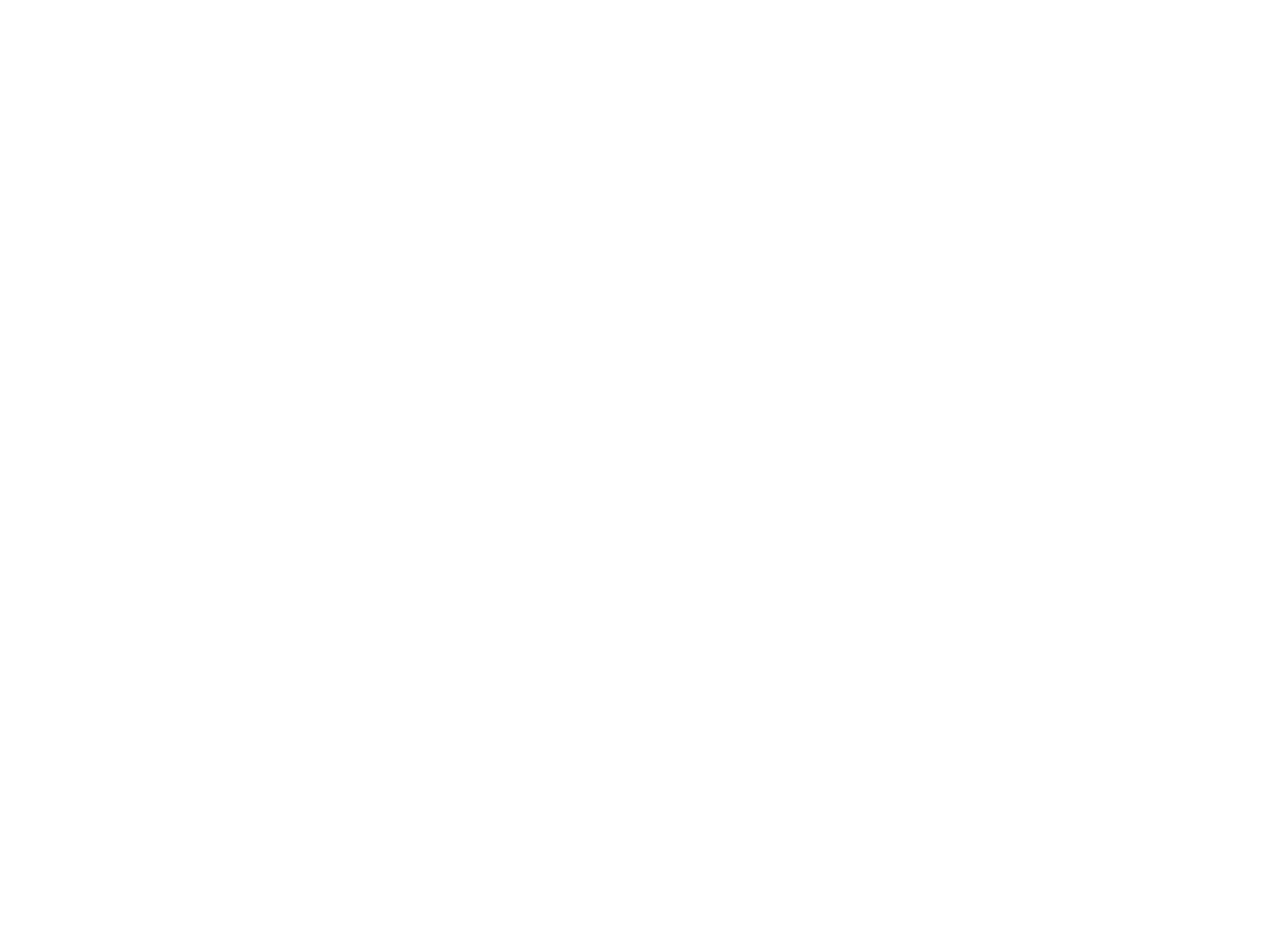
Мама с родителями. Перед войной
Мама Грачевой родилась в Ленинграде и до семи лет жила там с родителями и младшим братом. 18 июня 1941 года в семье родился третий ребенок. Помочь с ним приехала бабушка Пелагея Яковлевна из Балаково. А 22 июня началась война.
Дед Грачевой работал на танковом заводе мастером горячего цеха и не подлежал призыву — заводской грохот у многих отнимал слух. Вместе с заводом дед эвакуировался в Омск, но семью с собой взять не мог. Когда ленинградские власти начали собирать для отправки из города одних детей, Пелагея Яковлевна сказала: «Детей никому не отдаем, едем только все вместе», — и еще, по сути, до начала официальной эвакуации они уехали в Балаково. С собой везли швейную машинку «Зингер».
В Балаково у прабабушки и прадедушки был свой дом и ручная мельница. Чтобы прокормиться шили, брали вещи на переделку и перекраску, на заказ мололи муку ручной мельницей, продавали и вещи, и муку. Остатки муки доставались семье, из них пекли хлеб. «Мама рассказывала, что, когда пленных немцев, обмороженных и голодных, стали гнать через Балаково, прабабушка Пелагея Яковлевна выносила им сухари, — рассказывает Грачева. — Она называла их „солдатики". Представляешь, как бомбили эту приволжскую полосу, сколько они натерпелись от немцев? Но когда перед ней оказывались эти обмороженные пацаны, они для нее были просто солдатики. Несчастные, голодные».
Дед Грачевой работал на танковом заводе мастером горячего цеха и не подлежал призыву — заводской грохот у многих отнимал слух. Вместе с заводом дед эвакуировался в Омск, но семью с собой взять не мог. Когда ленинградские власти начали собирать для отправки из города одних детей, Пелагея Яковлевна сказала: «Детей никому не отдаем, едем только все вместе», — и еще, по сути, до начала официальной эвакуации они уехали в Балаково. С собой везли швейную машинку «Зингер».
В Балаково у прабабушки и прадедушки был свой дом и ручная мельница. Чтобы прокормиться шили, брали вещи на переделку и перекраску, на заказ мололи муку ручной мельницей, продавали и вещи, и муку. Остатки муки доставались семье, из них пекли хлеб. «Мама рассказывала, что, когда пленных немцев, обмороженных и голодных, стали гнать через Балаково, прабабушка Пелагея Яковлевна выносила им сухари, — рассказывает Грачева. — Она называла их „солдатики". Представляешь, как бомбили эту приволжскую полосу, сколько они натерпелись от немцев? Но когда перед ней оказывались эти обмороженные пацаны, они для нее были просто солдатики. Несчастные, голодные».
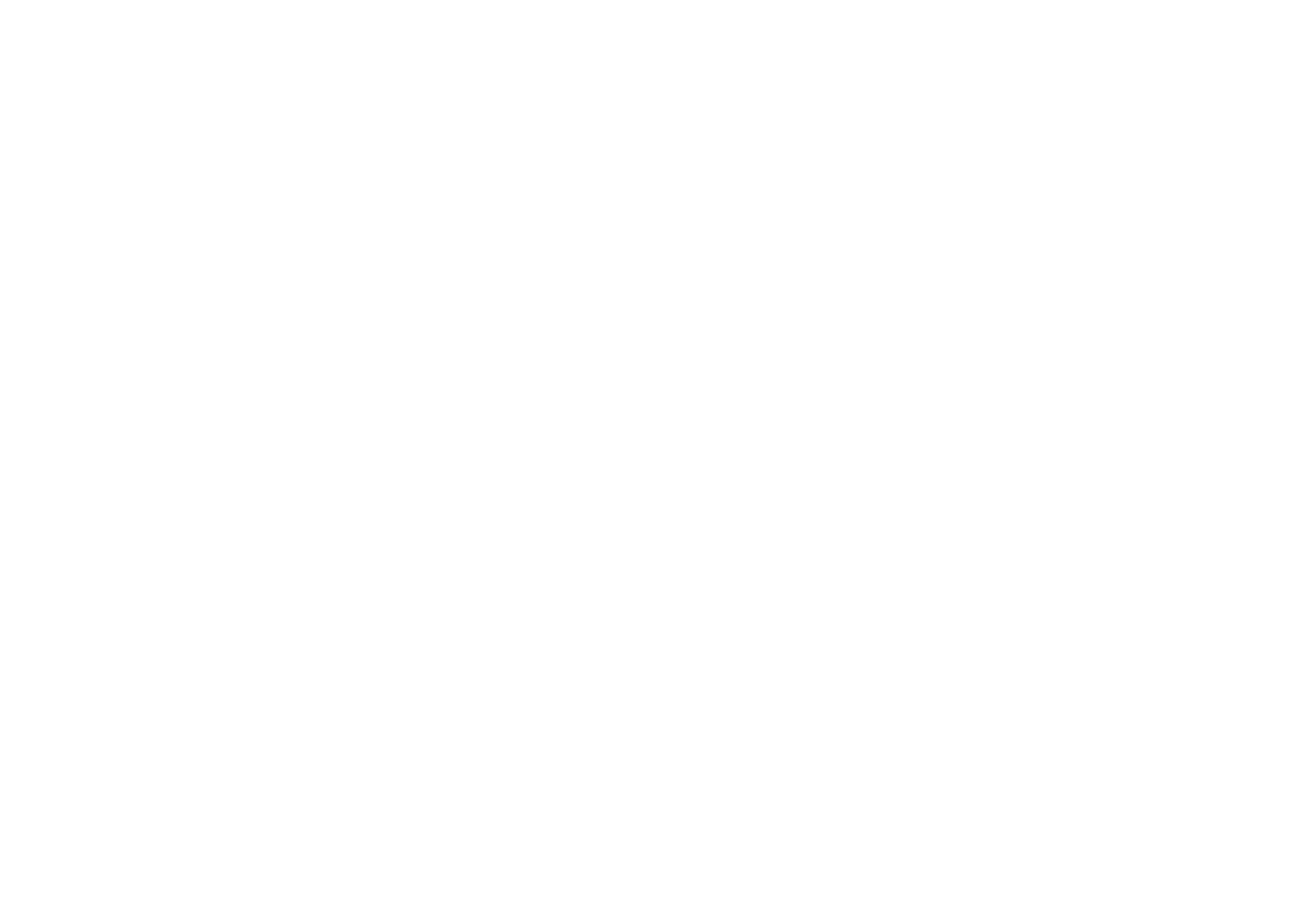
1957 год, родители в ЗАГСе
— Этот личный, очень болезненный, но живой опыт войны никак ведь не совместим с нынешней пропагандой, вот со всем этим «можем повторить»
— Для меня карнавализация Великой Отечественной войны и полный разрыв сконструированной «памяти» с реальной памятью значит, что непосредственная связь с опытом войны утрачена. Детские военные костюмчики, наклейки на машины, полевые кухни с кашей и народные гулянки в день блокадной памяти — это и есть полное непонимание, что за опыт ты собираешься повторить. Это и плохо, и хорошо.
— Про «плохо» понятно. А хорошо — почему?
— Хорошо, потому что, наверное, любая травма проходит эти этапы. Травма проходит. Войны никто не помнит и в ядерную пыль по-настоящему не верит, что бы там в телевизоре ни говорили. Это хорошо. Хотя война в Донбассе на фоне этого всего выглядит придуманной. А она ведь настоящая.
В 1943-м году, когда фронт совсем подошел к Волге, семья мамы Грачевой получила разрешение переехать в Омск. Бабушка и трое ее маленьких детей не могли, несмотря на наличие ордера на эвакуацию и посадочных талонов, сесть в поезд, забитый людьми. Кончилось тем, что их всех, по одному, в окно вагона засунул какой-то человек: сначала бабушку, потом троих детей, потом баул с машинкой «Зингер» и едой, — и бабушка отдала ему буханку хлеба. Про него в семье тоже говорили «солдатик». В Омске им было негде жить. Дедушка часто ночевал на заводе, бабушку с тремя детьми сначала подселили к омской семье в маленький деревянный домик на берегу Иртыша, а потом перевели в барак рядом с железной дорогой. Комнату в коммуналке семья получит уже после войны.
— Они остались в Омске после войны? Не вернулись в Ленинград?
— Завод остался в Омске, дети были маленькие, квартира в Ленинграде была занята, возвращаться было некуда. Но Ленинград — это самое важное слово было в нашей семье. Его повторяли как заклинание, олицетворявшее самую главную, главнее всех главных — и оттого несбыточную мечту. Я однажды спросила дедушку: «Почему вы не вернулись в Ленинград?» Дед ничего не ответил, но сломал вилку, которую держал в руках. Настолько все это больно было. Мама первой из всей семьи попыталась вернуться: она поехала в Ленинград учиться в Политехнический институт. И, сойдя с поезда, заплакала — такая была любовь.
— Но не осталась?
— Нет. Когда она уже училась на пятом курсе, приехала из Ленинграда в Омск к родителям на каникулы. И на кухне коммунальной квартиры познакомилась с папой — он пришел в гости к соседям. Все случилось стремительно: через неделю мама вернулась в Ленинград учиться, через месяц он приехал за ней в Ленинград, еще через неделю они поженились. Мама поехала к папе в Омск, и там родились мы с сестрой. У меня, кстати, потом получилось похоже: я вышла замуж за человека, с которым была знакома, в общей сложности, неделю. Родители были в обмороке. «На себя посмотрите», — строго сказала я, и они рассмеялись. Они вообще очень смешливые. Особенно папа. Смеялись все время.
— Как ты?
Грачева смеется.
— Для меня карнавализация Великой Отечественной войны и полный разрыв сконструированной «памяти» с реальной памятью значит, что непосредственная связь с опытом войны утрачена. Детские военные костюмчики, наклейки на машины, полевые кухни с кашей и народные гулянки в день блокадной памяти — это и есть полное непонимание, что за опыт ты собираешься повторить. Это и плохо, и хорошо.
— Про «плохо» понятно. А хорошо — почему?
— Хорошо, потому что, наверное, любая травма проходит эти этапы. Травма проходит. Войны никто не помнит и в ядерную пыль по-настоящему не верит, что бы там в телевизоре ни говорили. Это хорошо. Хотя война в Донбассе на фоне этого всего выглядит придуманной. А она ведь настоящая.
В 1943-м году, когда фронт совсем подошел к Волге, семья мамы Грачевой получила разрешение переехать в Омск. Бабушка и трое ее маленьких детей не могли, несмотря на наличие ордера на эвакуацию и посадочных талонов, сесть в поезд, забитый людьми. Кончилось тем, что их всех, по одному, в окно вагона засунул какой-то человек: сначала бабушку, потом троих детей, потом баул с машинкой «Зингер» и едой, — и бабушка отдала ему буханку хлеба. Про него в семье тоже говорили «солдатик». В Омске им было негде жить. Дедушка часто ночевал на заводе, бабушку с тремя детьми сначала подселили к омской семье в маленький деревянный домик на берегу Иртыша, а потом перевели в барак рядом с железной дорогой. Комнату в коммуналке семья получит уже после войны.
— Они остались в Омске после войны? Не вернулись в Ленинград?
— Завод остался в Омске, дети были маленькие, квартира в Ленинграде была занята, возвращаться было некуда. Но Ленинград — это самое важное слово было в нашей семье. Его повторяли как заклинание, олицетворявшее самую главную, главнее всех главных — и оттого несбыточную мечту. Я однажды спросила дедушку: «Почему вы не вернулись в Ленинград?» Дед ничего не ответил, но сломал вилку, которую держал в руках. Настолько все это больно было. Мама первой из всей семьи попыталась вернуться: она поехала в Ленинград учиться в Политехнический институт. И, сойдя с поезда, заплакала — такая была любовь.
— Но не осталась?
— Нет. Когда она уже училась на пятом курсе, приехала из Ленинграда в Омск к родителям на каникулы. И на кухне коммунальной квартиры познакомилась с папой — он пришел в гости к соседям. Все случилось стремительно: через неделю мама вернулась в Ленинград учиться, через месяц он приехал за ней в Ленинград, еще через неделю они поженились. Мама поехала к папе в Омск, и там родились мы с сестрой. У меня, кстати, потом получилось похоже: я вышла замуж за человека, с которым была знакома, в общей сложности, неделю. Родители были в обмороке. «На себя посмотрите», — строго сказала я, и они рассмеялись. Они вообще очень смешливые. Особенно папа. Смеялись все время.
— Как ты?
Грачева смеется.
«В Ленинграде со мной случилось чудо».
Грачева рассказывает, как нашла своих
Грачева рассказывает, как нашла своих
Семья Грачевой жила в омском городке нефтяников в окружении заводов — нефтеперерабатывающего завода и его дочерних заводиков: сажного, шинного, синтетического каучука, пластмасс, всего 11 штук. И случилось то, что, в общем-то, часто случается в промзоне: сестра Грачевой заболела тяжелой формой бронхиальной астмы. Поэтому, когда в Литве стали строить Мажейкский нефтезавод, отец кинулся в ноги начальству и попросил перевести его туда. «Это было спасением, — говорит Грачева, — там сестре сразу стало лучше, легче дышать. Мы переехали в Литву, и там я закончила школу».
— Был контраст между тем, как жил омский нефтегородок, и как — литовский?
— Конечно. Во-первых, в Литве была еда, а в Омске с этим уже начинались проблемы. И какие-то рубашечки, ботиночки, которые можно было купить, а не добывать. А во-вторых, там была природа и было море. Первое, что с нами случилось, когда отец встретил нас в аэропорту в Риге, — отвез в Палангу, мы там жили в бельевом сарайчике за занавесочкой. Это было такое счастье — другой воздух, другая среда. Сестра моя там и осталась: этот климат подошел ей идеально, гораздо лучше петербургского.
— А ты?
— Мне все нравилось. Но родители всегда хотели вернуться в Ленинград. И, когда нефтезавод в Литве уже был построен и стало понятно, что не просто можно, но даже нужно ехать еще куда-то, папа получил работу в Тосно. Это Ленинградская область.
— Дедушка обрадовался?
— Дедушка умер через несколько дней после переезда, у него был рак. Он знал, он был счастлив совершенно, что мы переехали так близко к Ленинграду. Но увидеть его не успел.
— Но ты получила возможность жить в городе, куда твоя семья всю жизнь мечтала вернуться.
— Я приехала в 1981-м году поступать в Ленинградский университет на истфак. И не поступила. Честно сказать, это было предсказуемо: я была просто сумасшедшая провинциальная девочка, которая без конца читала книжки. Но в Ленинграде со мной случилось чудо. Когда я пошла подавать заявление, мне объяснили, что обязательно нужны репетиторы. Я оторвала телефон с объявления на столбе рядом с истфаком. И оказалось, что именно это объявление принадлежало той части ленинградской репетиторской мафии, которая состояла не из школьных учительниц, а из ученых и поэтов.
Позвонив по телефону, я попала к Сурену Тахтаджяну, ученому, историку-классику, который отвечал в этой мафии за преподавание древней русской истории. Он меня познакомил со Львом Лурье, который преподавал новую русскую историю, и Виктором Кривулиным, который преподавал литературу. Ты можешь себе представить? Весь культурный Ленинград упал на меня и слегка расплющил.
Все эти профессорские квартиры, бесконечные шкафы с дореволюционными книжками — я вообще раньше никогда не видела ни этих шрифтов, ни этих переплетов, ни старой орфографии. Кривулин жил в большой коммуналке, где у него было две комнаты. Там тоже было много книг, но еще там бывало людей: поэтов, художников, музыкантов. После нашего первого занятия с Виктором Борисовичем — как сейчас помню, Птицу-Тройку обсуждали — он оставил меня пить чай (все эти прекрасные люди всегда меня кормили). Перед уходом вручил мне том Тютчева в дореволюционном издании, Платонова, какой-то самиздат, кажется, выпуск «Обводного канала».
Он видел меня первый раз в жизни и все это дал, понимаешь? И вот я с этими книжками спустилась по лестнице на один пролет, у меня подогнулись ноги, и я села на подоконник. Сижу и понимаю, что нашла, наконец, своих — с которыми можно говорить про книжки и не выглядеть чокнутой.
— Ты начала читать прямо на подоконнике?
— Я не могла, у меня буквы прыгали перед глазами. Просто не могла встать и пойти, сидела как парализованная. Надо сказать, что все преподаватели, с которыми я встретилась благодаря счастливому телефону на столбе, потрясающе относились к ученикам. Что Витя [Кривулин], что Лев [Лурье] очень уважали детей, которые хотели учиться. Ни разу в жизни никакого пресловутого петербургского снобизма по отношению к провинциалам я там не почувствовала. Мы толпами паслись в их домах и библиотеках. В какой-то момент они вообще перестали с меня деньги брать за занятия. И если что в городе происходило, говорили, куда идти и что смотреть — за тот год, что я провела в Ленинграде, я чего только не видела. Не знаю, кем бы я стала, если бы на другом конце телефона из объявления оказалась бы просто хорошая школьная учительница, умеющая классно натаскивать абитуриентов.
— Но на истфак ты не попала.
— Да, не добрала баллов. И Лева с Витей сказали: нечего тебе делать на истфаке, ты филолог, езжай-ка ты в Тарту. Я, конечно, не хотела никуда из Ленинграда уезжать, я же только приехала! Но они оказались на редкость единодушны в том, что я ничего не понимаю и что в Тартуском университете мне самое место.
— Был контраст между тем, как жил омский нефтегородок, и как — литовский?
— Конечно. Во-первых, в Литве была еда, а в Омске с этим уже начинались проблемы. И какие-то рубашечки, ботиночки, которые можно было купить, а не добывать. А во-вторых, там была природа и было море. Первое, что с нами случилось, когда отец встретил нас в аэропорту в Риге, — отвез в Палангу, мы там жили в бельевом сарайчике за занавесочкой. Это было такое счастье — другой воздух, другая среда. Сестра моя там и осталась: этот климат подошел ей идеально, гораздо лучше петербургского.
— А ты?
— Мне все нравилось. Но родители всегда хотели вернуться в Ленинград. И, когда нефтезавод в Литве уже был построен и стало понятно, что не просто можно, но даже нужно ехать еще куда-то, папа получил работу в Тосно. Это Ленинградская область.
— Дедушка обрадовался?
— Дедушка умер через несколько дней после переезда, у него был рак. Он знал, он был счастлив совершенно, что мы переехали так близко к Ленинграду. Но увидеть его не успел.
— Но ты получила возможность жить в городе, куда твоя семья всю жизнь мечтала вернуться.
— Я приехала в 1981-м году поступать в Ленинградский университет на истфак. И не поступила. Честно сказать, это было предсказуемо: я была просто сумасшедшая провинциальная девочка, которая без конца читала книжки. Но в Ленинграде со мной случилось чудо. Когда я пошла подавать заявление, мне объяснили, что обязательно нужны репетиторы. Я оторвала телефон с объявления на столбе рядом с истфаком. И оказалось, что именно это объявление принадлежало той части ленинградской репетиторской мафии, которая состояла не из школьных учительниц, а из ученых и поэтов.
Позвонив по телефону, я попала к Сурену Тахтаджяну, ученому, историку-классику, который отвечал в этой мафии за преподавание древней русской истории. Он меня познакомил со Львом Лурье, который преподавал новую русскую историю, и Виктором Кривулиным, который преподавал литературу. Ты можешь себе представить? Весь культурный Ленинград упал на меня и слегка расплющил.
Все эти профессорские квартиры, бесконечные шкафы с дореволюционными книжками — я вообще раньше никогда не видела ни этих шрифтов, ни этих переплетов, ни старой орфографии. Кривулин жил в большой коммуналке, где у него было две комнаты. Там тоже было много книг, но еще там бывало людей: поэтов, художников, музыкантов. После нашего первого занятия с Виктором Борисовичем — как сейчас помню, Птицу-Тройку обсуждали — он оставил меня пить чай (все эти прекрасные люди всегда меня кормили). Перед уходом вручил мне том Тютчева в дореволюционном издании, Платонова, какой-то самиздат, кажется, выпуск «Обводного канала».
Он видел меня первый раз в жизни и все это дал, понимаешь? И вот я с этими книжками спустилась по лестнице на один пролет, у меня подогнулись ноги, и я села на подоконник. Сижу и понимаю, что нашла, наконец, своих — с которыми можно говорить про книжки и не выглядеть чокнутой.
— Ты начала читать прямо на подоконнике?
— Я не могла, у меня буквы прыгали перед глазами. Просто не могла встать и пойти, сидела как парализованная. Надо сказать, что все преподаватели, с которыми я встретилась благодаря счастливому телефону на столбе, потрясающе относились к ученикам. Что Витя [Кривулин], что Лев [Лурье] очень уважали детей, которые хотели учиться. Ни разу в жизни никакого пресловутого петербургского снобизма по отношению к провинциалам я там не почувствовала. Мы толпами паслись в их домах и библиотеках. В какой-то момент они вообще перестали с меня деньги брать за занятия. И если что в городе происходило, говорили, куда идти и что смотреть — за тот год, что я провела в Ленинграде, я чего только не видела. Не знаю, кем бы я стала, если бы на другом конце телефона из объявления оказалась бы просто хорошая школьная учительница, умеющая классно натаскивать абитуриентов.
— Но на истфак ты не попала.
— Да, не добрала баллов. И Лева с Витей сказали: нечего тебе делать на истфаке, ты филолог, езжай-ка ты в Тарту. Я, конечно, не хотела никуда из Ленинграда уезжать, я же только приехала! Но они оказались на редкость единодушны в том, что я ничего не понимаю и что в Тартуском университете мне самое место.
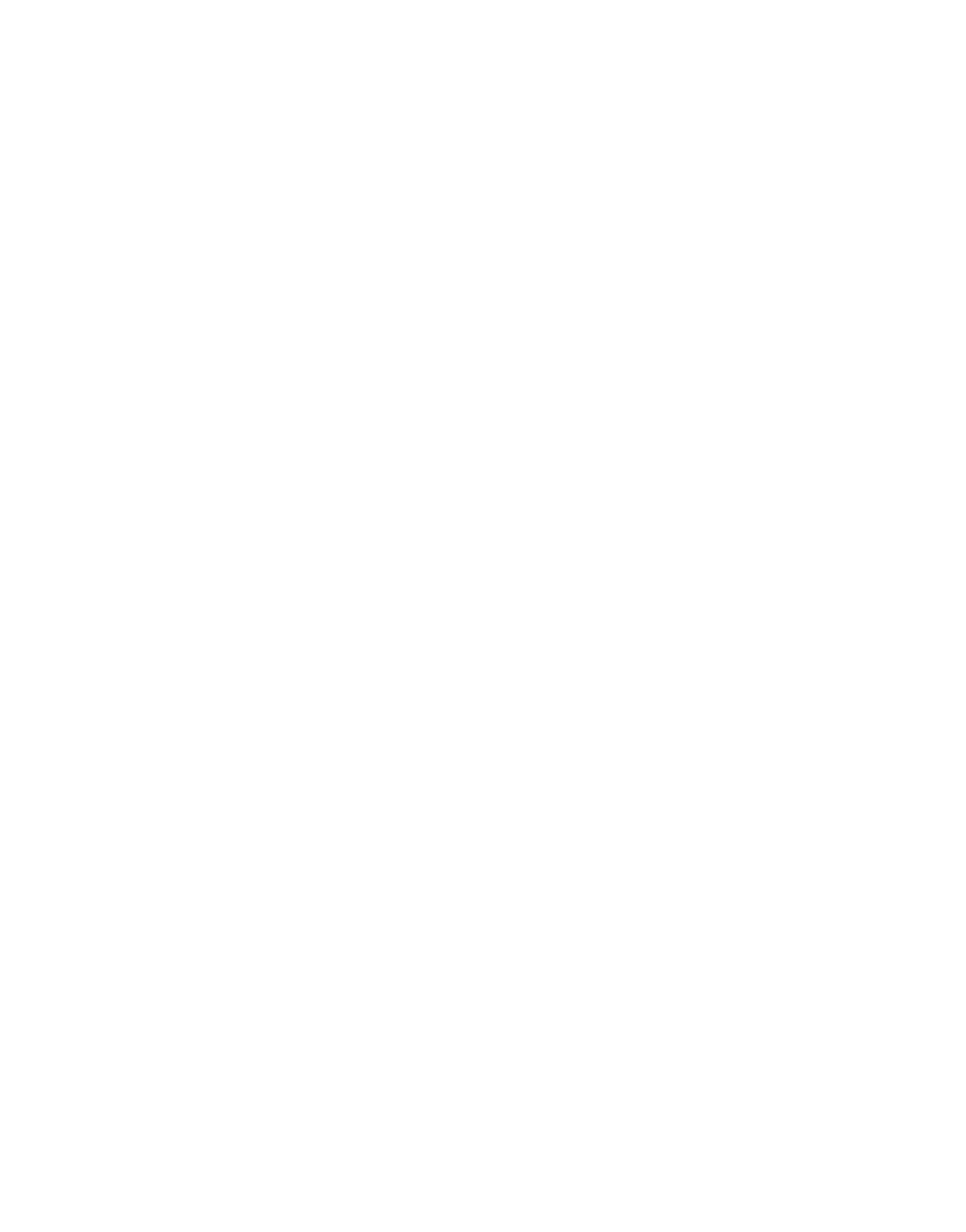
1981 год, работа в районной библиотеке
Господа ташкентцы.
Грачева рассказывает о Лотмане
Грачева рассказывает о Лотмане
— Тарту для человека из провинции — далекий и загадочный Хогвартс: там живут длиннобородые ученые, можно отыскать и прочесть все на свете книжки. И там — Лотман.
— Я-то ничего про это не знала. И тогда Витя Кривулин дал мне почитать биографию Пушкина, написанную Лотманом. Это до сих пор одна из самых моих любимых книжек, и теперь я уже понимаю, какая там тонкая грань между предметом исследования и исследователем.
— Каким оказался Тарту?
— Вообще это был мой рай: умные люди и полно книжек. И оценки ставят за то, что ты их читаешь! И, конечно же, я, любившая Пушкина вообще и «Капитанскую дочку» в частности, пошла на семинар к Юрию Михайловичу Лотману. Его лекции были невероятные совершенно, у меня до сих пор какие-то фразы в голове с его интонацией звучат, и стихи, которые он читал. Я все годы ходила еще к нему на спецкурсы, хотя формально они были только для четверокурсников. На его спецкурс собирались толпы, включая физиков, математиков, медиков.
Как научный руководитель он не возился с нами с утра до ночи, потому что был очень занят, но находить время для разговоров, если я заходила в тупик, всегда исхитрялся, сохраняя при этом отношение к студенту как к коллеге. Я была трудоголик и перфекционист, и мы жили душа в душу. Он мог оставить на полях работы: «О, боже!» или «Ну и словечко!», или еще какие-то язвительные замечания. Когда он начинал разговор, произнося ледяным голосом «Ангел мой», мы знали, что сейчас прилетит за ерунду или халтуру, — но он никогда не мешал уходить в ту сторону, которая вдруг тебе начинала казаться очень интересной, и у нас никогда не было жестких теоретических споров. Но я никогда и не претендовала на какие-то теоретические открытия, я всегда была позитивист и любила реальный комментарий.
— Как все это было вообще возможно в СССР? Тарту, свобода, Лотман, воспитывающий студентов.
— Лотман как-то сказал, что филфак Тартуского университета — это немножко «господа ташкентцы»: Ленинградский университет прислал специалистов «из столиц», они основали кафедру. Для эстонской партийной организации ленинградская была вроде как повыше рангом. С другой стороны, для Советского Союза Тарту был слишком уж периферийным местом, чтобы громить его так, как в свое время был разгромлен филфак Ленинградского университета, да и время было уже не такое кровожадное. Такая резервация, где даже обыски происходили не регулярно, а время от времени.
— Но происходили?
— Юрий Михайлович как-то рассказал, что прятал самиздат за верхней вьюшкой на печке. Библиотека у них с Зарой Григорьевной Минц [женой Лотмана] была огромная, все пространство четырехкомнатной квартиры было заставлено и заложено книгами снизу доверху. Сыскари открывали каждую книгу, шли снизу, и когда доходили до верхних полок, уже так уставали, что до коробок на антресолях и печках просто не добирались. Но когда я училась, никакого особого давления уже не было — в год нашего поступления, осенью, умер Брежнев, советской власти было уже не до далеких от столиц филологов.
— Перестройка пришла в Тарту сразу или с запозданием?
— Я поняла, что такое «перестройка», когда в нашем общежитии появилась проходная и врезали замок. До этого туда ходил, кто хотел. А касалось это меня напрямую: после второго курса мне пришлось выписаться из общежития и прописаться снова у родителей в Ленобласти, чтобы, выйдя замуж, не потерять ленинградскую прописку, потому что мой муж Леша был прописан в закрытом городе Челябинске-70. Из общежития я выписалась, но жить там продолжала, потому что свободные места были, а проходная не работала. И вот при Горбачеве стали пускать только по пропускам, и мне пришлось лазить через окна первого этажа. Слава Богу, продолжалось это недолго, как и любая попытка «навести порядок», но я поняла главное: Горбачев хочет, чтобы все правила и предписания, положенные по социалистическому закону, работали. Для меня эта проходная, рьяно внедренная и быстро опустевшая, так и осталась символом того времени: старое невозможно улучшить, это не работает. Мы были первым курсом университета, с которого всех мальчиков забрали в армию, и Афганистан советской власти мы прощать не собирались. На четвертом курсе еще и Чернобыль случился... В общем, я точно знала, что государство врет по-крупному, и никакой симпатии к нему не испытывала.
— С этими мыслями ты собиралась стать учителем?
— Вообще-то я собиралась в аспирантуру. Закончила университет с красным дипломом, но мест в аспирантуре в тот год не было, и я пошла работать в Тосненскую среднюю школу и готовиться к экзаменам. В результате вместо аспирантуры я забеременела — и страшно боялась сказать об этом Юрию Михайловичу. Рожать мне было в августе, а в аспирантуру поступать, естественно, в сентябре. И я как-то себе намечтала, что каким-то образом смогу все совместить. В июне мы с Лотманом столкнулись в Публичке, я была уже со здоровым животом, и Юрий Михайлович таким страшным голосом сказал вместо «здрасьте»: «Я вам этого никогда не прощу».
— Ой.
— Мы потом, конечно, начали ржать, как нормальные люди. Но я помню этот ужас, когда его увидела: он меня застукал и что теперь делать.
Потом, когда сыну было три года, я начала сдавать экзамены в аспирантуру, уже в заочную. Но поступить не успела: Юрий Михайлович заболел и умер. Так история с ученой карьерой и диссертацией рассосалась.
— Я-то ничего про это не знала. И тогда Витя Кривулин дал мне почитать биографию Пушкина, написанную Лотманом. Это до сих пор одна из самых моих любимых книжек, и теперь я уже понимаю, какая там тонкая грань между предметом исследования и исследователем.
— Каким оказался Тарту?
— Вообще это был мой рай: умные люди и полно книжек. И оценки ставят за то, что ты их читаешь! И, конечно же, я, любившая Пушкина вообще и «Капитанскую дочку» в частности, пошла на семинар к Юрию Михайловичу Лотману. Его лекции были невероятные совершенно, у меня до сих пор какие-то фразы в голове с его интонацией звучат, и стихи, которые он читал. Я все годы ходила еще к нему на спецкурсы, хотя формально они были только для четверокурсников. На его спецкурс собирались толпы, включая физиков, математиков, медиков.
Как научный руководитель он не возился с нами с утра до ночи, потому что был очень занят, но находить время для разговоров, если я заходила в тупик, всегда исхитрялся, сохраняя при этом отношение к студенту как к коллеге. Я была трудоголик и перфекционист, и мы жили душа в душу. Он мог оставить на полях работы: «О, боже!» или «Ну и словечко!», или еще какие-то язвительные замечания. Когда он начинал разговор, произнося ледяным голосом «Ангел мой», мы знали, что сейчас прилетит за ерунду или халтуру, — но он никогда не мешал уходить в ту сторону, которая вдруг тебе начинала казаться очень интересной, и у нас никогда не было жестких теоретических споров. Но я никогда и не претендовала на какие-то теоретические открытия, я всегда была позитивист и любила реальный комментарий.
— Как все это было вообще возможно в СССР? Тарту, свобода, Лотман, воспитывающий студентов.
— Лотман как-то сказал, что филфак Тартуского университета — это немножко «господа ташкентцы»: Ленинградский университет прислал специалистов «из столиц», они основали кафедру. Для эстонской партийной организации ленинградская была вроде как повыше рангом. С другой стороны, для Советского Союза Тарту был слишком уж периферийным местом, чтобы громить его так, как в свое время был разгромлен филфак Ленинградского университета, да и время было уже не такое кровожадное. Такая резервация, где даже обыски происходили не регулярно, а время от времени.
— Но происходили?
— Юрий Михайлович как-то рассказал, что прятал самиздат за верхней вьюшкой на печке. Библиотека у них с Зарой Григорьевной Минц [женой Лотмана] была огромная, все пространство четырехкомнатной квартиры было заставлено и заложено книгами снизу доверху. Сыскари открывали каждую книгу, шли снизу, и когда доходили до верхних полок, уже так уставали, что до коробок на антресолях и печках просто не добирались. Но когда я училась, никакого особого давления уже не было — в год нашего поступления, осенью, умер Брежнев, советской власти было уже не до далеких от столиц филологов.
— Перестройка пришла в Тарту сразу или с запозданием?
— Я поняла, что такое «перестройка», когда в нашем общежитии появилась проходная и врезали замок. До этого туда ходил, кто хотел. А касалось это меня напрямую: после второго курса мне пришлось выписаться из общежития и прописаться снова у родителей в Ленобласти, чтобы, выйдя замуж, не потерять ленинградскую прописку, потому что мой муж Леша был прописан в закрытом городе Челябинске-70. Из общежития я выписалась, но жить там продолжала, потому что свободные места были, а проходная не работала. И вот при Горбачеве стали пускать только по пропускам, и мне пришлось лазить через окна первого этажа. Слава Богу, продолжалось это недолго, как и любая попытка «навести порядок», но я поняла главное: Горбачев хочет, чтобы все правила и предписания, положенные по социалистическому закону, работали. Для меня эта проходная, рьяно внедренная и быстро опустевшая, так и осталась символом того времени: старое невозможно улучшить, это не работает. Мы были первым курсом университета, с которого всех мальчиков забрали в армию, и Афганистан советской власти мы прощать не собирались. На четвертом курсе еще и Чернобыль случился... В общем, я точно знала, что государство врет по-крупному, и никакой симпатии к нему не испытывала.
— С этими мыслями ты собиралась стать учителем?
— Вообще-то я собиралась в аспирантуру. Закончила университет с красным дипломом, но мест в аспирантуре в тот год не было, и я пошла работать в Тосненскую среднюю школу и готовиться к экзаменам. В результате вместо аспирантуры я забеременела — и страшно боялась сказать об этом Юрию Михайловичу. Рожать мне было в августе, а в аспирантуру поступать, естественно, в сентябре. И я как-то себе намечтала, что каким-то образом смогу все совместить. В июне мы с Лотманом столкнулись в Публичке, я была уже со здоровым животом, и Юрий Михайлович таким страшным голосом сказал вместо «здрасьте»: «Я вам этого никогда не прощу».
— Ой.
— Мы потом, конечно, начали ржать, как нормальные люди. Но я помню этот ужас, когда его увидела: он меня застукал и что теперь делать.
Потом, когда сыну было три года, я начала сдавать экзамены в аспирантуру, уже в заочную. Но поступить не успела: Юрий Михайлович заболел и умер. Так история с ученой карьерой и диссертацией рассосалась.
«Что-то такое происходит, что я не могу допустить просто по-человечески».
Грачева рассказывает, как человека меняет чужое горе
Грачева рассказывает, как человека меняет чужое горе
— Вот ты — студентка Лотмана, учительница — и вдруг оказываешься в благотворительности.
— В мае 2005 года подруга прислала мне ссылку на Живой Журнал, где собирали деньги на мальчика Тему: мол, в первой больнице в отделении химиотерапии лейкозов есть такой ребеночек, его мама — буфетчица из больницы города Сланцы, папа сидит. Положили их в больницу зимой, а сейчас лето, и ребенку нужны летние ботинки, чтоб гулять.
Я позвонила в ДГБ № 1, спросила, есть ли такой ребенок, купила еды и поехала Темочке ножку мерять. И тут мама Темы мне показывает счет на 15 тысяч евро на поиск донора в международном регистре и спрашивает, не могу ли я чем-то помочь. Я помню, как вернувшись от Темы домой, сидела на диване с этим счетом и не могла осознать полученную информацию. Как тот протопоп Аввакум: «Не вмещаю, Господи». Вот я тоже не вмещала: как может быть, что пятимиллионном городе буфетчица, которая сидит с больным ребенком в стерильном боксе, должна найти 15 тысяч евро? А если не найдет, то у ее сына вообще не будет шансов. У меня было чувство, что при мне что-то такое происходит, что я не могу допустить просто по-человечески. Я тогда обзвонила своих выпускников, тартуских друзей, вообще всех, до кого смогла дотянуться.
— Собрали?
— Собрали. Но пока я ходила к Темочке, познакомилась с другими детьми и мамами, а потом мне дали телефон Паши Гринберга*, который уже создал фонд AdVita. Знакомство с Пашей было моей точкой невозврата. Он думал то же самое, что и я: все это неправильно, не может так быть, нужно что-то делать.
— В мае 2005 года подруга прислала мне ссылку на Живой Журнал, где собирали деньги на мальчика Тему: мол, в первой больнице в отделении химиотерапии лейкозов есть такой ребеночек, его мама — буфетчица из больницы города Сланцы, папа сидит. Положили их в больницу зимой, а сейчас лето, и ребенку нужны летние ботинки, чтоб гулять.
Я позвонила в ДГБ № 1, спросила, есть ли такой ребенок, купила еды и поехала Темочке ножку мерять. И тут мама Темы мне показывает счет на 15 тысяч евро на поиск донора в международном регистре и спрашивает, не могу ли я чем-то помочь. Я помню, как вернувшись от Темы домой, сидела на диване с этим счетом и не могла осознать полученную информацию. Как тот протопоп Аввакум: «Не вмещаю, Господи». Вот я тоже не вмещала: как может быть, что пятимиллионном городе буфетчица, которая сидит с больным ребенком в стерильном боксе, должна найти 15 тысяч евро? А если не найдет, то у ее сына вообще не будет шансов. У меня было чувство, что при мне что-то такое происходит, что я не могу допустить просто по-человечески. Я тогда обзвонила своих выпускников, тартуских друзей, вообще всех, до кого смогла дотянуться.
— Собрали?
— Собрали. Но пока я ходила к Темочке, познакомилась с другими детьми и мамами, а потом мне дали телефон Паши Гринберга*, который уже создал фонд AdVita. Знакомство с Пашей было моей точкой невозврата. Он думал то же самое, что и я: все это неправильно, не может так быть, нужно что-то делать.
— Вы обсуждали когда-нибудь с Гринбергом, что, не ограничивая поток обращений, вы лишаете себя возможности стать эффективным фондом?
— У нас с самого начало было очень мало денег, мы мало кому могли помочь. Но тогда для человека просто возможность публично обратиться за помощью уже была большим делом: не было никаких соцсетей и благотворительных фондов, просьбы клубились на нескольких форумах, вечно возникали вопросы, как это все проверять.
Паша, публикуя просьбы на сайте фонда, давал жертвователям гарантию: эта история проверена, деньги дойдут по назначению. Мы на первых порах даже телефоны пациентов давали, чтобы любой жертвователь мог позвонить и проверить, так были помешаны на честности и прозрачности. Но, честно сказать, с тех пор у нас так и не появилось никаких аргументов сильнее вопроса: как так может быть, чтобы жизнь человека зависела от денег? Это такой прямой вопрос, как просветители задавали, понимаешь? — говорит Грачева и тихонько смеется, замечая, что интервью в очередной раз превращается в урок литературы. — Философы эпохи Просвещения задавали такие прямые вопросы — если начнешь отвечать, то сразу видно, что имеет смысл, а что просто привычка или предрассудок. Вот, например, кругом крепостное право, а эти люди берут и спрашивают: как могут существовать рабы, если мы христиане? Как может один человек другому принадлежать? Почему мы это все терпим? Потому что нам мешают предрассудки, клише, к которым все привыкли и ничего странного не замечают. Если это клише выкинуть, оказывается, тебе нечего ответить на этот вопрос. И вот тебе еще один прямой вопрос: ребенок в многомиллионном городе в начале XXI века погибает от отсутствия лекарств, которые, на самом деле, есть, существуют, придуманы — почему? Попробуй ответить на этот вопрос и не измениться в процессе ответа. Но ужас в том, что сейчас мы уже не можем сказать, что вход в фонд AdVita ничем не ограничен. Сейчас уже есть вещи, которые мы не будем рассматривать в принципе — например, лечение за границей. А по поводу приоритетов бесконечно спорим...
— Что стало с Темой, из-за которого ты пришла в больницу?
— Тогда еще не было таких лекарств, которые есть сейчас, и не было таких способов борьбы с реакцией «трансплантат против хозяина». Тема умер от осложнений после трансплантации в феврале 2006 года.
— Тут человек со здоровой психикой развернулся бы и ушел. Из больницы и из благотворительности.
— Вот как раз со здоровой и не ушел бы. С чего? Если ты не спасать мир пришел и не мыслишь в категориях победы и поражения, а просто понял, что у тебя есть руки, ноги и какие-то возможности, ты можешь что-то написать, кому-то позвонить, кого-то убедить, что-то придумать и, в конечном итоге, как-то помочь людям, которые сами себе помочь не могут, — так чего бы этого не сделать?
— Смерть в случае, когда ты вроде как всё сделал, что мог — это тяжелый опыт.
— Да, тяжелый. И что? Опыт, когда ты не смог ничего сделать, гораздо тяжелее. Было же сразу понятно, что рак не насморк, не грипп, не аппендицит. Да, кого-то не сможем отбить, но попробовать обязаны. Если вообще не пробовать, то ничего и не будет.
Вот фонду исполняется семнадцать лет, и я вижу, как вытаскивают людей, которых в начале нашего пути никто и не взялся бы лечить. Мы — свидетели совершенно фантастических открытий и появления фантастических возможностей. И еще одна простая и прямая мысль: право воспользоваться всем этим должно быть у всех людей, а не только у тех, кто может за это заплатить. Я как-то так вижу нашу работу.
— У нас с самого начало было очень мало денег, мы мало кому могли помочь. Но тогда для человека просто возможность публично обратиться за помощью уже была большим делом: не было никаких соцсетей и благотворительных фондов, просьбы клубились на нескольких форумах, вечно возникали вопросы, как это все проверять.
Паша, публикуя просьбы на сайте фонда, давал жертвователям гарантию: эта история проверена, деньги дойдут по назначению. Мы на первых порах даже телефоны пациентов давали, чтобы любой жертвователь мог позвонить и проверить, так были помешаны на честности и прозрачности. Но, честно сказать, с тех пор у нас так и не появилось никаких аргументов сильнее вопроса: как так может быть, чтобы жизнь человека зависела от денег? Это такой прямой вопрос, как просветители задавали, понимаешь? — говорит Грачева и тихонько смеется, замечая, что интервью в очередной раз превращается в урок литературы. — Философы эпохи Просвещения задавали такие прямые вопросы — если начнешь отвечать, то сразу видно, что имеет смысл, а что просто привычка или предрассудок. Вот, например, кругом крепостное право, а эти люди берут и спрашивают: как могут существовать рабы, если мы христиане? Как может один человек другому принадлежать? Почему мы это все терпим? Потому что нам мешают предрассудки, клише, к которым все привыкли и ничего странного не замечают. Если это клише выкинуть, оказывается, тебе нечего ответить на этот вопрос. И вот тебе еще один прямой вопрос: ребенок в многомиллионном городе в начале XXI века погибает от отсутствия лекарств, которые, на самом деле, есть, существуют, придуманы — почему? Попробуй ответить на этот вопрос и не измениться в процессе ответа. Но ужас в том, что сейчас мы уже не можем сказать, что вход в фонд AdVita ничем не ограничен. Сейчас уже есть вещи, которые мы не будем рассматривать в принципе — например, лечение за границей. А по поводу приоритетов бесконечно спорим...
— Что стало с Темой, из-за которого ты пришла в больницу?
— Тогда еще не было таких лекарств, которые есть сейчас, и не было таких способов борьбы с реакцией «трансплантат против хозяина». Тема умер от осложнений после трансплантации в феврале 2006 года.
— Тут человек со здоровой психикой развернулся бы и ушел. Из больницы и из благотворительности.
— Вот как раз со здоровой и не ушел бы. С чего? Если ты не спасать мир пришел и не мыслишь в категориях победы и поражения, а просто понял, что у тебя есть руки, ноги и какие-то возможности, ты можешь что-то написать, кому-то позвонить, кого-то убедить, что-то придумать и, в конечном итоге, как-то помочь людям, которые сами себе помочь не могут, — так чего бы этого не сделать?
— Смерть в случае, когда ты вроде как всё сделал, что мог — это тяжелый опыт.
— Да, тяжелый. И что? Опыт, когда ты не смог ничего сделать, гораздо тяжелее. Было же сразу понятно, что рак не насморк, не грипп, не аппендицит. Да, кого-то не сможем отбить, но попробовать обязаны. Если вообще не пробовать, то ничего и не будет.
Вот фонду исполняется семнадцать лет, и я вижу, как вытаскивают людей, которых в начале нашего пути никто и не взялся бы лечить. Мы — свидетели совершенно фантастических открытий и появления фантастических возможностей. И еще одна простая и прямая мысль: право воспользоваться всем этим должно быть у всех людей, а не только у тех, кто может за это заплатить. Я как-то так вижу нашу работу.
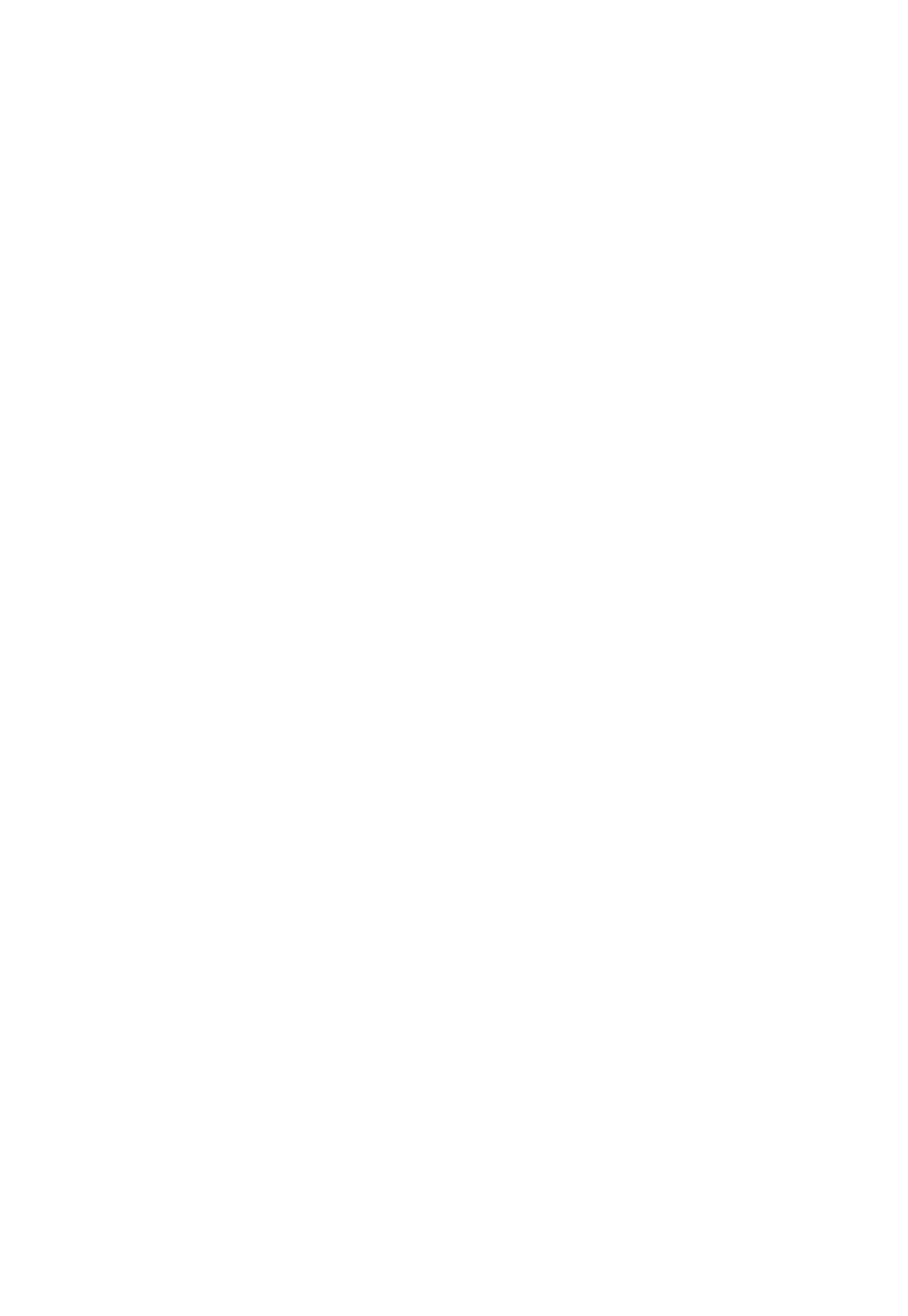
«В устройстве мира полно лакун, куда проваливаются люди».
Грачева рассказывает, зачем нужна благотворительность
Грачева рассказывает, зачем нужна благотворительность
«Наша задача – подхватывать то, что не может подхватить государство, страховая компания или кто-то еще. И что-то все время делать, толкать реальность в нужную сторону, чтобы когда-нибудь мы стали в этом качестве не нужны - а нужны, чтобы, например, оплачивать онкологические исследования или еще какой-то кусочек будущего», – быстро говорит Грачева, пока мы с ней перебираемся через ледяные глыбы, перегородившие петербургские улицы. Между льдинами – впадины, талый снег, под которым опять лед. Время от времени мы скользим и почти падаем, но не падаем – поддерживаем друг друга. Не отвлекаясь на льдины, будто их и вовсе нет, Грачева продолжает ровным голосом: «В устройстве мира полно лакун, куда проваливаются люди. И благотворительность их вытаскивает. Так исторически сложилось: Боткинские больницы, Морозовские строили прекрасные люди позапрошлого века! До 1917-го года существовал миллион организаций, которые чем только не занимались, и это не считая благотворительного ведомства императрицы Марии, которое тоже было очень мощным. Какую сферу помощи ни возьми, к началу XX века было уже невероятное количество самой разной благотворительности. Десятки, сотни организаций, занимавшихся бедными, голодными, бездомными, больными, сиротами, заключенными, – все это было уничтожено в 1917 году, и все это вернулось в 90-е. Посмотри, что сейчас творится: какая бы ни была тяжелая проблема, вокруг нее уже кто-то объединился и что-то уже делает. Здорово же».
Дует ужасный ветер. И половины произносимых слов – не слышно. Мы стоим с Грачевой на шумной улице. Ветер смешивается то с дождем, то со снегом, и за каждое произнесенное слово говорящий вынужден проглатывать по чайной ложке ледяной воды. Возможно, поэтому мы молчим. Но вдруг Грачева произносит: «Я всю жизнь чувствую себя виноватой перед Лешиками (муж и сын – оба Леши) и перед родителями. Сейчас я дома гораздо чаще, конечно, потому что есть сотрудники. Но за семнадцать лет в AdVita мои все привыкли, что меня никогда нет». Наверное, она что-то еще сказала. Но ветер опять рванул. Гаркнула чайка. Я не услышала.
Дует ужасный ветер. И половины произносимых слов – не слышно. Мы стоим с Грачевой на шумной улице. Ветер смешивается то с дождем, то со снегом, и за каждое произнесенное слово говорящий вынужден проглатывать по чайной ложке ледяной воды. Возможно, поэтому мы молчим. Но вдруг Грачева произносит: «Я всю жизнь чувствую себя виноватой перед Лешиками (муж и сын – оба Леши) и перед родителями. Сейчас я дома гораздо чаще, конечно, потому что есть сотрудники. Но за семнадцать лет в AdVita мои все привыкли, что меня никогда нет». Наверное, она что-то еще сказала. Но ветер опять рванул. Гаркнула чайка. Я не услышала.
«Я очень устала».
Грачева рассказывает о возрасте
Грачева рассказывает о возрасте
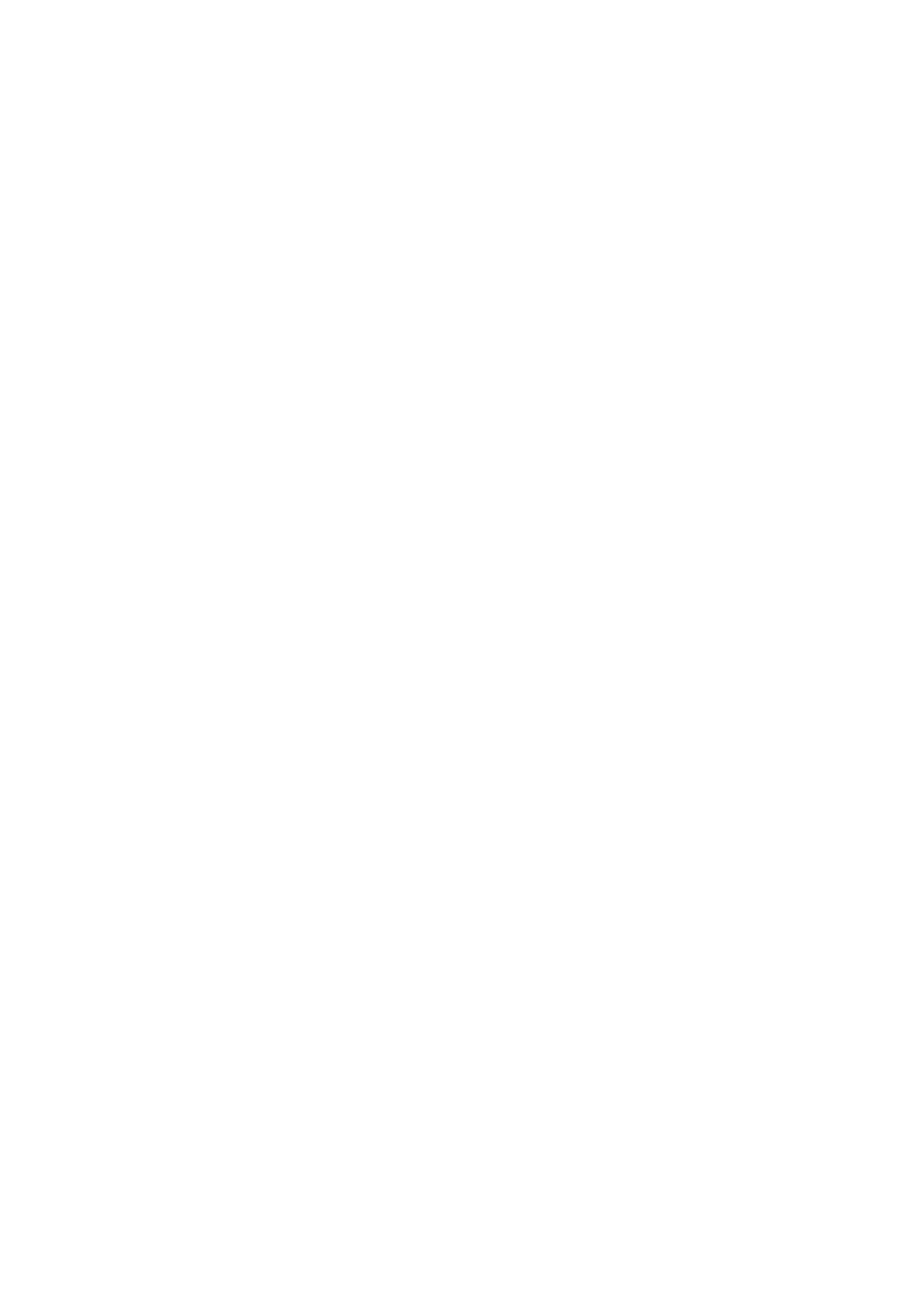
Елена Грачева с мужем Алексеем
— Часто ли ты чувствуешь бессилие?
— Конечно.
— И что ты делаешь?
— Плачу. Плачу, жалуюсь и причащаюсь. Как все. Сил не хватает вообще ни на что. Наверное, это старость. Мне кажется, у меня она уже наступила. Я когда прочитала, что пенсию отодвинут до 63 лет, и представила, что мне нужно еще восемь лет работать, меня эта мысль разрушила изнутри. Я очень устала.
Вообще мне кажется, что все это старорежимное многовековое деление на детство, отрочество, юность, зрелость, старость — страшно устарело. Не физиологически, хотя и тут все подвинулось, — а культурно. Сейчас совсем не нужно к определенному возрасту кончать школу, выходить замуж, рожать детей, определяться с работой и работать до могилы. Мне нравится, что сейчас люди меньше боятся переучиваться, все менять, переезжать, начинать новую работу и новую жизнь. И стали гораздо меньше париться по поводу того, кто что скажет. Все эти понятия — «корочки», «карьера» — постепенно уходят. Людям стало важно, зачем они что-то делают, имеет ли это смысл и доставляет ли удовольствие. С этой точки зрения мне совершенно точно пора из директоров уходить.
— И чем заниматься?
— Сейчас мне гораздо правильнее было бы заниматься не ежедневным администрированием, а какими-то более «длинными» вещами: знаковыми текстами, стратегическими переговорами, строительством и планированием.
Не знаю еще, как могла бы назваться эта должность. И будет ли это вообще должность?
— Ты сердишься на рак, что он отобрал у тебя столько времени, которое можно было бы посвятить совсем другим вещам, например, твоей любимой литературе?
— Нет, — отвечает не очень уверенно. Молчит. И снова смеется. — Мне, может быть, немножко жалко, что не случился из меня академический ученый. До сих пор больше всего на свете я люблю делать реальный комментарий к тексту. И несколько хороших у меня получилось. «История одного города» очень хорошая получилась, мы с мужем писали. В последнем академическом четырехтомнике Лермонтова есть кусочек небольшой того, что я делала. Что-то из того, что я нашла для своих лекций, может быть, в новое академическое собрание Пушкина попадет. Но о том, что большая часть моей жизни прошла в другом, не в литературоведении, я не жалею. То количество смысла, которое образовалось, пока я работала в фонде, с предыдущим опытом не сопоставимо.
Ну и мне же удается это как-то совмещать. Я ведь уже тридцать лет с детьми книжки читаю. Иногда они ставят меня в тупик и видят то, чего я не видела, хотя читала эту книжку сто раз. А иногда я заранее знаю, на каком словосочетании они споткнутся. Например, я всегда отдельно обсуждаю фразу из письма Макара Девушкина: «Бедные люди капризны». Она совершенно гениальная. И каждое поколение детей что-нибудь новенькое в ней видит.
— Конечно.
— И что ты делаешь?
— Плачу. Плачу, жалуюсь и причащаюсь. Как все. Сил не хватает вообще ни на что. Наверное, это старость. Мне кажется, у меня она уже наступила. Я когда прочитала, что пенсию отодвинут до 63 лет, и представила, что мне нужно еще восемь лет работать, меня эта мысль разрушила изнутри. Я очень устала.
Вообще мне кажется, что все это старорежимное многовековое деление на детство, отрочество, юность, зрелость, старость — страшно устарело. Не физиологически, хотя и тут все подвинулось, — а культурно. Сейчас совсем не нужно к определенному возрасту кончать школу, выходить замуж, рожать детей, определяться с работой и работать до могилы. Мне нравится, что сейчас люди меньше боятся переучиваться, все менять, переезжать, начинать новую работу и новую жизнь. И стали гораздо меньше париться по поводу того, кто что скажет. Все эти понятия — «корочки», «карьера» — постепенно уходят. Людям стало важно, зачем они что-то делают, имеет ли это смысл и доставляет ли удовольствие. С этой точки зрения мне совершенно точно пора из директоров уходить.
— И чем заниматься?
— Сейчас мне гораздо правильнее было бы заниматься не ежедневным администрированием, а какими-то более «длинными» вещами: знаковыми текстами, стратегическими переговорами, строительством и планированием.
Не знаю еще, как могла бы назваться эта должность. И будет ли это вообще должность?
— Ты сердишься на рак, что он отобрал у тебя столько времени, которое можно было бы посвятить совсем другим вещам, например, твоей любимой литературе?
— Нет, — отвечает не очень уверенно. Молчит. И снова смеется. — Мне, может быть, немножко жалко, что не случился из меня академический ученый. До сих пор больше всего на свете я люблю делать реальный комментарий к тексту. И несколько хороших у меня получилось. «История одного города» очень хорошая получилась, мы с мужем писали. В последнем академическом четырехтомнике Лермонтова есть кусочек небольшой того, что я делала. Что-то из того, что я нашла для своих лекций, может быть, в новое академическое собрание Пушкина попадет. Но о том, что большая часть моей жизни прошла в другом, не в литературоведении, я не жалею. То количество смысла, которое образовалось, пока я работала в фонде, с предыдущим опытом не сопоставимо.
Ну и мне же удается это как-то совмещать. Я ведь уже тридцать лет с детьми книжки читаю. Иногда они ставят меня в тупик и видят то, чего я не видела, хотя читала эту книжку сто раз. А иногда я заранее знаю, на каком словосочетании они споткнутся. Например, я всегда отдельно обсуждаю фразу из письма Макара Девушкина: «Бедные люди капризны». Она совершенно гениальная. И каждое поколение детей что-нибудь новенькое в ней видит.
«Бедные люди капризны».
Грачева дает еще один урок литературы
Грачева дает еще один урок литературы
— Что она значит?
— Достоевский говорил, что придумал для русской литературы слово «стушеваться», это в «Голядкине» [повесть «Двойник»]. А в «Бедных людях» главное слово — «амбиция». Соединение этих двух сущностей в одном человеке Достоевский сделал, может быть, главным признаком человека вообще. Его герой — уязвленный, раненый, серьезно так обсуждает, «ветошка он или нет», но одновременно совершенно точно понимает, что никакая не ветошка, а человек. Амбиция быть человеком у того, кого никто за человека не считает, да и сам он бесконечно в этом сомневается — бедные люди капризны! Бедных людей задевает все, потому что из всего может случиться уязвление, перед которым они беззащитны. Раненые люди всё, что происходит рядом, воспринимают как опасность, что-то, что может ранить еще больше. Поэтому с ними страшно тяжело общаться. Только гений мог выбрать это слово — «капризны». Не «уязвимы», не «обидчивы», не «несчастны». Ты об это слово спотыкаешься и не можешь дальше идти, пока не передумаешь то и это.
— Обо что еще ты так спотыкаешься? Вот ты христианка, в мире каждый день происходит столько несчастья и несправедливости, что никакой веры не хватит смириться.
— Конечно, то, что мы видим, плохо совместимо с представлением, что Бог существует: пытки, настоящие концлагеря, существующие рядом с нами, в психоневрологических интернатах, бесчисленные несправедливости в судах, уворованные деньги, на которых мы бы всех вылечили, — список бесконечный. Я тебе больше скажу: я в последнее время очень страдаю там, где раньше и в голову бы не пришло.
Например, недавно на встрече с представителем одной медицинской компании обсуждали новую методику лечения рефрактерных лейкозов — CAR-T cell, которая в России есть только в центре Рогачева, на благотворительные деньги и только для детей. У нас, понятное дело, взрослые. Если за границу, по ценам получается примерно так: в Германии — от двухсот пятидесяти тысяч евро, в Израиле — от восьмидесяти тысяч долларов, а в Китае — тридцать тысяч долларов.
Понятное дело, меня в этот момент должны беспокоить только интересы нашего подопечного: чем дешевле, тем лучше. Но я совершенно серьезно не могу выкинуть из головы, что эти китайские цены обеспечены рабским трудом огромного количества людей. Буквально думаю все то время, пока мне показывают графики, кривые и рассказывают, как Китай вложился в инновационные клиники, чтобы заработать на медицинском туризме. Это не повлияет на мое решение, если нам придется отправлять туда человека. Но я не уверена, что правильно, что не повлияет. Что мне делать, если я это чувствую?
Наталья Леонидовна Трауберг однажды мне сказала на что-то такое: «Деточка, с приближением конца света зло делается злее, а добро — добрее». Я тогда повеселилась, а сейчас, мне кажется, я понимаю, что она имела в виду. Видимо, приближаюсь к личному концу света. На том свете, в общем, разберемся.
— Достоевский говорил, что придумал для русской литературы слово «стушеваться», это в «Голядкине» [повесть «Двойник»]. А в «Бедных людях» главное слово — «амбиция». Соединение этих двух сущностей в одном человеке Достоевский сделал, может быть, главным признаком человека вообще. Его герой — уязвленный, раненый, серьезно так обсуждает, «ветошка он или нет», но одновременно совершенно точно понимает, что никакая не ветошка, а человек. Амбиция быть человеком у того, кого никто за человека не считает, да и сам он бесконечно в этом сомневается — бедные люди капризны! Бедных людей задевает все, потому что из всего может случиться уязвление, перед которым они беззащитны. Раненые люди всё, что происходит рядом, воспринимают как опасность, что-то, что может ранить еще больше. Поэтому с ними страшно тяжело общаться. Только гений мог выбрать это слово — «капризны». Не «уязвимы», не «обидчивы», не «несчастны». Ты об это слово спотыкаешься и не можешь дальше идти, пока не передумаешь то и это.
— Обо что еще ты так спотыкаешься? Вот ты христианка, в мире каждый день происходит столько несчастья и несправедливости, что никакой веры не хватит смириться.
— Конечно, то, что мы видим, плохо совместимо с представлением, что Бог существует: пытки, настоящие концлагеря, существующие рядом с нами, в психоневрологических интернатах, бесчисленные несправедливости в судах, уворованные деньги, на которых мы бы всех вылечили, — список бесконечный. Я тебе больше скажу: я в последнее время очень страдаю там, где раньше и в голову бы не пришло.
Например, недавно на встрече с представителем одной медицинской компании обсуждали новую методику лечения рефрактерных лейкозов — CAR-T cell, которая в России есть только в центре Рогачева, на благотворительные деньги и только для детей. У нас, понятное дело, взрослые. Если за границу, по ценам получается примерно так: в Германии — от двухсот пятидесяти тысяч евро, в Израиле — от восьмидесяти тысяч долларов, а в Китае — тридцать тысяч долларов.
Понятное дело, меня в этот момент должны беспокоить только интересы нашего подопечного: чем дешевле, тем лучше. Но я совершенно серьезно не могу выкинуть из головы, что эти китайские цены обеспечены рабским трудом огромного количества людей. Буквально думаю все то время, пока мне показывают графики, кривые и рассказывают, как Китай вложился в инновационные клиники, чтобы заработать на медицинском туризме. Это не повлияет на мое решение, если нам придется отправлять туда человека. Но я не уверена, что правильно, что не повлияет. Что мне делать, если я это чувствую?
Наталья Леонидовна Трауберг однажды мне сказала на что-то такое: «Деточка, с приближением конца света зло делается злее, а добро — добрее». Я тогда повеселилась, а сейчас, мне кажется, я понимаю, что она имела в виду. Видимо, приближаюсь к личному концу света. На том свете, в общем, разберемся.
«Тогда я почувствовала, что меня держат за руку».
Грачева рассказывает о вере
Грачева рассказывает о вере
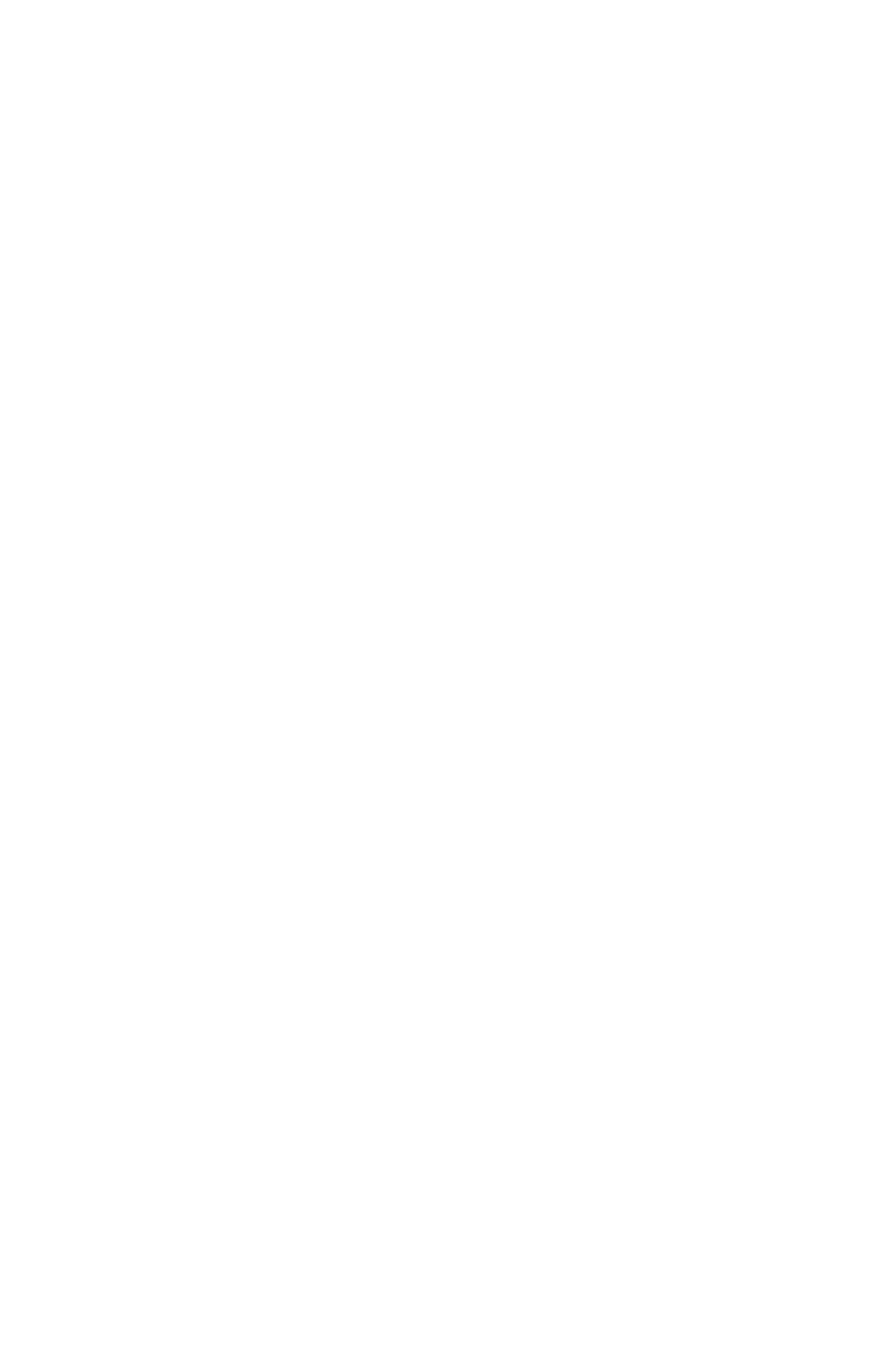
— Откуда ты знаешь, что тот свет вообще есть? Откуда ты знаешь, что Бог есть любовь?
— Ты же знаешь, что твой муж тебя любит? И твои дети тебя любят? Когда твои четверо детей тебя спрашивают: «Ты меня любишь?» — что ты делаешь?
— Обнимаю очень сильно.
— Ну так им достаточно — они это видят, знают и понимают. Когда я крестилась в 1986, я ничего толком не понимала, это было скорее логическое, психологическое, этическое решение. А по-настоящему дошло, когда я тяжело заболела в 2001 году — системной красной волчанкой. Это был качественный опыт. Мне долго не ставили диагноз, потому что иммунологические тесты были отрицательные, а по клинике — стопроцентная волчанка: началась с температуры под сорок, а потом, когда температура стала поменьше, но хроническая, остались сильные суставные боли, отеки. В общем, мне ставили осложнение после гриппа и лечили нестероидными противовоспалительными. Я лежала дома, было очень больно, сил не было ни читать, ни кино смотреть. Я была уверена, что умру не сегодня-завтра, и никто мне не поможет.
— Было страшно?
— Очень. Было очень одиноко, хотя моя золотая семья водила вокруг меня хороводы и кормила с ложки, потому как бывали моменты, что я ложку не могла держать. И все равно я ничего не могла им объяснить, внутри все равно было одиноко и страшно. Лешик-старший работал, Лешик-младший был в школе, я целый день лежала одна с кошками (они мне очень помогали, под Мусю я совала скрюченные пальцы, и казалось, что меньше болит). В какой-то момент у меня даже лежать уже сил не было и плакать. Вот тогда я почувствовала, что меня держат за руку.
— Это был мистический опыт?
— Мистический, но он был абсолютно физиологичен. Это понимание ко мне пришло ниоткуда, ему не предшествовала никакая молитва, никакие размышления, только усталость, я такая пустенькая лежала, довольно бессмысленная. Это знание просто появилось в моей пустой голове. И никуда не делось, даже когда меня вылечили.
— Как вылечили?
— Я, наконец, попала в нефрологию Первого медицинского, где мне поставили диагноз и начали лечить химиотерапией и преднизолоном. Я прям ожила. Но за месяцы без лечения я успела сильно испугаться смерти и успела понять, что меня там одну не бросят.
— Если предположить, что государство не нуждается ни в каких благотворительных подпорках, у AdVita полно денег, и ты можешь идти на пенсию — чем займешься?
— А денег вдруг каких-то еще дадут или только пенсию?
— Только пенсия.
— Тогда с путешествиями ничего не выйдет. Ну, ладно, буду немножко в гимназии преподавать, наверное. Попробую дописать некоторое количество статей и книжек, которые все застряли на разных стадиях существования. Сейчас-то я все время бегу куда-то.
— Что будет, когда ты перестанешь бежать?
— Совсем не перестану, наверно. Буду бегать по архивам, по библиотекам, звонить какому-нибудь специалисту и говорить: «Как ты думаешь, где можно посмотреть, сколько стоила почта от Тифлиса до Киева в 1817 году»? Или искать в неаполитанских газетах 1844 года расписание пироскафов, а потом по названиям пытаться найти изображение того пироскафа, про который стихотворение Баратынского. Мне будет хорошо и весело — но главное, что от скорости моего бега ничья жизнь зависеть уже не будет.
— Ты же знаешь, что твой муж тебя любит? И твои дети тебя любят? Когда твои четверо детей тебя спрашивают: «Ты меня любишь?» — что ты делаешь?
— Обнимаю очень сильно.
— Ну так им достаточно — они это видят, знают и понимают. Когда я крестилась в 1986, я ничего толком не понимала, это было скорее логическое, психологическое, этическое решение. А по-настоящему дошло, когда я тяжело заболела в 2001 году — системной красной волчанкой. Это был качественный опыт. Мне долго не ставили диагноз, потому что иммунологические тесты были отрицательные, а по клинике — стопроцентная волчанка: началась с температуры под сорок, а потом, когда температура стала поменьше, но хроническая, остались сильные суставные боли, отеки. В общем, мне ставили осложнение после гриппа и лечили нестероидными противовоспалительными. Я лежала дома, было очень больно, сил не было ни читать, ни кино смотреть. Я была уверена, что умру не сегодня-завтра, и никто мне не поможет.
— Было страшно?
— Очень. Было очень одиноко, хотя моя золотая семья водила вокруг меня хороводы и кормила с ложки, потому как бывали моменты, что я ложку не могла держать. И все равно я ничего не могла им объяснить, внутри все равно было одиноко и страшно. Лешик-старший работал, Лешик-младший был в школе, я целый день лежала одна с кошками (они мне очень помогали, под Мусю я совала скрюченные пальцы, и казалось, что меньше болит). В какой-то момент у меня даже лежать уже сил не было и плакать. Вот тогда я почувствовала, что меня держат за руку.
— Это был мистический опыт?
— Мистический, но он был абсолютно физиологичен. Это понимание ко мне пришло ниоткуда, ему не предшествовала никакая молитва, никакие размышления, только усталость, я такая пустенькая лежала, довольно бессмысленная. Это знание просто появилось в моей пустой голове. И никуда не делось, даже когда меня вылечили.
— Как вылечили?
— Я, наконец, попала в нефрологию Первого медицинского, где мне поставили диагноз и начали лечить химиотерапией и преднизолоном. Я прям ожила. Но за месяцы без лечения я успела сильно испугаться смерти и успела понять, что меня там одну не бросят.
— Если предположить, что государство не нуждается ни в каких благотворительных подпорках, у AdVita полно денег, и ты можешь идти на пенсию — чем займешься?
— А денег вдруг каких-то еще дадут или только пенсию?
— Только пенсия.
— Тогда с путешествиями ничего не выйдет. Ну, ладно, буду немножко в гимназии преподавать, наверное. Попробую дописать некоторое количество статей и книжек, которые все застряли на разных стадиях существования. Сейчас-то я все время бегу куда-то.
— Что будет, когда ты перестанешь бежать?
— Совсем не перестану, наверно. Буду бегать по архивам, по библиотекам, звонить какому-нибудь специалисту и говорить: «Как ты думаешь, где можно посмотреть, сколько стоила почта от Тифлиса до Киева в 1817 году»? Или искать в неаполитанских газетах 1844 года расписание пироскафов, а потом по названиям пытаться найти изображение того пироскафа, про который стихотворение Баратынского. Мне будет хорошо и весело — но главное, что от скорости моего бега ничья жизнь зависеть уже не будет.
*Павел Гринберг, физик, математик, инженер, работал в тот момент в ГИПХе. В 1999 году он потерял близкого человека – Женю Кантонистову, погибшую от лейкоза. В поисках вариантов ее лечения он познакомился с трансплантологами из Первого мединститута. Через три года был зарегистрирован фонд AdVita, что по-латыни значит ради жизни – это врачи придумали. Фонд был создан, чтобы оплачивать поиск доноров костного мозга для пациентов из Петербурга. К тому моменту, когда Грачева пришла в фонд, средства собирались уже и для других онкологических больных.