Катерина Гордеева
Ирина Ясина: «Раньше я хотела жить ярко, теперь – долго»
От редакции: Журналист Катерина Гордеева задает экономисту Ирине Ясиной базовые человеческие вопросы - о жизни и смерти. Еще недавно Ирина Ясина принимала участие в диалогах Правмира как агностик. Мы не подгоняем ответы наших собеседников под православные каноны, а просим их честно поделиться своим личным миропониманием.
Мы сидим у большого окна и пьем вино. Через стекло хорошо видно белку, что прыгает по сосне вверх и вниз без особой цели: ничего внизу не подбирает, ничего наверх не уносит. Просто белка в хорошем настроении. Скачет.
Сумерки сгущаются. И внутри дома становится светлее, чем у белки снаружи. Белка замирает и разглядывает нас.
Ясина спрашивает: «Хочешь еще вина?» Потом говорит: «Какой кайф смотреть за белкой, правда? Просто смотреть. И больше — ничего».
Ирине Ясиной только что исполнилось 54 года. Она — выдающийся экономический публицист. Дочь бывшего министра экономики России Евгения Ясина. Было время — руководила департаментом общественных связей Центробанка (Банк России), вела радио- и телепередачи, была директором программ «Открытой России», возглавляла Клуб региональной журналистики. В 35 лет получила диагноз «рассеянный склероз», но не сбавила оборотов, может даже наоборот: возглавляла, руководила, участвовала, выступала, спорила и боролась с удвоенной силой.
В первый год болезнь заставила ее отказаться от высоких каблуков, во второй — ходить с палочкой, через несколько лет — сесть в инвалидную коляску. В один из первых приездов в ее дом, Ясина показывала мне свои бывшие туфли на шпильке, водружённые, на манер музейного экспоната, за стекло книжной полки. Теперь показывает белку.
Сумерки сгущаются. И внутри дома становится светлее, чем у белки снаружи. Белка замирает и разглядывает нас.
Ясина спрашивает: «Хочешь еще вина?» Потом говорит: «Какой кайф смотреть за белкой, правда? Просто смотреть. И больше — ничего».
Ирине Ясиной только что исполнилось 54 года. Она — выдающийся экономический публицист. Дочь бывшего министра экономики России Евгения Ясина. Было время — руководила департаментом общественных связей Центробанка (Банк России), вела радио- и телепередачи, была директором программ «Открытой России», возглавляла Клуб региональной журналистики. В 35 лет получила диагноз «рассеянный склероз», но не сбавила оборотов, может даже наоборот: возглавляла, руководила, участвовала, выступала, спорила и боролась с удвоенной силой.
В первый год болезнь заставила ее отказаться от высоких каблуков, во второй — ходить с палочкой, через несколько лет — сесть в инвалидную коляску. В один из первых приездов в ее дом, Ясина показывала мне свои бывшие туфли на шпильке, водружённые, на манер музейного экспоната, за стекло книжной полки. Теперь показывает белку.

— Что изменилось?
— Этого не скажешь запросто. А, если скажешь, не прозвучит как-то важно или значительно: я стала проводить время по-другому. Я сейчас занята тем, что чувствую себя. Я живу. И живу, наконец, так, как хочу. Я читаю и перечитываю книги, которых я не читала, или думала, что читала: мне казалось, что по верхам — это достаточно. И вот я сижу у окна или перед камином, заваленная книжками и напитываюсь знаниями, которые мне по большому счету не особенно нужны. То есть, в практическом смысле вряд ли пригодятся. Но я жадно их впитываю. Я делаю это только для себя, это мне надо, мне важно. Хочешь — назови это самоудовлетворением, таким онанизмом, я не против. Мне даже нравится: я, быть может, впервые в жизни, делаю что-то только для внутреннего пользования, для себя.
— Ты ни с кем этим не делишься?
— Разумеется, есть некоторое количество собеседников, с которыми я обсуждаю прочитанное, нам хорошо и интересно. Но в основном — это все ради себя. Ты представить себе не можешь, как это классно.
— Раньше было не так?
— Было совсем по-другому. Я не чувствовала ни потребности, ни возможности остановиться и заглянуть в себя, остаться только собой и с собой. Сейчас это доставляет мне радость.
— Почему раньше не получалось?
— Думаю, потому, что я была все время на бегу, хотела везде успеть. А когда все время бежишь, мечешься, стараешься оказаться и там, и там, напомнить о себе, напомнить кому-то другому о чем-то важном, быть полезной и так далее, ты не успеваешь ощутить свет и покой, который совсем рядом. Он снисходит на тебя как столп света и покоя, стоит только остановиться и дать возможность. Это невероятное чувство.
— Похоже на описание обретения веры.
— Это не совсем то. Не воцерковленность на уровне «сходить к Матронушке», но это — вера, просто не вполне такая, как принято считать: у нас же считают, что если человек пришел к вере, то он поклоны бьет, умоляет простить, и такой весь в черном платке и черной юбке. Я — нет. Ни платков, ни юбки, ни поклонов. Но я стала относиться к жизни очень серьезно. Я передумала свою жизнь очень сильно, и за все, за что надо было попросить прощения, — прощения попросила.
— Этого не скажешь запросто. А, если скажешь, не прозвучит как-то важно или значительно: я стала проводить время по-другому. Я сейчас занята тем, что чувствую себя. Я живу. И живу, наконец, так, как хочу. Я читаю и перечитываю книги, которых я не читала, или думала, что читала: мне казалось, что по верхам — это достаточно. И вот я сижу у окна или перед камином, заваленная книжками и напитываюсь знаниями, которые мне по большому счету не особенно нужны. То есть, в практическом смысле вряд ли пригодятся. Но я жадно их впитываю. Я делаю это только для себя, это мне надо, мне важно. Хочешь — назови это самоудовлетворением, таким онанизмом, я не против. Мне даже нравится: я, быть может, впервые в жизни, делаю что-то только для внутреннего пользования, для себя.
— Ты ни с кем этим не делишься?
— Разумеется, есть некоторое количество собеседников, с которыми я обсуждаю прочитанное, нам хорошо и интересно. Но в основном — это все ради себя. Ты представить себе не можешь, как это классно.
— Раньше было не так?
— Было совсем по-другому. Я не чувствовала ни потребности, ни возможности остановиться и заглянуть в себя, остаться только собой и с собой. Сейчас это доставляет мне радость.
— Почему раньше не получалось?
— Думаю, потому, что я была все время на бегу, хотела везде успеть. А когда все время бежишь, мечешься, стараешься оказаться и там, и там, напомнить о себе, напомнить кому-то другому о чем-то важном, быть полезной и так далее, ты не успеваешь ощутить свет и покой, который совсем рядом. Он снисходит на тебя как столп света и покоя, стоит только остановиться и дать возможность. Это невероятное чувство.
— Похоже на описание обретения веры.
— Это не совсем то. Не воцерковленность на уровне «сходить к Матронушке», но это — вера, просто не вполне такая, как принято считать: у нас же считают, что если человек пришел к вере, то он поклоны бьет, умоляет простить, и такой весь в черном платке и черной юбке. Я — нет. Ни платков, ни юбки, ни поклонов. Но я стала относиться к жизни очень серьезно. Я передумала свою жизнь очень сильно, и за все, за что надо было попросить прощения, — прощения попросила.
— За что? У кого?
— У тех, кто встречался на пути. Я иногда очно, иногда заочно, иногда сама перед собой это делала. И мне стало легче. Я ощутила и признала себя частью коммунистической истории XX века, частью своей семьи.
Я разложила по полочкам всё: и своего дедушку, который, как в «Происхождении» Багрицкого, вышел из еврейского местечка и устремился на встречу советскому строю: в служил ЧОНе (ЧОН — части особого назначения, «коммунистические дружины» , «военно-партийные отряды», создававшиеся при заводских партийных организациях с 1917 по 1925 годы — Прим. «Правмир») и скакал по степям Южной Украины и Бессарабии. Я приняла всю его биографию, часть которой то, что наша фамилия Ясин, это ведь не фамилия, по сути, это дедушкино самоназвание, партийная кличка: «Ясин». Как Сталин или Ленин. А какая у него на самом деле фамилия, никто не помнит. Я поняла все про своих родителей и успокоилась по этому поводу. Кого надо, простила. Провела кропотливую работу над ошибками.
Это все не уместишь в простое словосочетание «пришла к вере», но что-то такое.
— Обычно в этом месте начинается рассказ про перевернувшее жизнь путешествие на Афон или что-то в этом духе.
— Нет. Никакого Афона не было. Мои перемены связаны с ведением дома, чтением пыльных книг и сменой приоритетов.
Я не то, чтобы логически дошла до своих внутренних перемен, просто как-то почувствовала, что именно в этой точке, в точке веры, я, возможно, обрету покой. Все это странно, в том числе и мне. Я же с детства такая урожденная атеистка. Атеисточка. Такими были мои мама с папой. Папа и сейчас убежденный атеист, антиклерикал, учивший меня с младых ногтей, что вера — это прибежище слабых и необразованных людей. Помню, как про одного нашего французского приятеля папа сказал: «Как интересно: умный человек, а верит». Я такую концепцию не то, чтобы разделяла и принимала, но я была в ней выращена и следовала этой логике. Я смотрела на верующих людей, которые окружали и окружают меня в большом количестве, — среди них мои подруги и люди, к которым я с огромным уважением отношусь, — и думала: «что надо почувствовать, чтобы понять, почему они верят и что их в этой вере удерживает?»
— Но ты — крещёная?
— Я во взрослом возрасте узнала, что я крещёная. Очень удивилась. Оказалось, что меня крестили моя бабушка и моя тетка, которая, в свою очередь, была крестницей моей бабушки. Эти две подвижницы христианские крестили меня в 1966 году. Кажется, что это такое время послабления было, но это не совсем так, точнее, не так во многих смыслах: за связи с церковью очень и очень можно было схлопотать.
— У тех, кто встречался на пути. Я иногда очно, иногда заочно, иногда сама перед собой это делала. И мне стало легче. Я ощутила и признала себя частью коммунистической истории XX века, частью своей семьи.
Я разложила по полочкам всё: и своего дедушку, который, как в «Происхождении» Багрицкого, вышел из еврейского местечка и устремился на встречу советскому строю: в служил ЧОНе (ЧОН — части особого назначения, «коммунистические дружины» , «военно-партийные отряды», создававшиеся при заводских партийных организациях с 1917 по 1925 годы — Прим. «Правмир») и скакал по степям Южной Украины и Бессарабии. Я приняла всю его биографию, часть которой то, что наша фамилия Ясин, это ведь не фамилия, по сути, это дедушкино самоназвание, партийная кличка: «Ясин». Как Сталин или Ленин. А какая у него на самом деле фамилия, никто не помнит. Я поняла все про своих родителей и успокоилась по этому поводу. Кого надо, простила. Провела кропотливую работу над ошибками.
Это все не уместишь в простое словосочетание «пришла к вере», но что-то такое.
— Обычно в этом месте начинается рассказ про перевернувшее жизнь путешествие на Афон или что-то в этом духе.
— Нет. Никакого Афона не было. Мои перемены связаны с ведением дома, чтением пыльных книг и сменой приоритетов.
Я не то, чтобы логически дошла до своих внутренних перемен, просто как-то почувствовала, что именно в этой точке, в точке веры, я, возможно, обрету покой. Все это странно, в том числе и мне. Я же с детства такая урожденная атеистка. Атеисточка. Такими были мои мама с папой. Папа и сейчас убежденный атеист, антиклерикал, учивший меня с младых ногтей, что вера — это прибежище слабых и необразованных людей. Помню, как про одного нашего французского приятеля папа сказал: «Как интересно: умный человек, а верит». Я такую концепцию не то, чтобы разделяла и принимала, но я была в ней выращена и следовала этой логике. Я смотрела на верующих людей, которые окружали и окружают меня в большом количестве, — среди них мои подруги и люди, к которым я с огромным уважением отношусь, — и думала: «что надо почувствовать, чтобы понять, почему они верят и что их в этой вере удерживает?»
— Но ты — крещёная?
— Я во взрослом возрасте узнала, что я крещёная. Очень удивилась. Оказалось, что меня крестили моя бабушка и моя тетка, которая, в свою очередь, была крестницей моей бабушки. Эти две подвижницы христианские крестили меня в 1966 году. Кажется, что это такое время послабления было, но это не совсем так, точнее, не так во многих смыслах: за связи с церковью очень и очень можно было схлопотать.
Не надо бояться. Господь управит
— Что это значит?
— Когда моя болезнь усадила меня в кресло, а я совсем не была к этому готова, никакого смирения во мне не было. И тут, в какой-то момент, рядом со мной появилась Лена. Лена Воскобойникова. Мама прекрасной красавицы Жени Воскобойниковой, воронежской модели, которую случайное трагическое происшествие сделало инвалидом. И Ленка провела годы жизни у постели своей дочери, ухаживая, помогая сесть, выйти из квартиры, как-то жить. И вот, Женька уже выписалась из больницы, переехали в Москву, Женя пошла на работу, стала телеведущей. И у неё как-то стала налаживаться прекрасная своя жизнь.
А Ленка поняла, что дочери стало лучше, значит она — свободна. И она нашла себе служение. Нашла себе меня, стала помогать мне. Понимаешь? Я никогда в жизни не заплатила ей ни копейки. Мы с ней мотались по всей стране и за границу, на работу, на какие-то встречи, еще куда-то. Она всегда была при мне, рядом. Но это было не за деньги, это не было для нее работой в привычном понимании этого слова. Это было служение. Она служила мне и была через это служение благодарна за то, что что-то произошло, что-то спустилось в ее жизнь. Лена — простая русская женщина с высшим образованием, инженер-электронщик оборонного предприятия со статусом «совершенно секретно». И часто в самых запутанных и нерешаемых ситуациях, да и в самых обыкновенных, но с неопределёнными концом она произносила: «Господь управит». Я долго не врубалась, что это, как управит, кем, кому. Но постепенно до меня стал доходить смысл. Это такое очень народное, не высоколобое христианство. Вера, позволяющая человеку не сопротивляться, но принимать ниспосланное с благодарностью. Это умение видеть свет и обретать покой, не дергаться, а доверяться. Вот что значит «Господь управит».
И когда я это приняла, то поняла, что я не знаю, есть ли жизнь после смерти, нету ее, есть рай — нет, но существует нечто нематериальное, что называют душой, и что Вернадский гениально сформулировал как ноосфера. Оно продолжает жить после нас. Какие-то твои слова, какие-то твои заповеди, которые ты оставил своим детям или своим ученикам, или своим подругам, которые передали это своим детям — в этом ты живой и бессмертный. Материальная жизнь — вот мы сейчас с тобой сидим у камина — она закончится, она конечна. Но жизнь твоих идей и жизнь твоих детей, по сути, бесконечна.
— Когда моя болезнь усадила меня в кресло, а я совсем не была к этому готова, никакого смирения во мне не было. И тут, в какой-то момент, рядом со мной появилась Лена. Лена Воскобойникова. Мама прекрасной красавицы Жени Воскобойниковой, воронежской модели, которую случайное трагическое происшествие сделало инвалидом. И Ленка провела годы жизни у постели своей дочери, ухаживая, помогая сесть, выйти из квартиры, как-то жить. И вот, Женька уже выписалась из больницы, переехали в Москву, Женя пошла на работу, стала телеведущей. И у неё как-то стала налаживаться прекрасная своя жизнь.
А Ленка поняла, что дочери стало лучше, значит она — свободна. И она нашла себе служение. Нашла себе меня, стала помогать мне. Понимаешь? Я никогда в жизни не заплатила ей ни копейки. Мы с ней мотались по всей стране и за границу, на работу, на какие-то встречи, еще куда-то. Она всегда была при мне, рядом. Но это было не за деньги, это не было для нее работой в привычном понимании этого слова. Это было служение. Она служила мне и была через это служение благодарна за то, что что-то произошло, что-то спустилось в ее жизнь. Лена — простая русская женщина с высшим образованием, инженер-электронщик оборонного предприятия со статусом «совершенно секретно». И часто в самых запутанных и нерешаемых ситуациях, да и в самых обыкновенных, но с неопределёнными концом она произносила: «Господь управит». Я долго не врубалась, что это, как управит, кем, кому. Но постепенно до меня стал доходить смысл. Это такое очень народное, не высоколобое христианство. Вера, позволяющая человеку не сопротивляться, но принимать ниспосланное с благодарностью. Это умение видеть свет и обретать покой, не дергаться, а доверяться. Вот что значит «Господь управит».
И когда я это приняла, то поняла, что я не знаю, есть ли жизнь после смерти, нету ее, есть рай — нет, но существует нечто нематериальное, что называют душой, и что Вернадский гениально сформулировал как ноосфера. Оно продолжает жить после нас. Какие-то твои слова, какие-то твои заповеди, которые ты оставил своим детям или своим ученикам, или своим подругам, которые передали это своим детям — в этом ты живой и бессмертный. Материальная жизнь — вот мы сейчас с тобой сидим у камина — она закончится, она конечна. Но жизнь твоих идей и жизнь твоих детей, по сути, бесконечна.
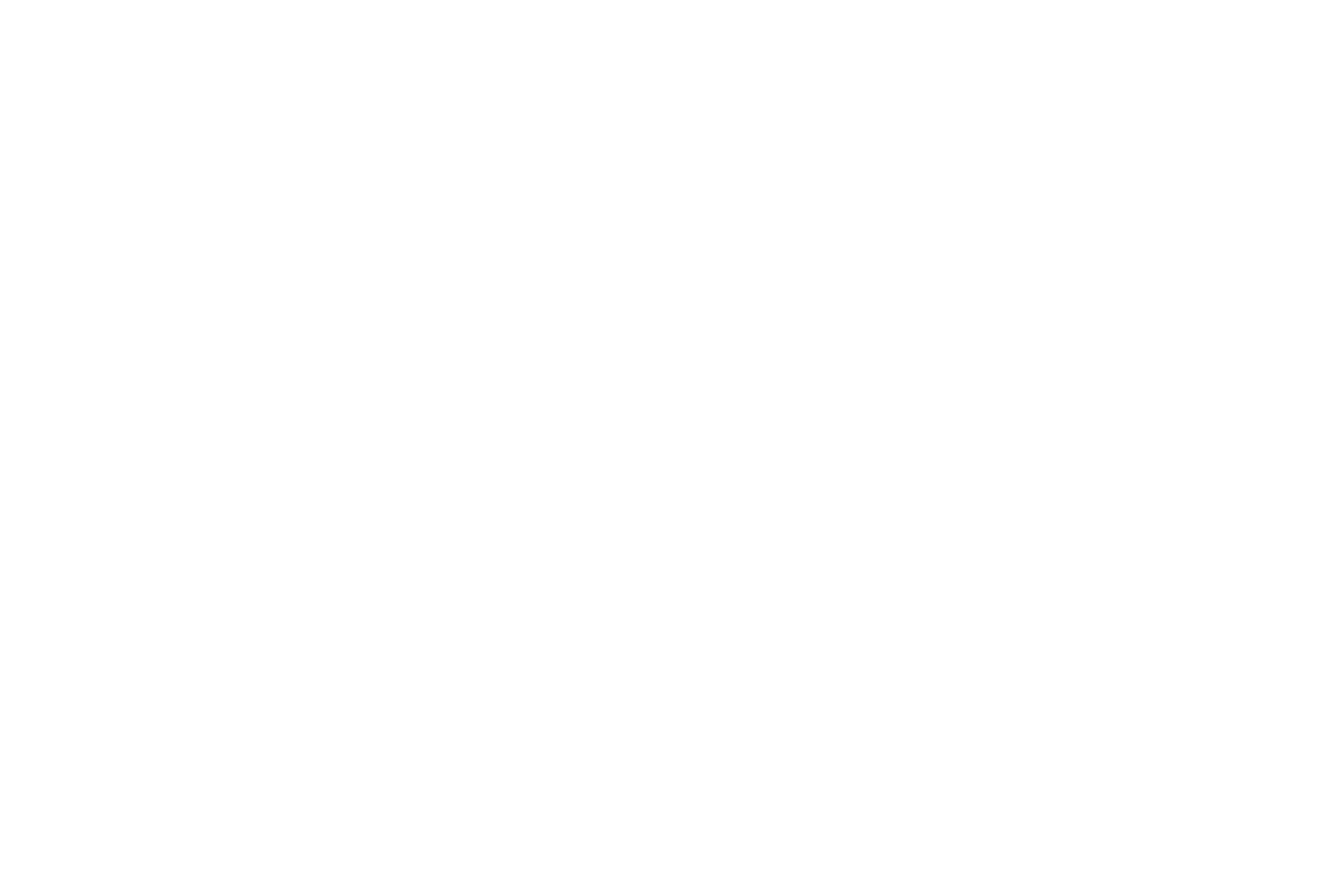
Приходит кошка Нора. Серая, немолчаливая (все время о чем-то мурлычит себе под нос), с трогательно опущенными ушами, довольно пушистая. Аккуратно проходит по креслу, в котором сидит Ясина, по-свойски задевает ее щеку хвостом. И уходит. Ложится на диван, над которым за годы ясинской болезни разрослась целая стена фотографий: родители и их родители, дети и годы их взросления, замершие мгновения прошлой жизни, естественным образом упирающиеся в настоящее. В 2013-м году, когда я впервые попала в дом к Ясиной, стена с фотографиями была практически пустой. Кошка, впрочем, уже была.
Незадолго до публикации этого интервью Норы не стало. «Сегодня ушла на радугу моя любимая, родная и самая лучшая девочка Нора. Произошло это внезапно. Врачи говорят, что тромб. Подробностей не расскажу. Тяжело. Чтобы дальше дышать, мы поехали и купили ещё двух котов. Маленьких, весёлых. Один похож на Нору расцветкой, другая — характером. Соломон и Мышка. Пройдёт много времени пока я к ним привыкну», — напишет Ясина в своем фейсбуке.
Незадолго до публикации этого интервью Норы не стало. «Сегодня ушла на радугу моя любимая, родная и самая лучшая девочка Нора. Произошло это внезапно. Врачи говорят, что тромб. Подробностей не расскажу. Тяжело. Чтобы дальше дышать, мы поехали и купили ещё двух котов. Маленьких, весёлых. Один похож на Нору расцветкой, другая — характером. Соломон и Мышка. Пройдёт много времени пока я к ним привыкну», — напишет Ясина в своем фейсбуке.

— Почему тебе стало важно, чтобы рядом были животные: кот, белка, птицы, с которыми ты говоришь и о которых ты пишешь, смена времен года, что происходит за твоим окном, — это теперь составляет смысл твоей жизни?
— Оказалось, что это — ужасно важно. Жизнь, на самом деле, в высшем своем смысле, сводится к белке или к коту! И это неплохо. С ними интересно, и про них — интересно. Но наблюдать это можно только из состояния покоя. На бегу все мелькает, ничего не разберешь. Конечно, я остановилась не сама по себе. Течение болезни заставило меня остановиться: мне стало тяжело бегать и вести прежний образ жизни. И пришлось переформулировать жизненную философию: раньше я хотела жить ярко, теперь я хочу жить долго. Когда я поняла, что если я не прекращу все эти поездки, суету и беготню, я не потяну свою жизнь. Процесс моего рассеянного склероза идет и не останавливается, но он будет идти быстрее, если я не остановлюсь. И тогда у меня не будет возможности даже просто сидеть у окна, смотреть в камин, на снег, на расцветающие цветы, потом — цветущие, потом — увядающие и снова снег. А смотреть хочется!
Ведь вдруг оказалось, что сидеть, замерев — тоже страшно интересно. Ты меня не поймешь, просто поверь: когда сидишь на попе ровно и не суетишься, в голову приходят довольно интересные, но очень спокойные мысли. Я сейчас с содроганием вспоминаю, какие у меня были приступы паники.
— С чем они были связаны?
— В моем состоянии они могли бы быть связаны с чем угодно, с любым намеком на будущее. Я ярко помню, в каком ужасе я была, когда началась война на Донбассе и гонения на Украину и украинцев в России. Это 2014 год. Я поняла: сейчас перестанут пускать украинцев в Москву. И пришла в ужас: все мои сиделки — украинки. И это не какие-то случайные чужие люди. Это практически члены моей семьи: мои подруги их знают и любят, поздравляют с днями рождения, у них есть их телефоны, то есть это уже прорастание друг в друга. Но главное в том, что мои сиделки — одна из причин, почему мне было позволено, чтобы на меня снизошел покой: с ними мне стало надежно и жизнь оказалось той, которой можно жить. Я привыкла к ним, они — ко мне. И ситуация, когда из-за всей этой геополитики они могли бы исчезнуть, поменяться — была действительно страшно нервная. Здоровому трудно понять: когда меняется сиделка, меняется весь ход жизни. Понятно, что рано или поздно они сменятся: они живые люди, у них растут дети и стареют родители. Но это естественный ход событий. А нахождение этих женщин рядом со мной дает мне обалденное ощущение спокойствия и нерушимости моего мира. Мы живем рядом, у нас отношения, мы миримся друг с другом. Вот, на дне рождения Горбачева, Люда говорит: «А можно мне с Собчак сфотографироваться?». И меня это не бесит, и она не стесняется и не боится мне об этом сказать, попросить.
— Когда ты руководила пресс-службой Центробанка тебе гораздо более невинные вещи боялись сказать гораздо более бойкие люди.
— Это понятно: я же в битве была, я билась с миром, за мир. И совершенно не собиралась, да что там — и помыслить не могла, что когда-либо пожелаю остановиться. Но я остановилась. Хотя мне все еще интересно наблюдать. Это — во-первых. А во-вторых, все еще есть некоторое количество людей, которым я нужна и могу помочь.
— Оказалось, что это — ужасно важно. Жизнь, на самом деле, в высшем своем смысле, сводится к белке или к коту! И это неплохо. С ними интересно, и про них — интересно. Но наблюдать это можно только из состояния покоя. На бегу все мелькает, ничего не разберешь. Конечно, я остановилась не сама по себе. Течение болезни заставило меня остановиться: мне стало тяжело бегать и вести прежний образ жизни. И пришлось переформулировать жизненную философию: раньше я хотела жить ярко, теперь я хочу жить долго. Когда я поняла, что если я не прекращу все эти поездки, суету и беготню, я не потяну свою жизнь. Процесс моего рассеянного склероза идет и не останавливается, но он будет идти быстрее, если я не остановлюсь. И тогда у меня не будет возможности даже просто сидеть у окна, смотреть в камин, на снег, на расцветающие цветы, потом — цветущие, потом — увядающие и снова снег. А смотреть хочется!
Ведь вдруг оказалось, что сидеть, замерев — тоже страшно интересно. Ты меня не поймешь, просто поверь: когда сидишь на попе ровно и не суетишься, в голову приходят довольно интересные, но очень спокойные мысли. Я сейчас с содроганием вспоминаю, какие у меня были приступы паники.
— С чем они были связаны?
— В моем состоянии они могли бы быть связаны с чем угодно, с любым намеком на будущее. Я ярко помню, в каком ужасе я была, когда началась война на Донбассе и гонения на Украину и украинцев в России. Это 2014 год. Я поняла: сейчас перестанут пускать украинцев в Москву. И пришла в ужас: все мои сиделки — украинки. И это не какие-то случайные чужие люди. Это практически члены моей семьи: мои подруги их знают и любят, поздравляют с днями рождения, у них есть их телефоны, то есть это уже прорастание друг в друга. Но главное в том, что мои сиделки — одна из причин, почему мне было позволено, чтобы на меня снизошел покой: с ними мне стало надежно и жизнь оказалось той, которой можно жить. Я привыкла к ним, они — ко мне. И ситуация, когда из-за всей этой геополитики они могли бы исчезнуть, поменяться — была действительно страшно нервная. Здоровому трудно понять: когда меняется сиделка, меняется весь ход жизни. Понятно, что рано или поздно они сменятся: они живые люди, у них растут дети и стареют родители. Но это естественный ход событий. А нахождение этих женщин рядом со мной дает мне обалденное ощущение спокойствия и нерушимости моего мира. Мы живем рядом, у нас отношения, мы миримся друг с другом. Вот, на дне рождения Горбачева, Люда говорит: «А можно мне с Собчак сфотографироваться?». И меня это не бесит, и она не стесняется и не боится мне об этом сказать, попросить.
— Когда ты руководила пресс-службой Центробанка тебе гораздо более невинные вещи боялись сказать гораздо более бойкие люди.
— Это понятно: я же в битве была, я билась с миром, за мир. И совершенно не собиралась, да что там — и помыслить не могла, что когда-либо пожелаю остановиться. Но я остановилась. Хотя мне все еще интересно наблюдать. Это — во-первых. А во-вторых, все еще есть некоторое количество людей, которым я нужна и могу помочь.
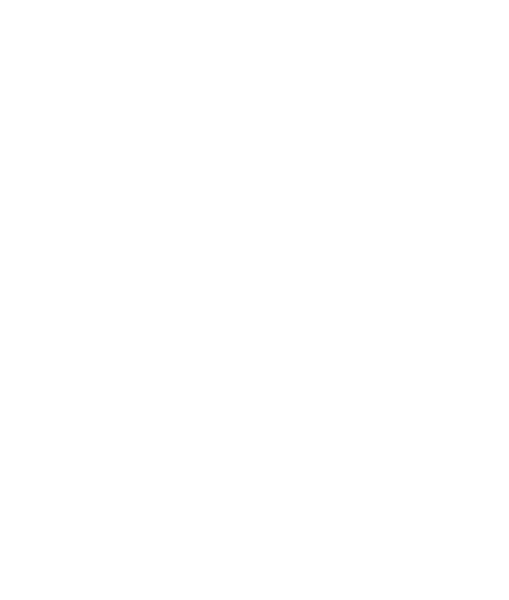
— Например?
— У меня есть некоторое количество подопечных юных барышень, которым я помогаю, начиная со здоровья и заканчивая тем, что одной девочке, которая у меня работала в РИА «Новости», я, когда она собралась замуж, приданое собирала. Их у меня есть человек шесть или семь. Одна из них, к примеру, чудесно закончила вуз, работала в какой-то из компаний большой четверки, все у нее было классно, но ей это не нравилось. Вышла замуж, еще больше всё разонравилось. Тогда она с мужем развелась и уехала в Таиланд учиться тайскому массажу. Выучилась, стала работать, все сделалось замечательно, прямо как она хотела: покой, мир и тайский массаж. А потом — остеосаркома в 31 год, причем дикой площади поражения: тазовая кость, крестец и вся левая часть жопы. И как это соединить с тем, что она никаким образом не подходит ни одному благотворительному фонду, который мог бы помочь? Что никого у нее нет и никто не будет ею заниматься? Как все это принять, особенно учитывая классность самой этой девочки?
Причем, сделать, увы, нельзя ничего. Она была на Каширке, ей сказали, что нужно отрезать задницу. И это единственное, что может продлить жизнь, но качество жизни, естественно, будет примитивное, потому что это крестец, то есть, нервные пучки. Ноги сразу повиснут, органы малого таза перестанут работать. Но это жизнь. Такой выбор.
— Что она решила?
— Она решила пробовать всякие тайские и индийские аюрведы. Я нашла ей на это столько денег, сколько было надо, потому что человек должен делать то, что он считает нужным. Потому что у нее должно быть право совершить ошибки, свои собственные. Даже если это будет стоить ей жизни.
— Ты говорила с ней о том, что такой выбор действительно может стоить жизни?
— И да, и нет. С ней говорили врачи. Моя роль тут такая, что я просто должна принять ее решение. Без осуждения и попытки ее воспитывать.
— Чем все кончилось?
— Еще пока ничем. Она жива, но с болями. Лежала недавно в аюрведической клинике, на которую требовалось 110 тысяч рублей. Я нашла ей эти деньги. Туда она ушла на костылях, оттуда — своими ногами. Но боли есть, это плохо. Посмотрим, что будет дальше.
— У меня есть некоторое количество подопечных юных барышень, которым я помогаю, начиная со здоровья и заканчивая тем, что одной девочке, которая у меня работала в РИА «Новости», я, когда она собралась замуж, приданое собирала. Их у меня есть человек шесть или семь. Одна из них, к примеру, чудесно закончила вуз, работала в какой-то из компаний большой четверки, все у нее было классно, но ей это не нравилось. Вышла замуж, еще больше всё разонравилось. Тогда она с мужем развелась и уехала в Таиланд учиться тайскому массажу. Выучилась, стала работать, все сделалось замечательно, прямо как она хотела: покой, мир и тайский массаж. А потом — остеосаркома в 31 год, причем дикой площади поражения: тазовая кость, крестец и вся левая часть жопы. И как это соединить с тем, что она никаким образом не подходит ни одному благотворительному фонду, который мог бы помочь? Что никого у нее нет и никто не будет ею заниматься? Как все это принять, особенно учитывая классность самой этой девочки?
Причем, сделать, увы, нельзя ничего. Она была на Каширке, ей сказали, что нужно отрезать задницу. И это единственное, что может продлить жизнь, но качество жизни, естественно, будет примитивное, потому что это крестец, то есть, нервные пучки. Ноги сразу повиснут, органы малого таза перестанут работать. Но это жизнь. Такой выбор.
— Что она решила?
— Она решила пробовать всякие тайские и индийские аюрведы. Я нашла ей на это столько денег, сколько было надо, потому что человек должен делать то, что он считает нужным. Потому что у нее должно быть право совершить ошибки, свои собственные. Даже если это будет стоить ей жизни.
— Ты говорила с ней о том, что такой выбор действительно может стоить жизни?
— И да, и нет. С ней говорили врачи. Моя роль тут такая, что я просто должна принять ее решение. Без осуждения и попытки ее воспитывать.
— Чем все кончилось?
— Еще пока ничем. Она жива, но с болями. Лежала недавно в аюрведической клинике, на которую требовалось 110 тысяч рублей. Я нашла ей эти деньги. Туда она ушла на костылях, оттуда — своими ногами. Но боли есть, это плохо. Посмотрим, что будет дальше.
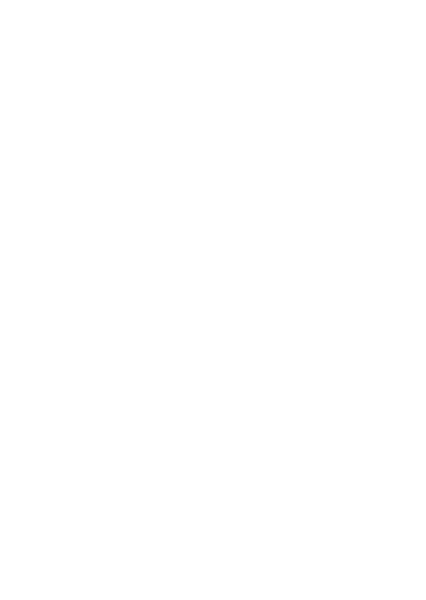
Становится совсем темно. Белку не видно, а кошка ушла спать. Окно сделалось черным квадратом, в котором отражается оранжевый язык камина. Тихим голосом Ясина учит меня переворачивать внутри камина поленья, чтобы они лучше и дольше горели. То есть, она, сидя в кресле, говорит, а я — делаю. Ее указания короткие, четкие и понятные. Их легко выполнять: «Захвати посередине среднюю деревяшку, вынь ее и постарайся аккуратно, ближе к стенке положить наверх. Молодец, у тебя здорово выходит для первого раза!», — говорит она. И я собой горжусь. Но тайком думаю: «Откуда, интересно, она знает, как переворачивать эти поленья? Она же никогда сама их не переворачивала!» Камин в этом доме стал действовать уже после того, как у Ирины Ясиной перестали действовать руки.
«Принеси, вот там свечки стоят на полке, — говорит она, — поставь на столик. Смотри, какие гениальные свечи. Когда две вместе складываешь — получается Иерусалим. Мне их подарила вчера Ирина, дочка Святослава Федорова. Была в гостях». Свечи загораются. Если очень сильно постараться и напрячь воображение, они действительно похожи на Иерусалим. Пламя от свечей двоится и троится черном окне. Какое-то время мы за этим просто молча наблюдаем.
«Принеси, вот там свечки стоят на полке, — говорит она, — поставь на столик. Смотри, какие гениальные свечи. Когда две вместе складываешь — получается Иерусалим. Мне их подарила вчера Ирина, дочка Святослава Федорова. Была в гостях». Свечи загораются. Если очень сильно постараться и напрячь воображение, они действительно похожи на Иерусалим. Пламя от свечей двоится и троится черном окне. Какое-то время мы за этим просто молча наблюдаем.
— Ты убрала свои туфли с книжной полки?
— Нет, они там так и стоят. Только книжная полка переехала. Вместе со всеми книгами, которых стало много больше — она уехала в гараж. Там тепло и уютно.
— А туфли?
— Туфли уехали вместе с книгами.
— Ты таким образом подвела какую-то черту?
— Я не ставила перед собой именно такую задачу. Так само собой получилось. Сначала у меня была беспомощность и дикая злость на то, что я молодая; и зависть, что все кругом могут, а я уже не могу. Но я с этим справилась. Было непросто: пару лет помучавшись вопросом «за что?», я довольно быстро переформулировала его в «для чего?». Ответы на этот вопрос до сих пор дают возможность двигаться.
— Почему болезнь, которая, по идее, должна лишать почвы под ногами, часто делает людей лучше, а некоторым — вообще позволяет переродиться?
— То, у чего нет логического объяснения, надо просто принимать. Иногда болезнь действительно творит чудеса. Например, на моих глазах, рядом со мной болела великая Катя Гениева. Мы запомнили ее такой, какой она была уже в болезни. Но я хорошо помню, какой — до. Помню наше первое знакомство: она тогда была настоящей Екатериной Великой. Царствовала в библиотеке, распоряжалась деньгами Фонда Сороса в России, делала невероятные по вкладу в будущее и по размаху и замыслу вещи. Но и бытовое величие ее было невообразимым: людей она почти не различала. Помню, это был примерно 2001-й год, я пришла к Гениевой с идеей о том, чтобы проект Ходорковского «Открытая Россия» стал правопреемником соросовского проекта «Открытое общество»; Сорос тогда уходил из России. Катя тогда вскинула бровь: «Что, Ходорковский? Дайте лупу». Короче, к ней было ни подойти-ни подъехать.
Заболев, Катя стала другой. Болезнь ее очень изменила. Мы с ней очень много общались. Болела она страшно тяжело, но с восхитительным достоинством и невероятной, непостижимой для обыкновенного человеческого ума внутренней работой и скоростью, насыщенностью жизни.
Для меня эта история важна еще и тем, что у Кати был тот же рак, что у моей мамы — неизлечимый, стремительный рак яичников, такая свирепая форма. Маме было отпущено два с половиной года. Катя выбрала болеть на бегу и сгорела быстрее: она наметила себе какой-то бесконечный список дел, которые надо сделать, проблем, которые надо было исправить. И она бежала. За всю свою невероятную жизнь, плюс вот эти вот год и девять месяцев болезни Гениева успела как следует наследить в ноосфере. Ей удалось изменить мир. Книжки, которые выпускал институт «Открытое общество» до сих пор есть по всем библиотекам страны. Они помогли России выжить двадцать лет назад и помогут еще обязательно, в будущем. Еще не раз и не два о них вспомнят, поверь. С таким послужным списком умирать не страшно вообще.
После Катиной смерти мы дружим с ее мужем Юрочкой, бесконечно в Катю до сих пор влюбленным, живущим памятью о ней. Я звоню ему иногда: «Юрочка, как ты?» И мы разговариваем. Эти обязательства — часть повседневной жизни. Но не только. Например, Юрочка отвез меня в Семхоз, где стоит их с Катей дача. Я там с приятельницей пару дней жила. Это рядом с тем местом, где убили отца Александра Меня. Там теперь стоит церковь, расписанная невероятным отцом Зиноном. Офигенное место. Строить эту церковь помогал сын Меня, Михаил, бывший прежде губернатором Ивановской области, а до нынешних перестановок в правительстве, — министром строительства и ЖКХ России. Служит там отец Виктор Григоренко, который вырос в доме Меня, потому что он племянник его жены. Виктор рос вместе с Михаилом, они ровесники. Но Миша пошел в одну сторону, а Виктор, закончив абрамцевские художественные курсы, пошел в семинарию. Теперь вот служит в этой церкви на месте убийства отца Александра. Там, в этой церкви, все очень круто: можно сидеть, лавки стоят; ходят люди какие-то человеческие, светлые, с ними можно говорить.
Но самое главное: Юрочка дал мне почитать всего Александра Меня. И Катя Гениева и Юра, они с отцом Александром очень дружили, были близки, он их венчал. Я начала с «Истории религий», потому что я вообще-то всю жизнь хотела быть историком. Вот какой поворот.
— Нет, они там так и стоят. Только книжная полка переехала. Вместе со всеми книгами, которых стало много больше — она уехала в гараж. Там тепло и уютно.
— А туфли?
— Туфли уехали вместе с книгами.
— Ты таким образом подвела какую-то черту?
— Я не ставила перед собой именно такую задачу. Так само собой получилось. Сначала у меня была беспомощность и дикая злость на то, что я молодая; и зависть, что все кругом могут, а я уже не могу. Но я с этим справилась. Было непросто: пару лет помучавшись вопросом «за что?», я довольно быстро переформулировала его в «для чего?». Ответы на этот вопрос до сих пор дают возможность двигаться.
— Почему болезнь, которая, по идее, должна лишать почвы под ногами, часто делает людей лучше, а некоторым — вообще позволяет переродиться?
— То, у чего нет логического объяснения, надо просто принимать. Иногда болезнь действительно творит чудеса. Например, на моих глазах, рядом со мной болела великая Катя Гениева. Мы запомнили ее такой, какой она была уже в болезни. Но я хорошо помню, какой — до. Помню наше первое знакомство: она тогда была настоящей Екатериной Великой. Царствовала в библиотеке, распоряжалась деньгами Фонда Сороса в России, делала невероятные по вкладу в будущее и по размаху и замыслу вещи. Но и бытовое величие ее было невообразимым: людей она почти не различала. Помню, это был примерно 2001-й год, я пришла к Гениевой с идеей о том, чтобы проект Ходорковского «Открытая Россия» стал правопреемником соросовского проекта «Открытое общество»; Сорос тогда уходил из России. Катя тогда вскинула бровь: «Что, Ходорковский? Дайте лупу». Короче, к ней было ни подойти-ни подъехать.
Заболев, Катя стала другой. Болезнь ее очень изменила. Мы с ней очень много общались. Болела она страшно тяжело, но с восхитительным достоинством и невероятной, непостижимой для обыкновенного человеческого ума внутренней работой и скоростью, насыщенностью жизни.
Для меня эта история важна еще и тем, что у Кати был тот же рак, что у моей мамы — неизлечимый, стремительный рак яичников, такая свирепая форма. Маме было отпущено два с половиной года. Катя выбрала болеть на бегу и сгорела быстрее: она наметила себе какой-то бесконечный список дел, которые надо сделать, проблем, которые надо было исправить. И она бежала. За всю свою невероятную жизнь, плюс вот эти вот год и девять месяцев болезни Гениева успела как следует наследить в ноосфере. Ей удалось изменить мир. Книжки, которые выпускал институт «Открытое общество» до сих пор есть по всем библиотекам страны. Они помогли России выжить двадцать лет назад и помогут еще обязательно, в будущем. Еще не раз и не два о них вспомнят, поверь. С таким послужным списком умирать не страшно вообще.
После Катиной смерти мы дружим с ее мужем Юрочкой, бесконечно в Катю до сих пор влюбленным, живущим памятью о ней. Я звоню ему иногда: «Юрочка, как ты?» И мы разговариваем. Эти обязательства — часть повседневной жизни. Но не только. Например, Юрочка отвез меня в Семхоз, где стоит их с Катей дача. Я там с приятельницей пару дней жила. Это рядом с тем местом, где убили отца Александра Меня. Там теперь стоит церковь, расписанная невероятным отцом Зиноном. Офигенное место. Строить эту церковь помогал сын Меня, Михаил, бывший прежде губернатором Ивановской области, а до нынешних перестановок в правительстве, — министром строительства и ЖКХ России. Служит там отец Виктор Григоренко, который вырос в доме Меня, потому что он племянник его жены. Виктор рос вместе с Михаилом, они ровесники. Но Миша пошел в одну сторону, а Виктор, закончив абрамцевские художественные курсы, пошел в семинарию. Теперь вот служит в этой церкви на месте убийства отца Александра. Там, в этой церкви, все очень круто: можно сидеть, лавки стоят; ходят люди какие-то человеческие, светлые, с ними можно говорить.
Но самое главное: Юрочка дал мне почитать всего Александра Меня. И Катя Гениева и Юра, они с отцом Александром очень дружили, были близки, он их венчал. Я начала с «Истории религий», потому что я вообще-то всю жизнь хотела быть историком. Вот какой поворот.

— А почему экономистом стала?
— Потому что папа с мамой мне сказали: «Если ты пойдешь на исторический, мы не сможем тебе помочь. Ты что, хочешь быть учителем в школе?»
— В смысле — помочь?
— Ну пропихнуть куда-то, помочь с работой после университета.
— И ты послушала и пошла на экономический?
— Я перепугалась: каким учителем? Я — учителем? И сделала так, как мне сказали. Это было рационально. И очень в духе того времени, тех представлений о том, что правильно, что — нет. У меня перед глазами был пример моих родителей, которые выстроили вполне нормальную жизнь при социализме: они работали в экономических институтах при Академии наук, где можно было куда более свободно дышать, чем институтах марксизма-ленинизма. Так что выбор был очевиден, а их предложение — разумным.
Я закончила ту же кафедру, что и моя мама на экономическом факультете МГУ. У меня была специализация «экономика Польши». Во времена моей юности это было гарантией того, что я два-три раза в год буду ездить на ярмарки в польскую Познань, работать там переводчиком, за что мне будут платить чеками Внешпосылторга. Чеки с синей полосой — то есть, валюта соцстран — ценились меньше чеков без полосы, которые были эквивалентом валюты капстран, но на них тоже кое-что можно было купить в «Березке» (существовавший в СССР закрытый магазин, в котором можно было купить товары иностранного производства за чеки — прим. «Правмир»).
— В Познани ты в итоге побывала?
— Я поступила на польское отделение экономфака летом 1981-м года. 13 декабря 1981-го года в Польше ввели военное положение. И уже никакой ярмарки в Познани мне не светило.
Через два года меня выпустили в ГДР в составе группы студентов экономического факультета на производственно-ознакомительную практику. Мы ехали через Польшу, но нам не разрешали открывать окна и выходить на перрон ни в Варшаве, ни в Познани. При этом в Варшаве поезд стоял 40 минут на главном вокзале, который стоит аккурат в конце Иерузолимске аллеи, главной улицы города... А я же знала по учебникам всю географию Варшавы, я с закрытыми глазами там бы сориентировалась! Но нас не выпустили. Это был уже 1984 год. До конца социализма оставалось совсем чуть-чуть.
Через год, спасибо Михаилу Сергеевичу Горбачеву, наступит перестройка. И когда в 1986 году я получу диплом с надписью «преподаватель политэкономии», у меня не будет необходимости работать по этой специальности ни секунды. И я с радостью этой возможностью воспользуюсь! Тем более, что довольно хитрым образом за годы своего обучения я умудрилась так ни разу и не открыть «Капитал» и не прочесть его.
— Потому что папа с мамой мне сказали: «Если ты пойдешь на исторический, мы не сможем тебе помочь. Ты что, хочешь быть учителем в школе?»
— В смысле — помочь?
— Ну пропихнуть куда-то, помочь с работой после университета.
— И ты послушала и пошла на экономический?
— Я перепугалась: каким учителем? Я — учителем? И сделала так, как мне сказали. Это было рационально. И очень в духе того времени, тех представлений о том, что правильно, что — нет. У меня перед глазами был пример моих родителей, которые выстроили вполне нормальную жизнь при социализме: они работали в экономических институтах при Академии наук, где можно было куда более свободно дышать, чем институтах марксизма-ленинизма. Так что выбор был очевиден, а их предложение — разумным.
Я закончила ту же кафедру, что и моя мама на экономическом факультете МГУ. У меня была специализация «экономика Польши». Во времена моей юности это было гарантией того, что я два-три раза в год буду ездить на ярмарки в польскую Познань, работать там переводчиком, за что мне будут платить чеками Внешпосылторга. Чеки с синей полосой — то есть, валюта соцстран — ценились меньше чеков без полосы, которые были эквивалентом валюты капстран, но на них тоже кое-что можно было купить в «Березке» (существовавший в СССР закрытый магазин, в котором можно было купить товары иностранного производства за чеки — прим. «Правмир»).
— В Познани ты в итоге побывала?
— Я поступила на польское отделение экономфака летом 1981-м года. 13 декабря 1981-го года в Польше ввели военное положение. И уже никакой ярмарки в Познани мне не светило.
Через два года меня выпустили в ГДР в составе группы студентов экономического факультета на производственно-ознакомительную практику. Мы ехали через Польшу, но нам не разрешали открывать окна и выходить на перрон ни в Варшаве, ни в Познани. При этом в Варшаве поезд стоял 40 минут на главном вокзале, который стоит аккурат в конце Иерузолимске аллеи, главной улицы города... А я же знала по учебникам всю географию Варшавы, я с закрытыми глазами там бы сориентировалась! Но нас не выпустили. Это был уже 1984 год. До конца социализма оставалось совсем чуть-чуть.
Через год, спасибо Михаилу Сергеевичу Горбачеву, наступит перестройка. И когда в 1986 году я получу диплом с надписью «преподаватель политэкономии», у меня не будет необходимости работать по этой специальности ни секунды. И я с радостью этой возможностью воспользуюсь! Тем более, что довольно хитрым образом за годы своего обучения я умудрилась так ни разу и не открыть «Капитал» и не прочесть его.
— А Библию ты читала?
— Нет. У меня нет в этом внутренней потребности. Я, как тебе говорила, читаю Меня. Слава Богу, он довольно подробно написал обо всем что есть в Ветхом Завете, что есть в Новом Завете. Его книга «Сын человеческий» написана человеческим языком. Я ее с удовольствием прочитала. Понимаешь, я не говорю, что я никогда не прочитаю Библию, всякое может произойти, любой поворот. Хотя Ветхий Завет, наверное, никогда читать не буду. А вот «Историю религии» Меня про Ветхий Завет и всех этих пророков прочитала с огромным интересом, даже закладочки сделала, чтобы потом пересмотреть все тематические художественные произведения, что есть в мировых музеях (благо, теперь это можно сделать электронным способом).
Мне страшно нравится, что в меневском описании все ветхозаветные пророки описаны как кто-то, кто на шаг или полшага приближается к тому пониманию любви, о каком в Нагорной проповеди говорит Иисус. То есть, не то, что они были неправы или были какими-то не такими. Они просто еще не дошли, им еще — не дано. Потребуется много времени, чтобы до чего-то дойти, что-то понять, на какую-то ступень подняться. Это очень понятная идея, которая и сейчас может быть применена, к нашим временам. Ведь среди нас, в нашем, в каком-то смысле, ветхозаветном времени появляются (и появлялись) люди, которые как будто бы на шаг впереди среднестатистического понимания, уровень ответственности которых и уровень понимания — более глубокий, чем у других .
— Например?
— [Писатель Людмила] Улицкая, например. [Академик, изобретатель водородной бомбы Андрей] Сахаров — совершенно точно: человек, который сотворив зло, дав его в руки другим, немедленно начал борьбу против применения этого зла и против всех, кому он его дал в руки. Ты можешь говорить, что он такой совестливый появился случайно, но это тоже та самая ноосфера, вечная жизнь и залог ее — люди, которые не боятся сказать, которые честны какой-то звенящей честностью, которые говорят и делают что-то, что не позволяет времени и нам в нем оставаться прежними. Их существование — залог того, что мы двигаемся в верном направлении, что ситуация не вышла и не выйдет из-под контроля. В это я верю и чувствую это достаточно ясно: все под контролем, мы — точка в вечности. Это классное ощущение. Оно позволяет не суетиться.
— За хроникой каких текущих событий ты следишь?
— Никаких. Вся эта собачья свадьба с предвыборными кампаниями, с журналистикой, особенно политической, с которой я была очень долго связана — мне больше неинтересна. Это, правда, собачья свадьба. Щеночки иногда хорошенькие родятся, иногда нет.
Да и наплевать. Мне это неинтересно.
— Ты легко научилась жить вне контекста?
— В этом нет ничего трудного. Непросто бывает, когда бедный [папа Евгений] Ясин пытается со мной говорить о том, какой такой-растакой Сечин, и какой вообще кошмар происходит, я ему неизменно отвечаю: «Папа, да. Но давай мы не будем об этом говорить».
— О чем тогда вы говорите?
— К сожалению, в последнее время о бытовых проблемах все больше.
— Почему, к сожалению? Это плохо?
— Ему это не интересно. А мне, наоборот, стало интересно намного больше: надо вести дом, хозяйство, принимать какие-то практические важные бытовые решения, касающиеся нас лично, а не всей страны вообще.
— Нет. У меня нет в этом внутренней потребности. Я, как тебе говорила, читаю Меня. Слава Богу, он довольно подробно написал обо всем что есть в Ветхом Завете, что есть в Новом Завете. Его книга «Сын человеческий» написана человеческим языком. Я ее с удовольствием прочитала. Понимаешь, я не говорю, что я никогда не прочитаю Библию, всякое может произойти, любой поворот. Хотя Ветхий Завет, наверное, никогда читать не буду. А вот «Историю религии» Меня про Ветхий Завет и всех этих пророков прочитала с огромным интересом, даже закладочки сделала, чтобы потом пересмотреть все тематические художественные произведения, что есть в мировых музеях (благо, теперь это можно сделать электронным способом).
Мне страшно нравится, что в меневском описании все ветхозаветные пророки описаны как кто-то, кто на шаг или полшага приближается к тому пониманию любви, о каком в Нагорной проповеди говорит Иисус. То есть, не то, что они были неправы или были какими-то не такими. Они просто еще не дошли, им еще — не дано. Потребуется много времени, чтобы до чего-то дойти, что-то понять, на какую-то ступень подняться. Это очень понятная идея, которая и сейчас может быть применена, к нашим временам. Ведь среди нас, в нашем, в каком-то смысле, ветхозаветном времени появляются (и появлялись) люди, которые как будто бы на шаг впереди среднестатистического понимания, уровень ответственности которых и уровень понимания — более глубокий, чем у других .
— Например?
— [Писатель Людмила] Улицкая, например. [Академик, изобретатель водородной бомбы Андрей] Сахаров — совершенно точно: человек, который сотворив зло, дав его в руки другим, немедленно начал борьбу против применения этого зла и против всех, кому он его дал в руки. Ты можешь говорить, что он такой совестливый появился случайно, но это тоже та самая ноосфера, вечная жизнь и залог ее — люди, которые не боятся сказать, которые честны какой-то звенящей честностью, которые говорят и делают что-то, что не позволяет времени и нам в нем оставаться прежними. Их существование — залог того, что мы двигаемся в верном направлении, что ситуация не вышла и не выйдет из-под контроля. В это я верю и чувствую это достаточно ясно: все под контролем, мы — точка в вечности. Это классное ощущение. Оно позволяет не суетиться.
— За хроникой каких текущих событий ты следишь?
— Никаких. Вся эта собачья свадьба с предвыборными кампаниями, с журналистикой, особенно политической, с которой я была очень долго связана — мне больше неинтересна. Это, правда, собачья свадьба. Щеночки иногда хорошенькие родятся, иногда нет.
Да и наплевать. Мне это неинтересно.
— Ты легко научилась жить вне контекста?
— В этом нет ничего трудного. Непросто бывает, когда бедный [папа Евгений] Ясин пытается со мной говорить о том, какой такой-растакой Сечин, и какой вообще кошмар происходит, я ему неизменно отвечаю: «Папа, да. Но давай мы не будем об этом говорить».
— О чем тогда вы говорите?
— К сожалению, в последнее время о бытовых проблемах все больше.
— Почему, к сожалению? Это плохо?
— Ему это не интересно. А мне, наоборот, стало интересно намного больше: надо вести дом, хозяйство, принимать какие-то практические важные бытовые решения, касающиеся нас лично, а не всей страны вообще.
Почему этот мир полон страданий? Почему Бог попускает страдание и смерть? В Большом зале Библиотеки Иностранной литературы об этом говорили Татьяна Краснова и Ирина Ясина.
В коридоре включают свет. Шуршание. Крик: «Мам, это я!» Из Москвы за город к маме приехала дочь Ирины Ясиной, Варя, успешная молодая женщина. Через несколько минут из соседнего дома придёт Евгений Ясин, отец Ирины, выдающийся российский экономист, с 1994 по 1997 — министр экономики России. Младореформаторы, в числе которых Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Сергей Кириенко, часто называют Евгения Григорьевича Ясина своим учителем. Варя и Евгений Григорьевич тихонько шепчутся в коридоре, ожидая конца интервью и возможности соблюсти традицию: уже пару лет, когда позволяет время, три поколения Ясиных усаживаются в эти кресла у камина, чтобы спокойно беседовать до самой ночи. О чем? О каких-нибудь, наверное, сиюминутно важных вещах, которые в пересказе посторонним делаются грубее и проще, оказываясь, в конце концов, совершенно непонятными.
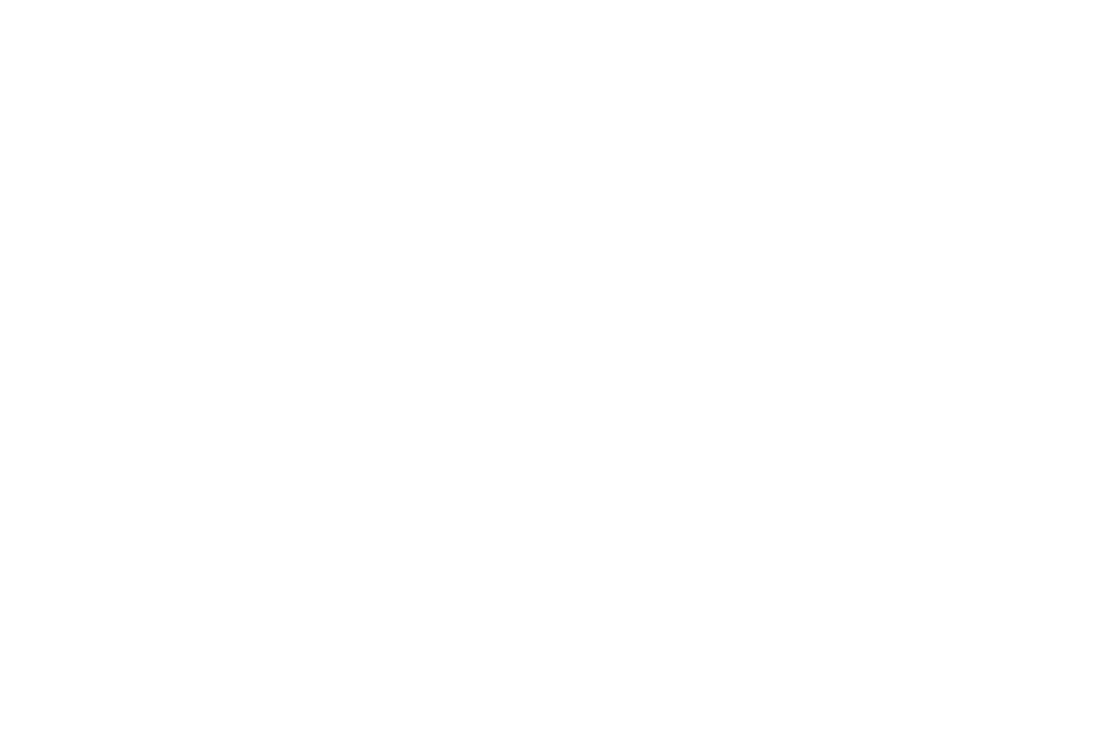
— Осталось что-то, с чем ты так и не смогла совладать?
— Я не могу сказать, что ничего я не боюсь, потому что боюсь, конечно. Больше всего боюсь разрушения вот этого своего мирка, в котором я живу со своими книжками, белками, сойками, девчонками и папой.
— А старости, маразма или смерти?
— Нет, старость у меня уже есть, потому что старость — это беспомощность, а я беспомощна. Она у меня есть. Маразма у меня не будет, потому что я учу стихи, считаю в уме и тренирую мозг. Чего еще можно бояться в моем положении? Бедности. Бедности я боюсь очень сильно. Потому что в моем состоянии бедность особенно печальна. Ведь я могу за счет расходов компенсировать какие-то свои немощи, — это самое важное. Таблетки, которые немного тормозят развитие рассеянного склероза моей формы тоже дорого стоят.
— Сколько?
— Четыре тысячи долларов в месяц. И у меня есть эти таблетки все восемь лет, с того самого момента, как появились. Спасибо моему другу М.. Сначала, пока был жив мой [спутник жизни] Гоша, мне покупал Гоша. Не стало Гоши, стал покупать М., за что ему низкий поклон. При этом есть Л., Есть еще В., есть еще Ю., каждый из которых говорит: «Я тоже бы мог». Это дает мне возможность не так сильно бояться, как я могла бы.
— Ты скорее боишься смерти или скорее ждешь ее?
— Я хочу жить долго и хочу обязательно умереть дома, то есть не в больнице. Я вспоминаю мамино даже не желание, ее мольбу о том, что она не хочет умереть в больнице в реанимации голая с включенным светом. Но она именно так и умерла. Более того отец, когда она уже спокойно переставала дышать, согласился на интубацию. И она еще три дня провела на аппарате искусственной вентиляции легких.
— Видимо, он очень ее любил?
— Он понимал, что это — все, конец, ничего не удержишь. Но так было принято: бороться до последнего.
— Думаешь, не надо?
— Не надо бороться до последнего, надо бороться до комфортного.
— Так мы до эвтаназии договоримся.
— Если кому-то так комфортно, то да.
— Ты бы — смогла?
— Если бы у меня были нестерпимые боли, да, конечно. Я боюсь боли очень сильно. Боюсь и не умею ее переносить. Слава Богу, у меня хоть ничего и не работает, но ничего и не болит (Подробнее об обезболивании - Ирина Ясина).
— Сколько ты хочешь прожить?
— Мне кукушка в прошлом году насчитала девятнадцать лет. Я хочу, чтобы хотя бы девятнадцать. Сейчас уже восемнадцать осталось.
Беседовала Катерина Гордеева
Фото Анны Даниловой и из архива Ирины Ясиной
Эвтаназия – это убийство, а врач – не палач - об отношении Церкви к эвтаназии
— Я не могу сказать, что ничего я не боюсь, потому что боюсь, конечно. Больше всего боюсь разрушения вот этого своего мирка, в котором я живу со своими книжками, белками, сойками, девчонками и папой.
— А старости, маразма или смерти?
— Нет, старость у меня уже есть, потому что старость — это беспомощность, а я беспомощна. Она у меня есть. Маразма у меня не будет, потому что я учу стихи, считаю в уме и тренирую мозг. Чего еще можно бояться в моем положении? Бедности. Бедности я боюсь очень сильно. Потому что в моем состоянии бедность особенно печальна. Ведь я могу за счет расходов компенсировать какие-то свои немощи, — это самое важное. Таблетки, которые немного тормозят развитие рассеянного склероза моей формы тоже дорого стоят.
— Сколько?
— Четыре тысячи долларов в месяц. И у меня есть эти таблетки все восемь лет, с того самого момента, как появились. Спасибо моему другу М.. Сначала, пока был жив мой [спутник жизни] Гоша, мне покупал Гоша. Не стало Гоши, стал покупать М., за что ему низкий поклон. При этом есть Л., Есть еще В., есть еще Ю., каждый из которых говорит: «Я тоже бы мог». Это дает мне возможность не так сильно бояться, как я могла бы.
— Ты скорее боишься смерти или скорее ждешь ее?
— Я хочу жить долго и хочу обязательно умереть дома, то есть не в больнице. Я вспоминаю мамино даже не желание, ее мольбу о том, что она не хочет умереть в больнице в реанимации голая с включенным светом. Но она именно так и умерла. Более того отец, когда она уже спокойно переставала дышать, согласился на интубацию. И она еще три дня провела на аппарате искусственной вентиляции легких.
— Видимо, он очень ее любил?
— Он понимал, что это — все, конец, ничего не удержишь. Но так было принято: бороться до последнего.
— Думаешь, не надо?
— Не надо бороться до последнего, надо бороться до комфортного.
— Так мы до эвтаназии договоримся.
— Если кому-то так комфортно, то да.
— Ты бы — смогла?
— Если бы у меня были нестерпимые боли, да, конечно. Я боюсь боли очень сильно. Боюсь и не умею ее переносить. Слава Богу, у меня хоть ничего и не работает, но ничего и не болит (Подробнее об обезболивании - Ирина Ясина).
— Сколько ты хочешь прожить?
— Мне кукушка в прошлом году насчитала девятнадцать лет. Я хочу, чтобы хотя бы девятнадцать. Сейчас уже восемнадцать осталось.
Беседовала Катерина Гордеева
Фото Анны Даниловой и из архива Ирины Ясиной
Эвтаназия – это убийство, а врач – не палач - об отношении Церкви к эвтаназии