Анна Данилова
Ювелир Петр Аксенов о смерти брендов, «Войне и мире» и теплохладной вере
Ювелир Петр Аксенов о смерти брендов, «Войне и мире» и теплохладной вере
Петра Аксенова привыкли видеть в модных журналах и светской хронике. Вот молодой бородатый мужчина делает селфи в Большом театре, вот его фото с актером Джеймсом Нортоном, британским князем Болконским, вот – блестящий новогодний раут. Некоторое время назад художник открывал выставки и светские мероприятия, запускал арт-проекты, и вдруг фотограф сменил специализацию и стал дизайнером ювелирных украшений. «Художник вдохновляется русской культурой и царской роскошью», – несколько иронически шутит глянец над патриотичностью Петра. Без всякой иронии сам Аксенов говорит, что работает над украшениями, которые могли бы принадлежать великим женщинам прошлого. Сын фотографа Ю.Аксенова и художника-иконописца Л.Шеховцевой получил строгое духовное воспитание, жил в Оптиной пустыни, общался с отцом Иоанном Крестьянкиным. О смерти брендов, современном искусстве, образах прошлого и настоящего – в интервью «Правмиру».
War and Peace
– Вы делали украшения для новой британской экранизации «Войны и мира». А как вам сам фильм? В России этот фильм неминуемо сравнивают с версией Сергея Бондарчука.
– Не один Бондарчук способен чувствовать русскую литературу. Ему, кстати, можно предъявить даже больше претензий, можно было бы тоньше прочувствовать ту же внешнюю стилистику.
– А он ее недостаточно прочувствовал?
– Например, внешность нашей Наташи Ростовой (я говорю не про игру актрисы – тонкую, прекрасную и передающую литературный образ) очень далека от девичьего образа того времени. Советские стрелки, начесы – Наташа просто не могла такой быть! Англичане стилистику соблюли намного лучше, все костюмы и ювелирку они делали в России.
Но главное – в экранизации Бондарчука полностью отсутствовал Бог, в фильме Его не ищет Андрей, не ищет Пьер, отсутствует сцена, в которой княжна Марья благословляет князя Андрея образом перед его отъездом на войну. Англичане этот момент не выпустили, и он восторгает меня в новой экранизации.
– Не один Бондарчук способен чувствовать русскую литературу. Ему, кстати, можно предъявить даже больше претензий, можно было бы тоньше прочувствовать ту же внешнюю стилистику.
– А он ее недостаточно прочувствовал?
– Например, внешность нашей Наташи Ростовой (я говорю не про игру актрисы – тонкую, прекрасную и передающую литературный образ) очень далека от девичьего образа того времени. Советские стрелки, начесы – Наташа просто не могла такой быть! Англичане стилистику соблюли намного лучше, все костюмы и ювелирку они делали в России.
Но главное – в экранизации Бондарчука полностью отсутствовал Бог, в фильме Его не ищет Андрей, не ищет Пьер, отсутствует сцена, в которой княжна Марья благословляет князя Андрея образом перед его отъездом на войну. Англичане этот момент не выпустили, и он восторгает меня в новой экранизации.
– Стилистика стилистикой, а сама актерская игра?
– Мне кажется, они очень хорошо играют. Лучше всех – американец Поль Дано (в фильме он Пьер Безухов), это очень талантливый актер, с внутренней глубиной. Не Серафим (Роуз), конечно, но в нем чувствуется дух человека думающего, читающего. Он прочел «Войну и мир» от и до, еще до съемок, хотя другие актеры читали прямо во время съемок, буквально за завтраком. Очень тянулся к нам – русским – говорил, что так может прикоснуться к России, почувствовать ее.
Режиссер провел замечательный кастинг: мы все представляем Анну Павловну Шерер стареющей женщиной, а в сериале ее играет Джиллиан Андерсен – немолодая, да, но какая же она красавица!
– Мне кажется, они очень хорошо играют. Лучше всех – американец Поль Дано (в фильме он Пьер Безухов), это очень талантливый актер, с внутренней глубиной. Не Серафим (Роуз), конечно, но в нем чувствуется дух человека думающего, читающего. Он прочел «Войну и мир» от и до, еще до съемок, хотя другие актеры читали прямо во время съемок, буквально за завтраком. Очень тянулся к нам – русским – говорил, что так может прикоснуться к России, почувствовать ее.
Режиссер провел замечательный кастинг: мы все представляем Анну Павловну Шерер стареющей женщиной, а в сериале ее играет Джиллиан Андерсен – немолодая, да, но какая же она красавица!
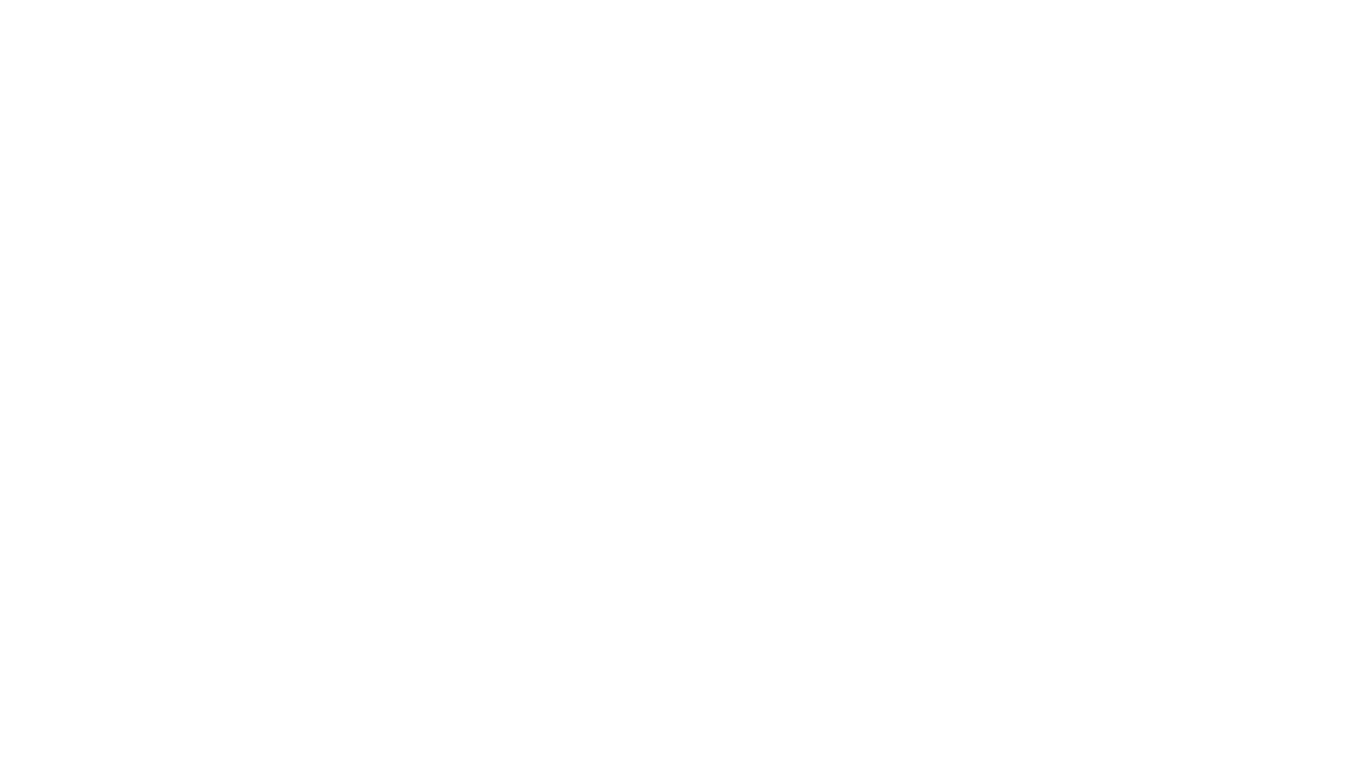 |
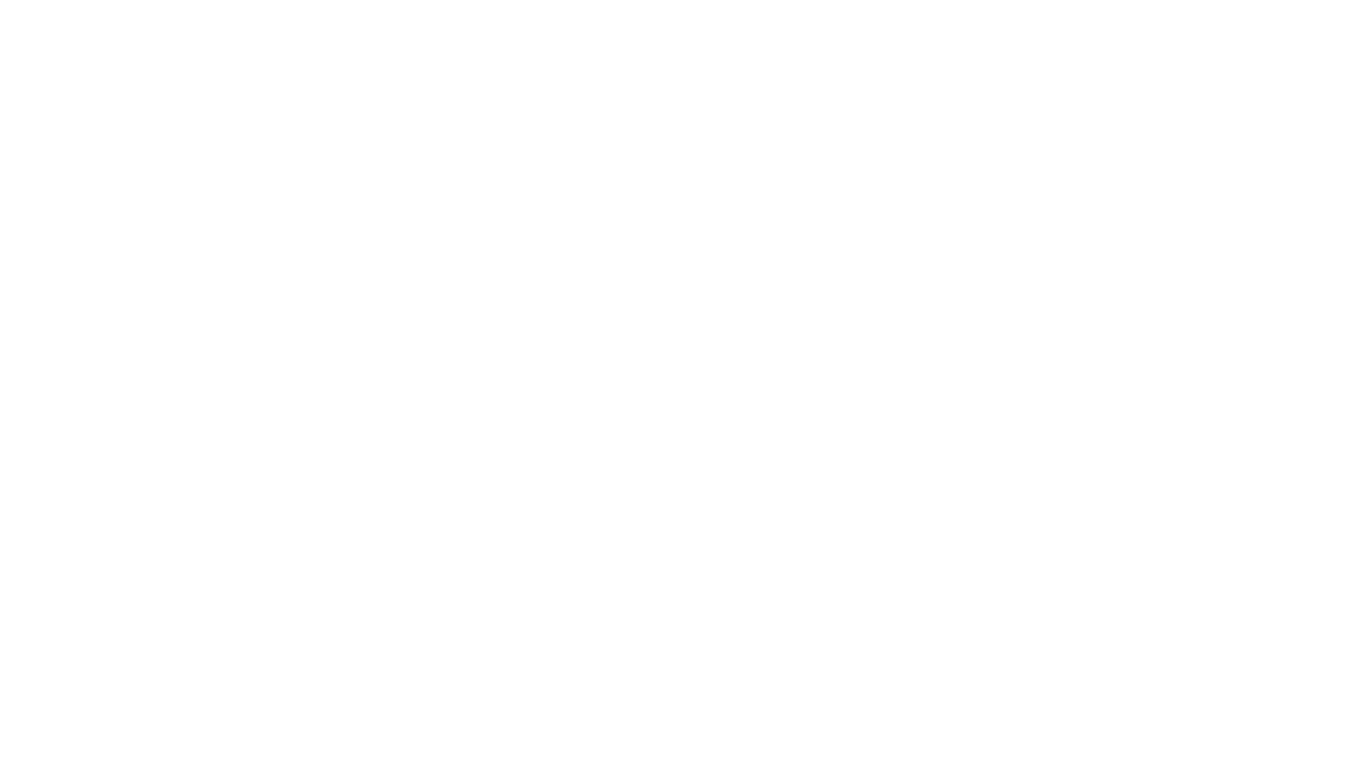 |
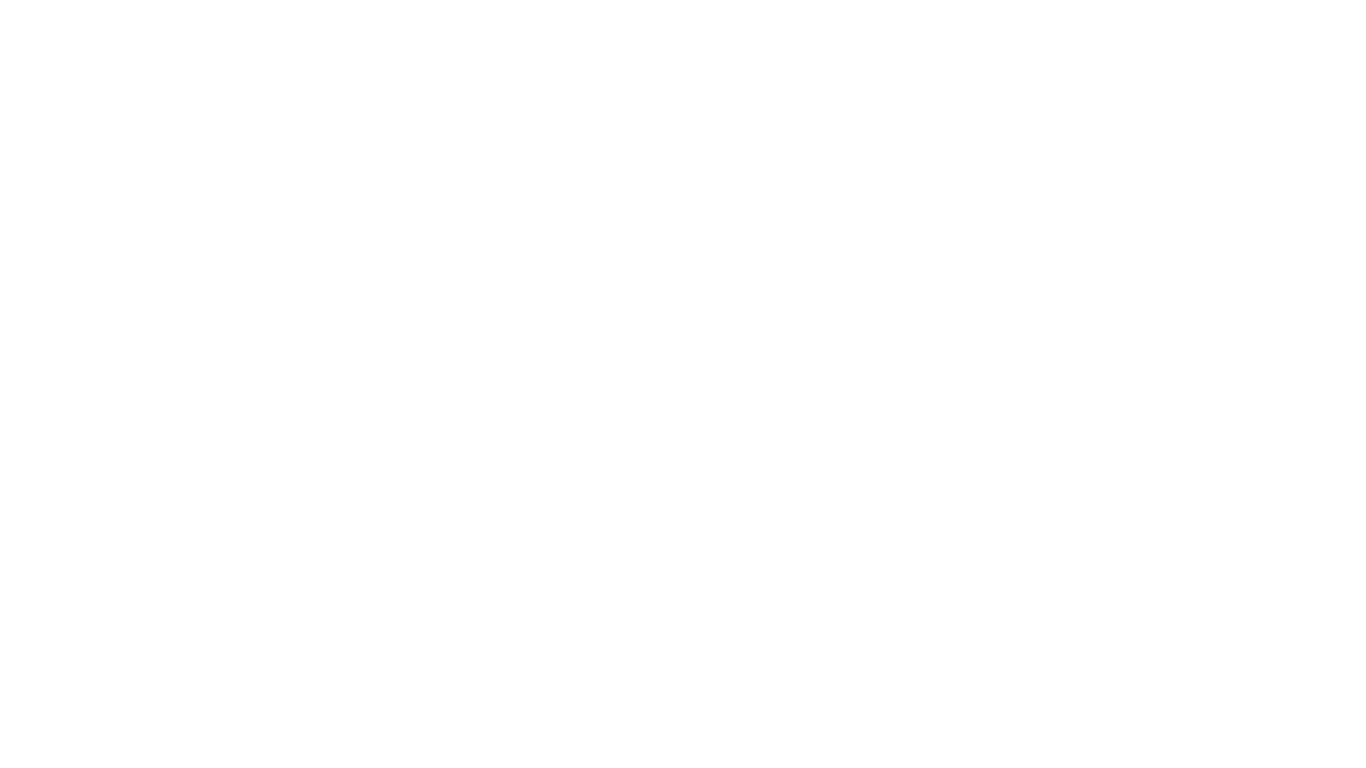 |
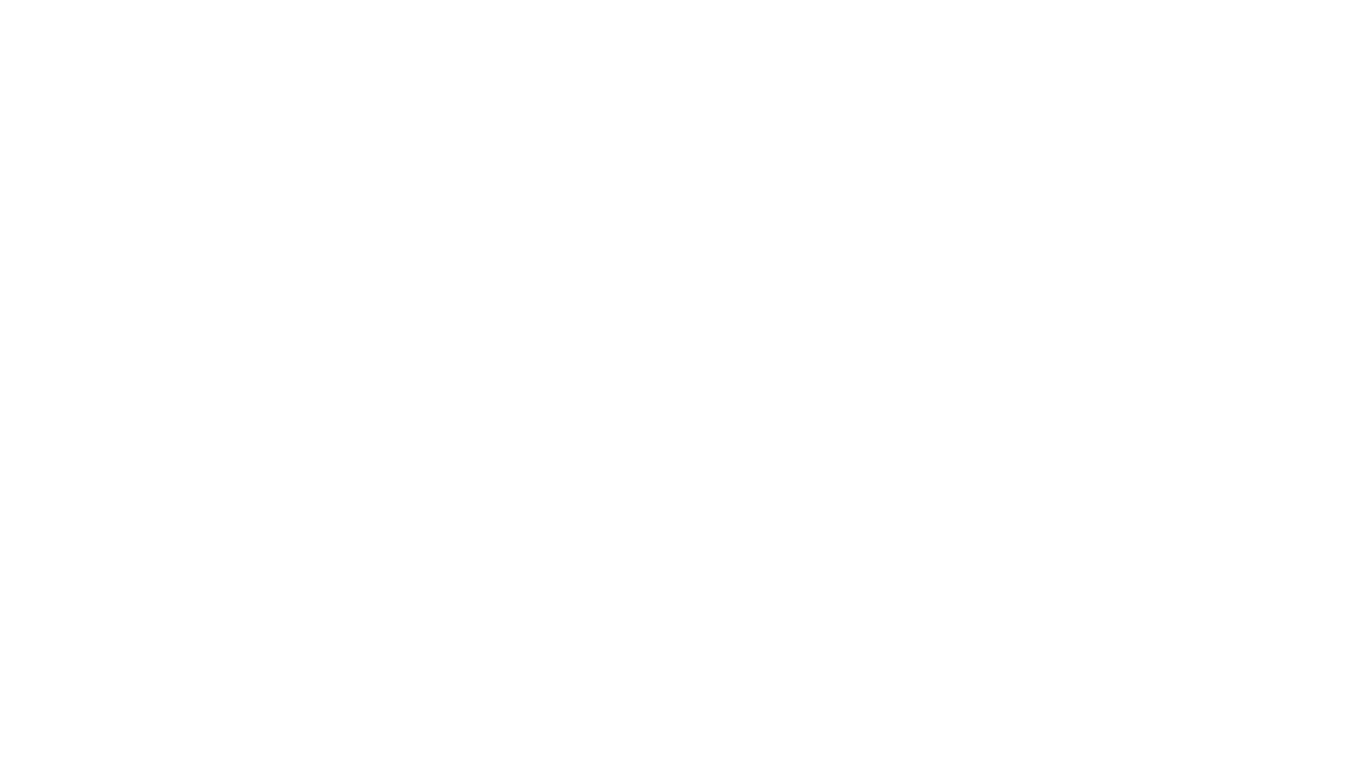 |
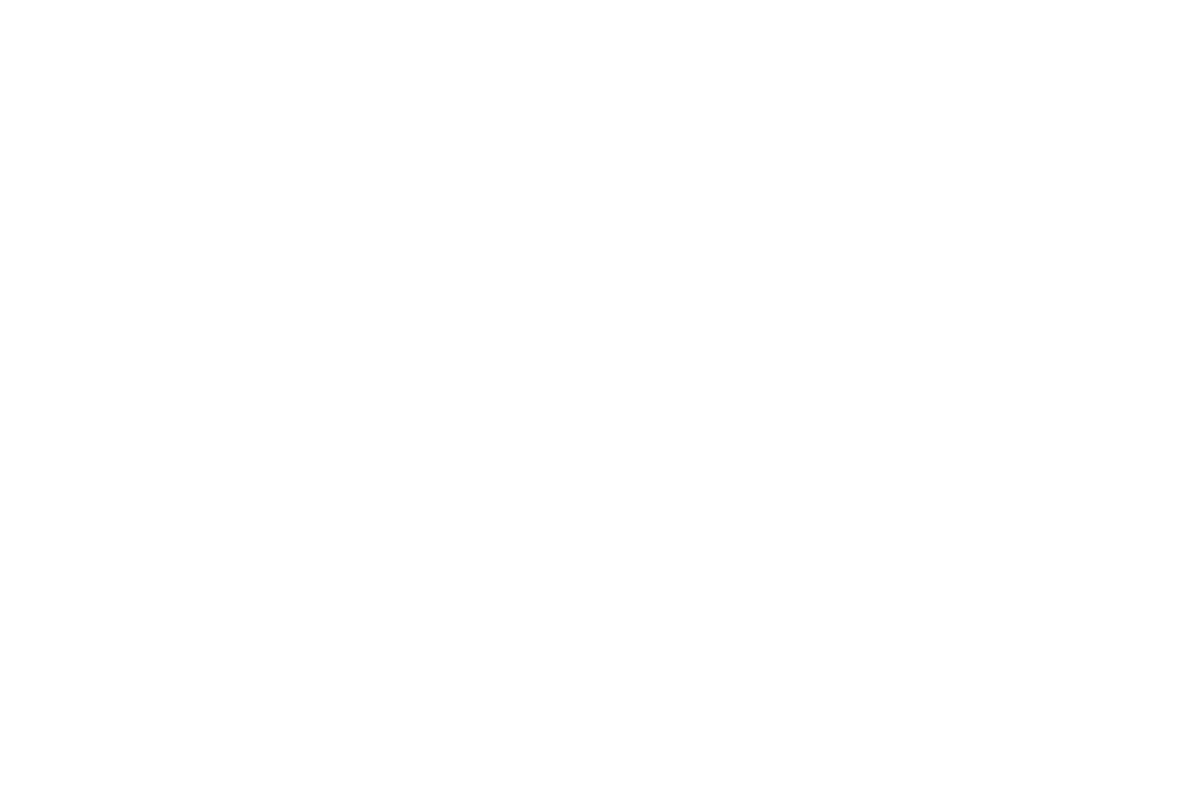 |
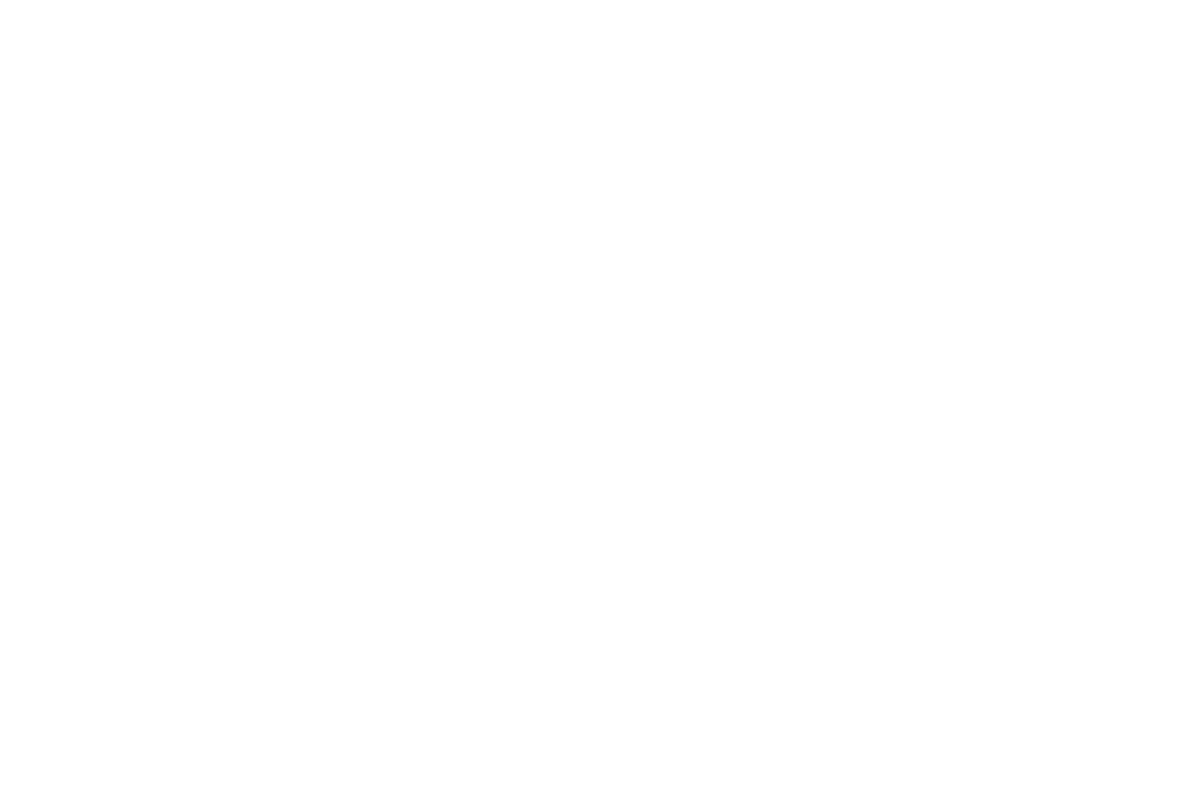 |
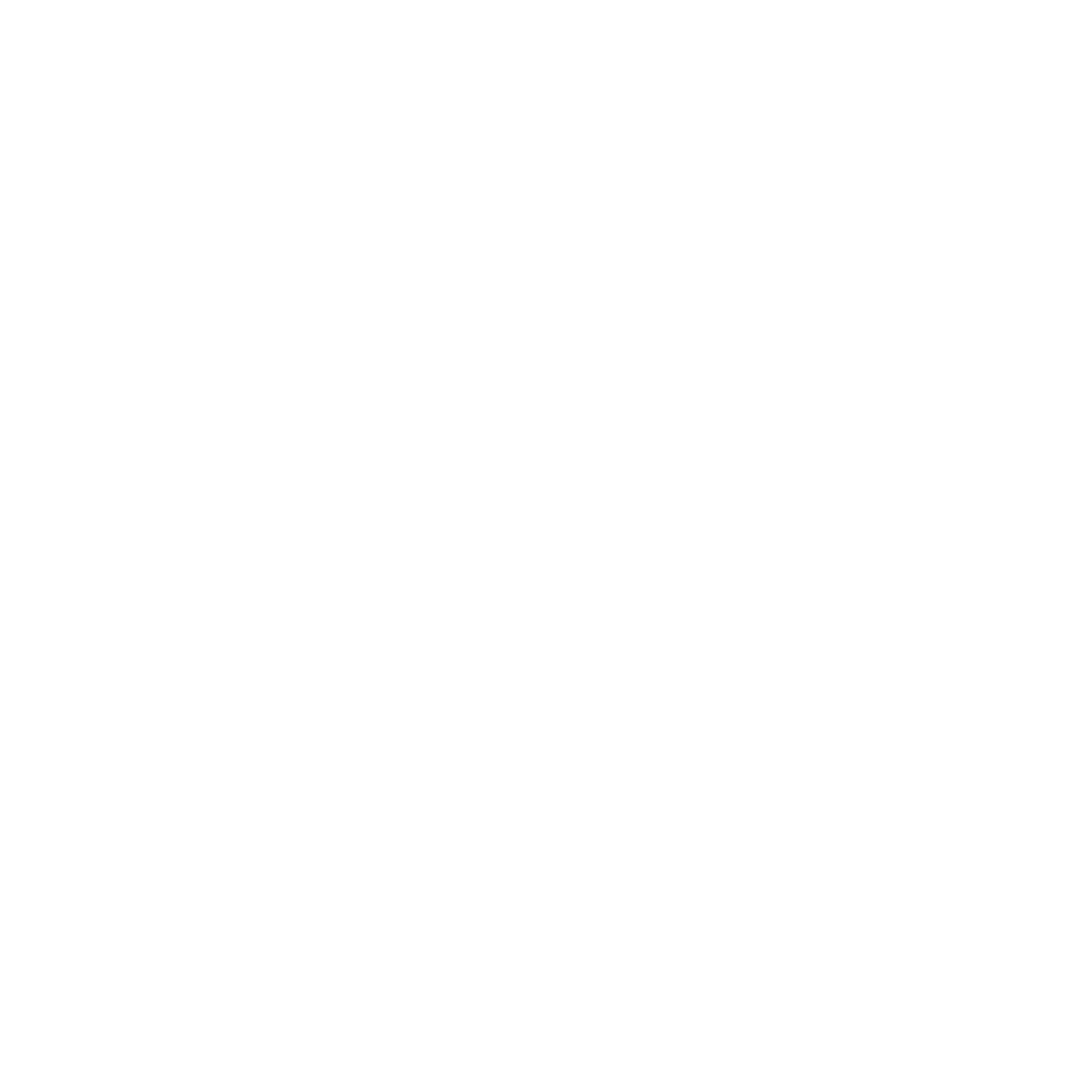 |
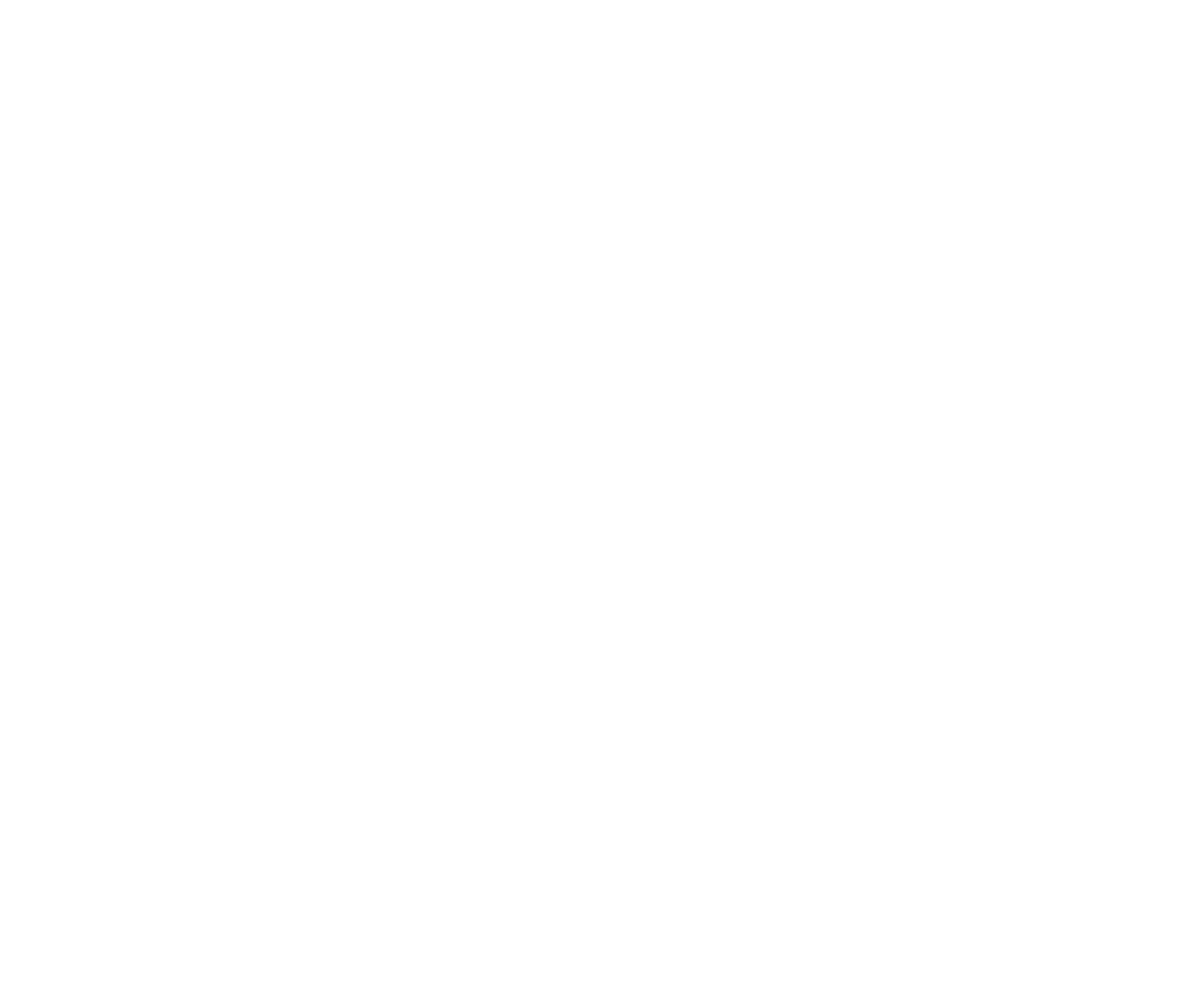 |
В мировом кинематографе много экранизаций великого романа Л.Н. Толстого – от немых кинофильмов начала века до корокометражек и сериалов.
В американско-итальянской экранизации 1956 года Наташу Ростову играла знаменитая Одри Хепберн, в британском сериале 1972 года Пьером Безуховым был сэр Энтони Хопкинс. Советская экранизация романа режиссера Сергея Бондарчука 1965–1967 годов сделана в новаторской технике панорамной съемки и получила премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. В Советском Союзе в 1966 году первую серию фильма посмотрели 58 млн зрителей.
В 2013-16 годах в Англии сняли драматический шестисерийный мини-сериал «War and Peace», представленный публике 3 января 2016 года.
В американско-итальянской экранизации 1956 года Наташу Ростову играла знаменитая Одри Хепберн, в британском сериале 1972 года Пьером Безуховым был сэр Энтони Хопкинс. Советская экранизация романа режиссера Сергея Бондарчука 1965–1967 годов сделана в новаторской технике панорамной съемки и получила премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. В Советском Союзе в 1966 году первую серию фильма посмотрели 58 млн зрителей.
В 2013-16 годах в Англии сняли драматический шестисерийный мини-сериал «War and Peace», представленный публике 3 января 2016 года.
– А самая сильная мужская роль, на ваш взгляд?
– Князь Андрей в этом фильме слабоват, всё будет держаться на Пьере, Наташе и, конечно, на красивой картинке. Приятно, что иностранцы берутся за такое кино, насколько я помню, последние несколько лет у нас классику не экранизировали. Сейчас идут съемки «Анны Карениной» Карена Шахназарова (интересно, что у них получится), но вот надо же было сначала снять кино американцам, чтобы русские захотели взяться за свою классику!
– Князь Андрей в этом фильме слабоват, всё будет держаться на Пьере, Наташе и, конечно, на красивой картинке. Приятно, что иностранцы берутся за такое кино, насколько я помню, последние несколько лет у нас классику не экранизировали. Сейчас идут съемки «Анны Карениной» Карена Шахназарова (интересно, что у них получится), но вот надо же было сначала снять кино американцам, чтобы русские захотели взяться за свою классику!
– А оно нужно сейчас, историческое и «литературное» кино?
– Чем больше – тем лучше! Все возможности есть сейчас, новые технологии – прекрасное время, чтобы наше кино возрождалось на русской истории и литературных произведениях. А то снимают какую-то ерунду и фантастику.
Кстати, в новостях пишут, что Владимир Путин посмотрел сериал и сказал, что авторы смогли почувствовать и русскую душу, и глубину мысли Толстого.
– Чем больше – тем лучше! Все возможности есть сейчас, новые технологии – прекрасное время, чтобы наше кино возрождалось на русской истории и литературных произведениях. А то снимают какую-то ерунду и фантастику.
Кстати, в новостях пишут, что Владимир Путин посмотрел сериал и сказал, что авторы смогли почувствовать и русскую душу, и глубину мысли Толстого.
Смерть брендов
– Вы много лет были фотографом, художником, причем работали в духе современного искусства. Ориентация была скорее прозападная – и тут резкий, даже утрированный поворот к русским традициям и мотивам. Как так получилось?
– Это началось, наверное, от пресыщения западной культурой, я в ней уже просто ничего нового и интересного не видел. В какой-то момент появилась усталость, пустота, всё вокруг казалось одинаковым. Меня бросало то в дизайн, то в скульптуру, то в фотографию.
Но знаете, человек, выросший в церковной семье, часто продолжает ходить в храм на автомате. А потом вдруг ты начинаешь осознанно ходить в церковь, тебя тянет туда, и это желание идет изнутри. Вот так было у меня. Были вещи, заложенные во мне с детства мамой, духовником, и они проросли – в один момент!
Как в стихах отца Василия (Рослякова – прим. ред.): «Как лань припадает сухими губами в полуденный жар к голубому ключу, так я в воскресение стою перед храмом и словно от жажды поклоны кладу».
– Это началось, наверное, от пресыщения западной культурой, я в ней уже просто ничего нового и интересного не видел. В какой-то момент появилась усталость, пустота, всё вокруг казалось одинаковым. Меня бросало то в дизайн, то в скульптуру, то в фотографию.
Но знаете, человек, выросший в церковной семье, часто продолжает ходить в храм на автомате. А потом вдруг ты начинаешь осознанно ходить в церковь, тебя тянет туда, и это желание идет изнутри. Вот так было у меня. Были вещи, заложенные во мне с детства мамой, духовником, и они проросли – в один момент!
Как в стихах отца Василия (Рослякова – прим. ред.): «Как лань припадает сухими губами в полуденный жар к голубому ключу, так я в воскресение стою перед храмом и словно от жажды поклоны кладу».
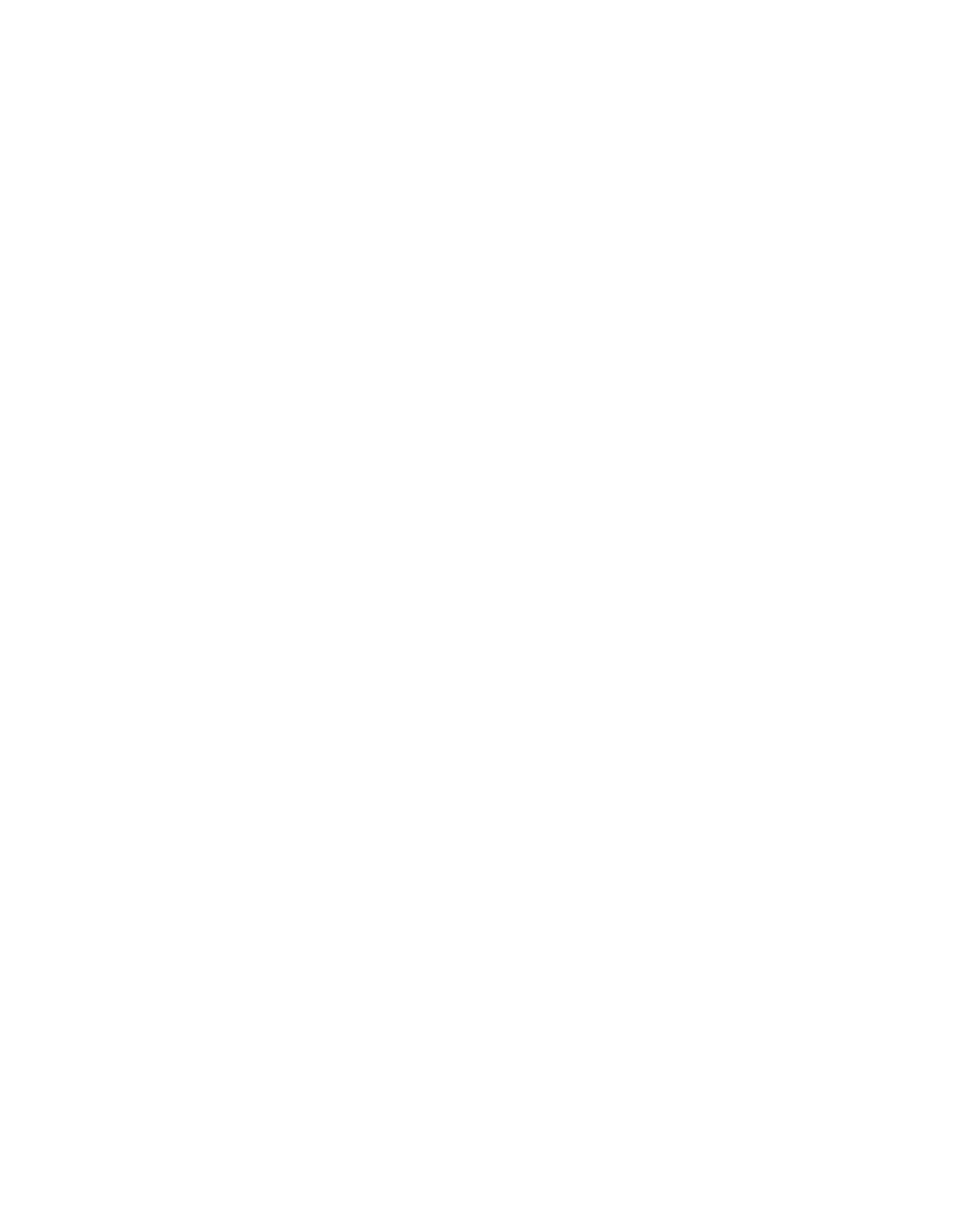
Петр Аксенов
– Вы связываете свой поворот в профессии именно с осознанным посещением церкви?
– Я заканчивал с современным искусством, перешел к ювелирному делу – и уже просто бежал в церковь. Я понимал, что не хочу и не могу делать такие проекты, как раньше, мне это неинтересно. Мне были нужны мои «Русские сказки», я понимал, что за них и нужно браться.
– Я заканчивал с современным искусством, перешел к ювелирному делу – и уже просто бежал в церковь. Я понимал, что не хочу и не могу делать такие проекты, как раньше, мне это неинтересно. Мне были нужны мои «Русские сказки», я понимал, что за них и нужно браться.
– То есть уже после того, как вы получили богословское образование?
– Да. Если честно, я увидел в богословском образовании мало веры. Какие бы ни делали отборы в институты, как бы ни считали пропуски всенощных, в богословские структуры просачиваются разные люди. И думаю, не надо закрывать возможность получить богословское образование тем, кто пока не ходит на все службы и носит рваные джинсы.
– Да. Если честно, я увидел в богословском образовании мало веры. Какие бы ни делали отборы в институты, как бы ни считали пропуски всенощных, в богословские структуры просачиваются разные люди. И думаю, не надо закрывать возможность получить богословское образование тем, кто пока не ходит на все службы и носит рваные джинсы.
– Дистанция от богословия и фотографии до ювелирного дела довольно большая.
– Первые ювелирные эскизы я делал как раз для «Русских сказок», очень всем этим вдохновился, но понял, что у нас не сохранилось старой русской ювелирки. Старинные костюмы можно найти в Большом театре, в хорошем ателье тебе по образцу сошьют вещь из парчи, а вот ювелирки аутентичной – не существует. Даже в музеях можно по пальцам пересчитать: Бриллиантовая кладовая Эрмитажа, Оружейная палата, Алмазный фонд и, в принципе, всё. В маленьких музеях можно что-нибудь найти, но это не такие серьезные коллекции, как в Дрездене или в Кёльне.
– Первые ювелирные эскизы я делал как раз для «Русских сказок», очень всем этим вдохновился, но понял, что у нас не сохранилось старой русской ювелирки. Старинные костюмы можно найти в Большом театре, в хорошем ателье тебе по образцу сошьют вещь из парчи, а вот ювелирки аутентичной – не существует. Даже в музеях можно по пальцам пересчитать: Бриллиантовая кладовая Эрмитажа, Оружейная палата, Алмазный фонд и, в принципе, всё. В маленьких музеях можно что-нибудь найти, но это не такие серьезные коллекции, как в Дрездене или в Кёльне.
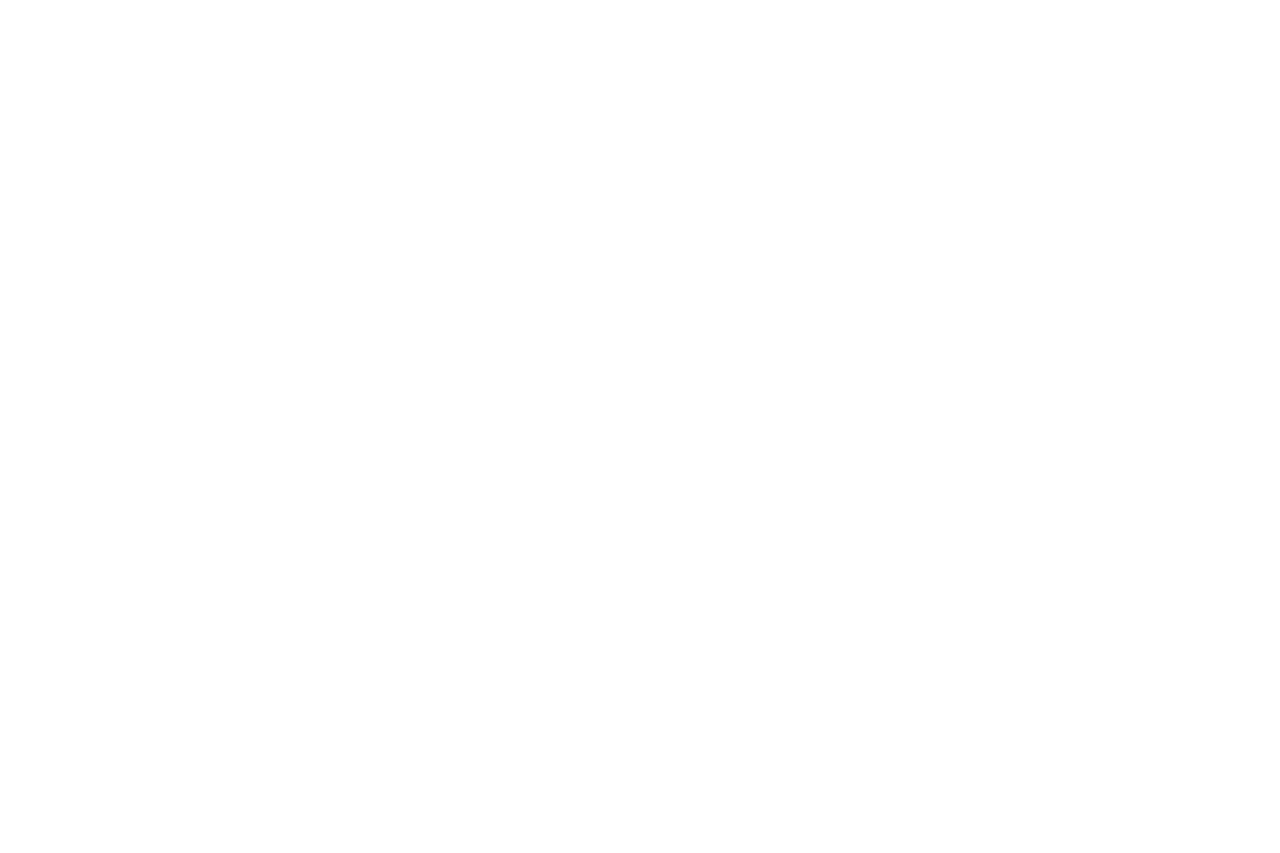 |
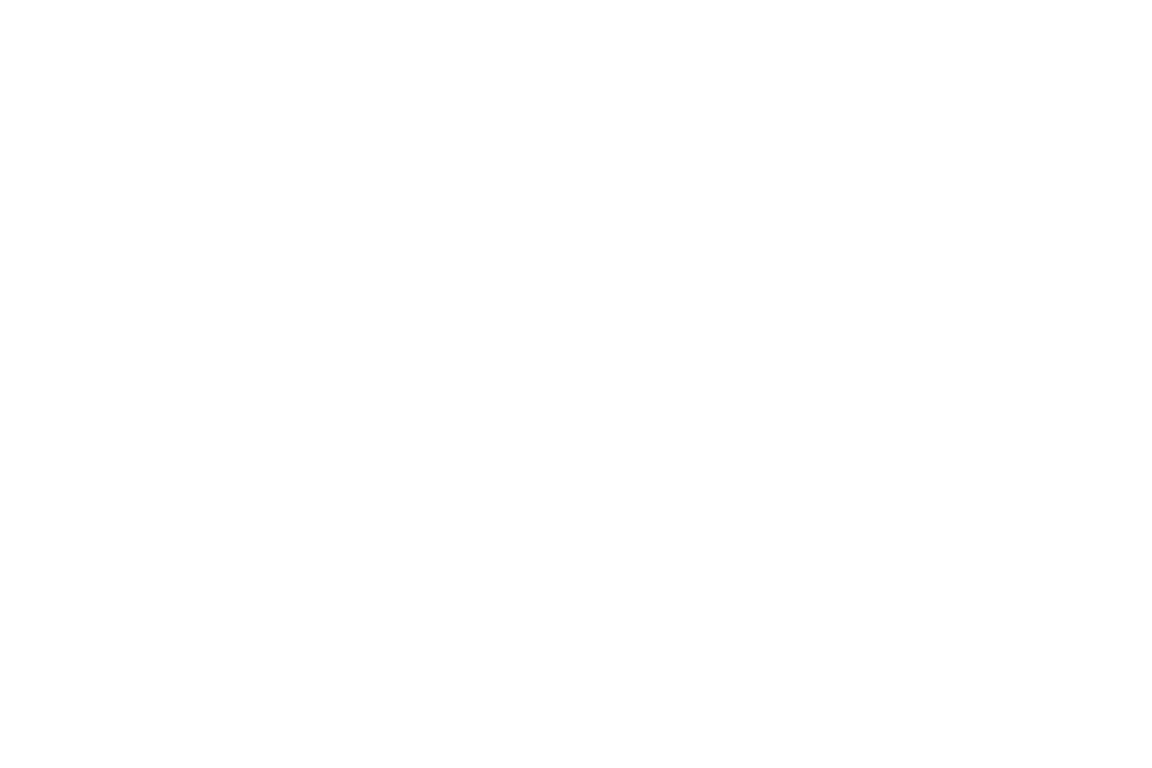 |
 |
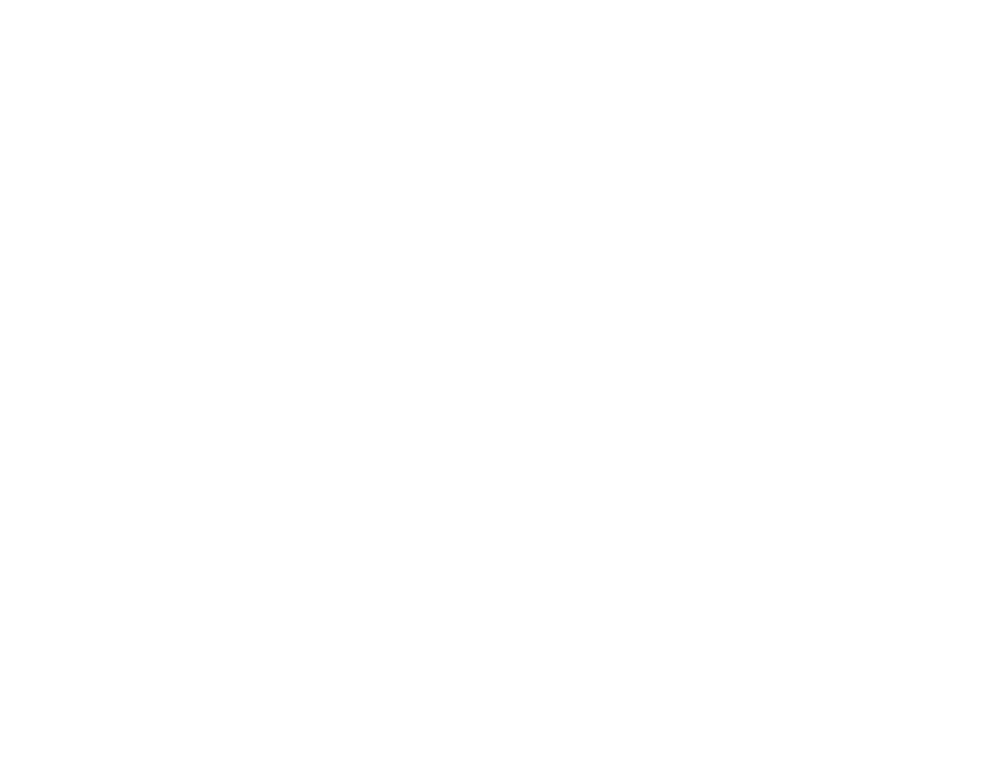 |
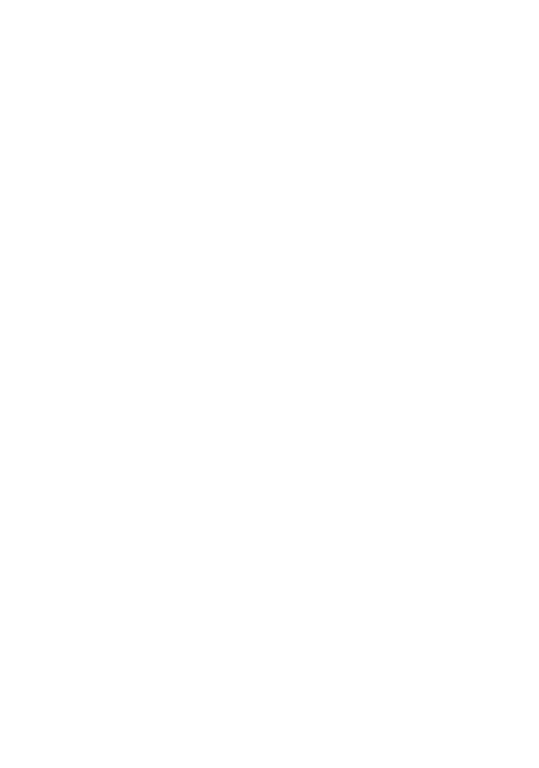 |
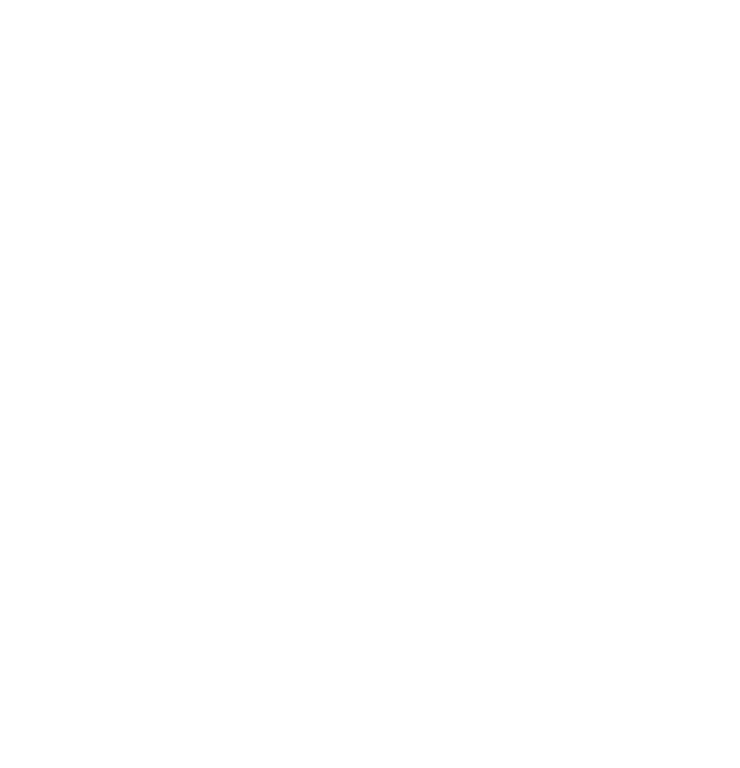 |
 |
Интерес к рукотворному у меня был всегда. Мне приятнее делать не то, что на стену повесят, а то, что будет служить человеку, что он будет носить с собой. Крестик для крестин, обручальное кольцо для молодых... Я с радостью занялся этим делом, а в процессе понял, что это и правда мое. Тут ты и творчески себя проявляешь, и можешь обращаться к русской культуре, и восстанавливаешь утерянное. Да и обеспечить себя финансово получается, это тоже важно. Некоторые народные промыслы применить трудно, вряд ли кто-то готов в повседневной жизни носить золотое шитье. А украшения сочетаются с современной одеждой, их носят и в торжественных случаях, и в повседневной жизни.
Я рад, что дышал воздухом Сорбонны и Парижа, прочувствовал Америку, изучал итальянское искусство, путешествовал по миру. И всё-таки сейчас я пришел к русской культуре, которая мне близка – и, надеюсь, будет близка до конца жизни.
Я рад, что дышал воздухом Сорбонны и Парижа, прочувствовал Америку, изучал итальянское искусство, путешествовал по миру. И всё-таки сейчас я пришел к русской культуре, которая мне близка – и, надеюсь, будет близка до конца жизни.
– Вы рассказывали про свой проект «Инфанты», что не драматическая съемка в искусстве невозможна, всегда нужен надрыв. Выходит, занимаясь ювелирными изделиями, вы нашли направление, в котором этот надрыв не нужен?
– Современное искусство всегда диктует скандал, провокацию. Проект «Инфанты» обличал детей из богатых семей. Дети должны воспитываться не так и выглядеть не так. Они капризные, они какие-то болезненные, они подвержены злу из-за этого воспитания.
А сейчас у меня вообще нет желания провоцировать, недавно предложили сделать с эмалью что-то современное, но это не ложится в мое видение работы с этим материалом, в контекст техники не встраивается!
У меня был еще один проект, «Dead Brand», тоже изобличающий некое фанатичное поклонение людей брендам, зависимость от них. Хотя моя компания – тоже бренд, да еще и названный моей фамилией, но я всегда говорю, что мы команда, я работаю не один.
– Современное искусство всегда диктует скандал, провокацию. Проект «Инфанты» обличал детей из богатых семей. Дети должны воспитываться не так и выглядеть не так. Они капризные, они какие-то болезненные, они подвержены злу из-за этого воспитания.
А сейчас у меня вообще нет желания провоцировать, недавно предложили сделать с эмалью что-то современное, но это не ложится в мое видение работы с этим материалом, в контекст техники не встраивается!
У меня был еще один проект, «Dead Brand», тоже изобличающий некое фанатичное поклонение людей брендам, зависимость от них. Хотя моя компания – тоже бренд, да еще и названный моей фамилией, но я всегда говорю, что мы команда, я работаю не один.
– Для любого бренда справедливо, на самом деле.
– Да, но не все дизайнеры так считают, кто-то говорит всё время «я, я, я». Не осуждаю этих людей, но мне кажется, что это в итоге разрушает.
– В чем был смысл проекта «Dead Brand»?
– Есть круг людей, среди которых принято потреблять продукты класса люкс, носить определенные бренды. Любой человек, желающий соответствовать этому кругу, должен покупать не те вещи, которые ему идут и нравятся, а те, у которых правильное имя и цена. У всех мужчин в этом кругу определенные марки часов, у женщин – определенные марки сумок, и вот они постоянно соревнуются. Это, конечно, очень глупо, хотя Господь не говорит, что быть богатым – большой грех. Можно помогать тем, кому не так повезло, совершать добрые дела, правильно распоряжаться деньгами, которые тебе посылаются. И спастись.
– Да, но не все дизайнеры так считают, кто-то говорит всё время «я, я, я». Не осуждаю этих людей, но мне кажется, что это в итоге разрушает.
– В чем был смысл проекта «Dead Brand»?
– Есть круг людей, среди которых принято потреблять продукты класса люкс, носить определенные бренды. Любой человек, желающий соответствовать этому кругу, должен покупать не те вещи, которые ему идут и нравятся, а те, у которых правильное имя и цена. У всех мужчин в этом кругу определенные марки часов, у женщин – определенные марки сумок, и вот они постоянно соревнуются. Это, конечно, очень глупо, хотя Господь не говорит, что быть богатым – большой грех. Можно помогать тем, кому не так повезло, совершать добрые дела, правильно распоряжаться деньгами, которые тебе посылаются. И спастись.
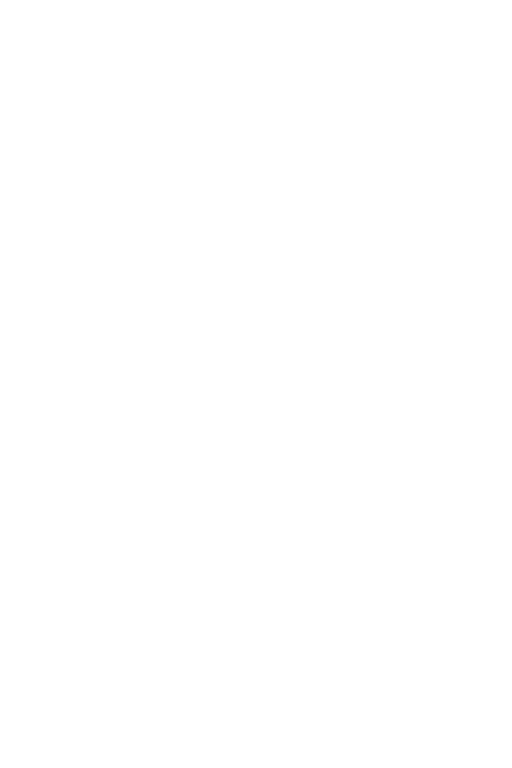
Суть в том, что людям нравится не само изделие, а возможности, которые оно дает. У тебя будет такая сумка – тебя правильно примут, не осудят, увидят, что ты им соответствуешь. Не будет сумки – ты никто. Эта приземленность, ограниченность, человек перестает восприниматься как личность, и неважно, что он красивый, умный, добрый, воспитанный. Он стирается полностью, его не существует, просто потому что у него нет сумки или там сапог какого-то бренда. В этом я вижу глупую зависимость.
– Тут в некотором смысле есть созвучие с проектом «Инфанты» – ребенок из хорошей семьи оказывается в классе с богатыми детьми, втягивается в конкуренцию и начинается: у кого какая модель телефона, кого водитель на какой машине привез.
– Проблема есть, но я знаю семьи, где ее смогли решить. Например, мои знакомые Чарльз и Ольга Томсоны. Чарльз – англичанин американского происхождения, который принял православие, когда познакомился с Ольгой. Сейчас у них пять детей, ждут шестого. Ольга – моя муза и она вдохновляла меня на создание разных образов. Семья живет не шикарно, но детям прививают правильный вкус к вещам, игрушкам, еде. И правильное отношение к соблазнам.
– Проблема есть, но я знаю семьи, где ее смогли решить. Например, мои знакомые Чарльз и Ольга Томсоны. Чарльз – англичанин американского происхождения, который принял православие, когда познакомился с Ольгой. Сейчас у них пять детей, ждут шестого. Ольга – моя муза и она вдохновляла меня на создание разных образов. Семья живет не шикарно, но детям прививают правильный вкус к вещам, игрушкам, еде. И правильное отношение к соблазнам.
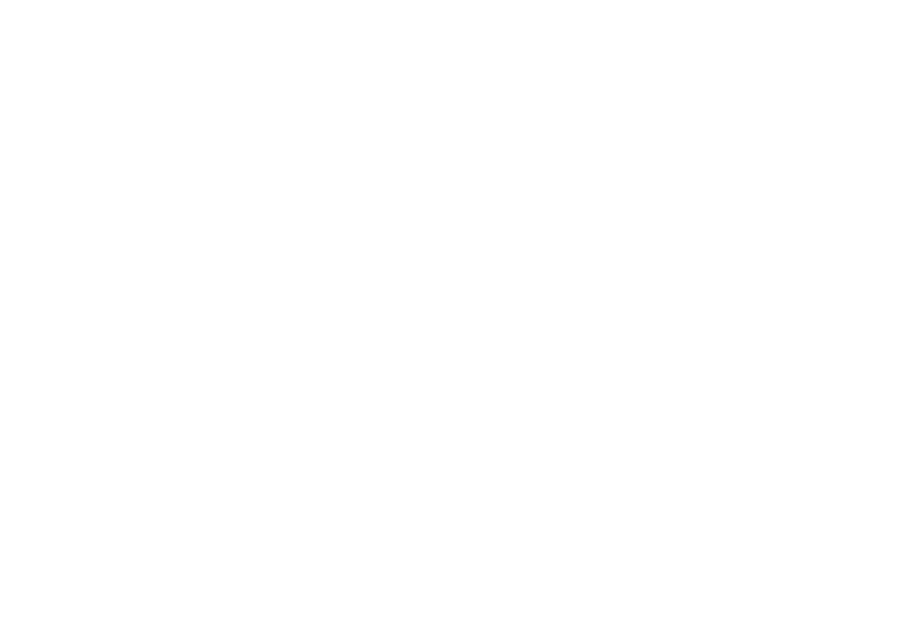
Ольга и Чарльз Томпсон с детьми. Фото: Чарльз Томпсон
Ребенок четко понимает, что iPhone, который сейчас помогает ему не отставать от одноклассников, одновременно отнимает возможность построить будущее, о котором мечтается. Ольга просто спрашивает свою старшую дочь, Настю: «Кем ты хочешь быть – просто девушкой с iPhone или балериной? Надо выбрать сейчас». Настя сразу телефон в сторону отодвигает.
Родители вполне могут справиться с проблемой, объяснив ребенку, что главное не деньги – их всегда у кого-то будет больше – а кто ты, что из себя представляешь. Я видел, как это работает у Томпсонов – дети верят родителям. Какой-то друг в школе может сказать «а какая у твоего папы машина?» А сын Чарльза говорит – это в деревне в Коннектикуте у нас есть машина, мы живем в деревне на берегу океана, нам она нужна, чтобы за продуктами ездить. А в Москве мы живем рядом с Кремлем, папа пешком всюду может дойти. Он верит в то, что говорит, просто потому, что это действительно так.
Родители вполне могут справиться с проблемой, объяснив ребенку, что главное не деньги – их всегда у кого-то будет больше – а кто ты, что из себя представляешь. Я видел, как это работает у Томпсонов – дети верят родителям. Какой-то друг в школе может сказать «а какая у твоего папы машина?» А сын Чарльза говорит – это в деревне в Коннектикуте у нас есть машина, мы живем в деревне на берегу океана, нам она нужна, чтобы за продуктами ездить. А в Москве мы живем рядом с Кремлем, папа пешком всюду может дойти. Он верит в то, что говорит, просто потому, что это действительно так.
– А сами с брендами боретесь?
– В личной жизни?
– Да.
– Я делаю, как предписывает этикет. Если мне нужно пойти в Большой театр, то я пойду в костюме или смокинге. Да, у меня есть возможность поехать в Англию и купить смокинг за 250 фунтов, а платить полторы или две тысячи фунтов просто за бренд я не буду. Сказать, что я прямо «борюсь», я не могу, если мне хочется купить вещь – я просто ее покупаю. О марках не думаю.
– В личной жизни?
– Да.
– Я делаю, как предписывает этикет. Если мне нужно пойти в Большой театр, то я пойду в костюме или смокинге. Да, у меня есть возможность поехать в Англию и купить смокинг за 250 фунтов, а платить полторы или две тысячи фунтов просто за бренд я не буду. Сказать, что я прямо «борюсь», я не могу, если мне хочется купить вещь – я просто ее покупаю. О марках не думаю.
Оскорбление чувств верующих
– Сейчас много споров вокруг разных акций и перформансов, говорят об «оскорблении общественности», «оскорблении верующих». Что вы скажете о допустимых границах? Многие художники считают, что выразить остроту проблем окружающего мира невозможно без провокации.
– Да нет, мне так не кажется.
– Да нет, мне так не кажется.
– Вы сами как относитесь к провокативным методам, используете или использовали их, чтобы до кого-то достучаться?
– Я чувствовал, что люди просто поняли то, что я хотел до них донести. Понимаете, критики современного искусства всегда ругали меня за то, что всё слишком идеально, слишком красиво. А для меня всё действительно так, если угодно – декоративно. У каждого человека свой уровень внутренней культуры. Кто-то может в Большом театре сделать провокационное безобразие, а я не могу.
Я даже в современном искусстве всегда старался соответствовать канонам. То есть я мог внести скандальную, обличающую идею, но никогда не делал это некрасиво. Я считаю, что если человек хочет указать на некую проблему в современном искусстве и в противовес ей что-то сделать, он должен очень четко продумать структуру.
Может быть, современными методами, с помощью новых технологий, с какими-то известными именами можно было бы сделать программу, снять фильм, организовать выставку, которая показала бы, что такое чувства верующего человека. Люди этого не понимают или забывают.
– Я чувствовал, что люди просто поняли то, что я хотел до них донести. Понимаете, критики современного искусства всегда ругали меня за то, что всё слишком идеально, слишком красиво. А для меня всё действительно так, если угодно – декоративно. У каждого человека свой уровень внутренней культуры. Кто-то может в Большом театре сделать провокационное безобразие, а я не могу.
Я даже в современном искусстве всегда старался соответствовать канонам. То есть я мог внести скандальную, обличающую идею, но никогда не делал это некрасиво. Я считаю, что если человек хочет указать на некую проблему в современном искусстве и в противовес ей что-то сделать, он должен очень четко продумать структуру.
Может быть, современными методами, с помощью новых технологий, с какими-то известными именами можно было бы сделать программу, снять фильм, организовать выставку, которая показала бы, что такое чувства верующего человека. Люди этого не понимают или забывают.
Вполне можно сделать проект, где показывается, например, что непонятная группа женщин, дергающихся и что-то там поющих в храме, глубоко оскорбляет и унижает чувства верующего человека. Кто-то говорит: зачем бедных девушек сажать за какие-то их проступки, это ведь искусство. Надо показать людям, что это не искусство и не может быть искусством. Надо пригласить экспертов, задействовать режиссеров, актеров, спортсменов – людей, у которых хорошее воспитание, образование, вкус и внутренняя культура, внутренняя нравственность, четкое осознание веры.
Человек может не ходить каждый день в храм, но должно быть уважение. Например, уважение к чувствам матери, которая всю жизнь ходила в церковь. Ты мог вырасти в другой среде, учиться в другой стране, приехать иным человеком, но мама осталась у тебя в сердце, в голове, в мыслях, и через это ты чувствуешь веру. Надо людям показывать, что это действительно свято. Можно говорить, что это кощунство, а не искусство, но зачем – получится просто скандал с защитной реакцией. Нужно показывать правильные вещи.
Человек может не ходить каждый день в храм, но должно быть уважение. Например, уважение к чувствам матери, которая всю жизнь ходила в церковь. Ты мог вырасти в другой среде, учиться в другой стране, приехать иным человеком, но мама осталась у тебя в сердце, в голове, в мыслях, и через это ты чувствуешь веру. Надо людям показывать, что это действительно свято. Можно говорить, что это кощунство, а не искусство, но зачем – получится просто скандал с защитной реакцией. Нужно показывать правильные вещи.
– Что вы имеете в виду под «правильными вещами»?
– Вот прилетаешь ты в Америку, стоишь на паспортном контроле и заодно смотришь фильм, который дает некое представление о том, в какой ты стране. Там показываются дружные семьи, какие-то счастливые моменты жизни, врачи, спортсмены и просто люди, какие-то пейзажи. Всё это очень хорошо передает ощущение от страны. Почему это делается на паспортном контроле? Чтобы у человека, который сюда приехал, сразу сложилось представление: здесь всё радостное, радужное, направленное на благо людей, и человек при этом должен правильно себя вести.
Мы в России об этом абсолютно не думаем. А у нас ведь есть наша Красная площадь, дворцы Петербурга, вообще дух красивой России, мороз, снег, сказки, наша история. Сколько мы прошли мировых войн, какие добрые дела мы сделали, мир литературы, живописи, балета, театра… Представьте, приезжаешь ты в Москву, стоишь на паспортном контроле – и тебе показывают Большой театр, балерину красивую, Петергоф, потом какую-нибудь бабушку из колхоза… Это можно назвать примитивным, но это же дает представление о стране! А у нас, увы, нет проектов ни о России, ни о верующих, никто не хочет этим заниматься.
– Вот прилетаешь ты в Америку, стоишь на паспортном контроле и заодно смотришь фильм, который дает некое представление о том, в какой ты стране. Там показываются дружные семьи, какие-то счастливые моменты жизни, врачи, спортсмены и просто люди, какие-то пейзажи. Всё это очень хорошо передает ощущение от страны. Почему это делается на паспортном контроле? Чтобы у человека, который сюда приехал, сразу сложилось представление: здесь всё радостное, радужное, направленное на благо людей, и человек при этом должен правильно себя вести.
Мы в России об этом абсолютно не думаем. А у нас ведь есть наша Красная площадь, дворцы Петербурга, вообще дух красивой России, мороз, снег, сказки, наша история. Сколько мы прошли мировых войн, какие добрые дела мы сделали, мир литературы, живописи, балета, театра… Представьте, приезжаешь ты в Москву, стоишь на паспортном контроле – и тебе показывают Большой театр, балерину красивую, Петергоф, потом какую-нибудь бабушку из колхоза… Это можно назвать примитивным, но это же дает представление о стране! А у нас, увы, нет проектов ни о России, ни о верующих, никто не хочет этим заниматься.
– А сатира какая-то возможна в искусстве? На ту же околоцерковную проблематику.
– Не знаю, мне кажется, что всё-таки сатира допустима, когда она изобличает какие-то смертные грехи: пьянство, обжорство, тщеславие. Как это всегда было в культуре. Шаржи, карикатуры, даже какие-то юмористические сюжеты в быту, как на изразцах голландских печек. В народном творчестве всё это есть. А вот в высоком искусстве такая сатира не имеет смысла, а церковь я бы вообще не затрагивал. В нашей традиции это вскользь проходит, например, на картине Василия Пукирева «Неравный брак» церковная тема есть, но самое главное – это всё-таки горе и страдания молодой девушки, которая выходит замуж за старика не по своей воле.
Есть великие исторические картины на церковные темы, мы все их знаем – та же «Боярыня Морозова» Сурикова. А жанр сатиры мне лично тут не близок, кажется не совсем уместным, что ли.
– Не знаю, мне кажется, что всё-таки сатира допустима, когда она изобличает какие-то смертные грехи: пьянство, обжорство, тщеславие. Как это всегда было в культуре. Шаржи, карикатуры, даже какие-то юмористические сюжеты в быту, как на изразцах голландских печек. В народном творчестве всё это есть. А вот в высоком искусстве такая сатира не имеет смысла, а церковь я бы вообще не затрагивал. В нашей традиции это вскользь проходит, например, на картине Василия Пукирева «Неравный брак» церковная тема есть, но самое главное – это всё-таки горе и страдания молодой девушки, которая выходит замуж за старика не по своей воле.
Есть великие исторические картины на церковные темы, мы все их знаем – та же «Боярыня Морозова» Сурикова. А жанр сатиры мне лично тут не близок, кажется не совсем уместным, что ли.
Боярыня Морозова. В.И. Суриков
Поэзия смерти
– Для проекта «Смерть брендам» вам пришлось много по кладбищам гулять. Какие впечатления, ощущения от этого были?
– Независимо от проектов, я люблю мемориальную культуру, может быть, даже сам занимался бы надгробиями. Недавно в инстаграмме вывесил фото на кладбище Донского монастыря. И мне знакомый спортсмен пишет: «Петр, фото на фоне церкви или монастыря – в самый раз. Фото на фоне могил и крестов – лучше избегать для верности». А я ему говорю, что на кладбище чувствую себя лучше, чем где-либо. Я очень четко осознаю, что отрезок времени, который мы здесь проводим – строго ограничен. Я не боюсь смерти как таковой, она придет в любом случае, чего ее бояться? Своих поступков нужно бояться и делать всё, чтобы достойно ее встретить.
Многие великие произведения воспевают момент смерти. Взять того же Шекспира, «Ромео и Джульетту»: вообще-то кульминация пьесы происходит в склепе, люди умирают из-за любви. Мне всегда нравились жития первых мучеников-христиан, которые так легко шли на смерть за Христа. Я бы с удовольствием такую смерть принял. Легко, не надо всю жизнь читать утреннюю и вечернюю молитву. Сказали тебе или «за Христа», или «Аллах акбар» – ты сказал «Я за Христа» – и всё, и сразу в рай (смеется).
– Независимо от проектов, я люблю мемориальную культуру, может быть, даже сам занимался бы надгробиями. Недавно в инстаграмме вывесил фото на кладбище Донского монастыря. И мне знакомый спортсмен пишет: «Петр, фото на фоне церкви или монастыря – в самый раз. Фото на фоне могил и крестов – лучше избегать для верности». А я ему говорю, что на кладбище чувствую себя лучше, чем где-либо. Я очень четко осознаю, что отрезок времени, который мы здесь проводим – строго ограничен. Я не боюсь смерти как таковой, она придет в любом случае, чего ее бояться? Своих поступков нужно бояться и делать всё, чтобы достойно ее встретить.
Многие великие произведения воспевают момент смерти. Взять того же Шекспира, «Ромео и Джульетту»: вообще-то кульминация пьесы происходит в склепе, люди умирают из-за любви. Мне всегда нравились жития первых мучеников-христиан, которые так легко шли на смерть за Христа. Я бы с удовольствием такую смерть принял. Легко, не надо всю жизнь читать утреннюю и вечернюю молитву. Сказали тебе или «за Христа», или «Аллах акбар» – ты сказал «Я за Христа» – и всё, и сразу в рай (смеется).
– Как у нас геополитическая ситуация развивается – так эта возможность еще, вполне возможно, будет предоставлена.
– Да я утрирую, конечно. Просто кладбища не страшные, я много на них бывал и в Милане, и в Венеции, и в Париже, русские кладбища – Донское, Александро-Невской лавры. Я просто еще очень люблю скульптуру. Вот вы изучаете скульптуру дворцовую, она очень понятная – Аполлон, Посейдон, Венера, Андромеда. Вот современная какая-то скульптура, тоже не очень сложная. А на кладбище каждая скульптура – это персонаж. В Венеции есть очень необычное детское кладбище, на миланском кладбище – огромные часовни, целый город с окнами, украшениями, потолком, бывают даже специальные места для хора.
– Да я утрирую, конечно. Просто кладбища не страшные, я много на них бывал и в Милане, и в Венеции, и в Париже, русские кладбища – Донское, Александро-Невской лавры. Я просто еще очень люблю скульптуру. Вот вы изучаете скульптуру дворцовую, она очень понятная – Аполлон, Посейдон, Венера, Андромеда. Вот современная какая-то скульптура, тоже не очень сложная. А на кладбище каждая скульптура – это персонаж. В Венеции есть очень необычное детское кладбище, на миланском кладбище – огромные часовни, целый город с окнами, украшениями, потолком, бывают даже специальные места для хора.
– Вы сейчас про кладбища рассказываете, а саму тему смерти как воспринимаете?
– С детства, через сказки. Они не для детей, конечно, на самом деле – вот читаю я сказку Шарля Перро, там мальчик-с-пальчик одел дочерей людоеда мальчиками, а потом папа пришел и им головы отрубил. Когда мне в детстве эту сказку читали, в голове сразу картинка вставала – мужская одежда, отрубленные головы, всё, их больше нет.
Потом я же мальчиком в Печоры ездил, ходил в пещеры, видел братское кладбище, могилы, захоронения, нетленные мощи, бывал на отпеваниях. Меня это не пугало. Другое дело, когда это не смерть «вообще», а ты видишь на смертном одре или на отпевании кого-то, кого ты знал и любил. Вот это пугающее ощущение. У меня бабушка умерла от рака, я прощался с ней практически с закрытыми глазами. Потому что это была не та красавица с буклями, которая меня кофе поила. Там лежала просто сгоревшая свечка. Это, конечно, тяжело.
Но когда ты подходишь к отцу Иоанну Крестьянкину прощаться, ты просто не хочешь отходить, ты понимаешь, что он живой, даже если он не живой. Вот некоторые мужчины пострелять хотят или на Эверест подняться в поиске адреналина, а я бы с удовольствием Псалтирь три ночи почитал один в церкви за покойника. Пока не было возможности, жду, думаю, представится. Кстати, очень люблю гоголевского «Вия».
– С детства, через сказки. Они не для детей, конечно, на самом деле – вот читаю я сказку Шарля Перро, там мальчик-с-пальчик одел дочерей людоеда мальчиками, а потом папа пришел и им головы отрубил. Когда мне в детстве эту сказку читали, в голове сразу картинка вставала – мужская одежда, отрубленные головы, всё, их больше нет.
Потом я же мальчиком в Печоры ездил, ходил в пещеры, видел братское кладбище, могилы, захоронения, нетленные мощи, бывал на отпеваниях. Меня это не пугало. Другое дело, когда это не смерть «вообще», а ты видишь на смертном одре или на отпевании кого-то, кого ты знал и любил. Вот это пугающее ощущение. У меня бабушка умерла от рака, я прощался с ней практически с закрытыми глазами. Потому что это была не та красавица с буклями, которая меня кофе поила. Там лежала просто сгоревшая свечка. Это, конечно, тяжело.
Но когда ты подходишь к отцу Иоанну Крестьянкину прощаться, ты просто не хочешь отходить, ты понимаешь, что он живой, даже если он не живой. Вот некоторые мужчины пострелять хотят или на Эверест подняться в поиске адреналина, а я бы с удовольствием Псалтирь три ночи почитал один в церкви за покойника. Пока не было возможности, жду, думаю, представится. Кстати, очень люблю гоголевского «Вия».
– Вы как-то легко об этом говорите, романтически. Мне «возможность предоставилась» – она заключалась в понимании того, что человек был рядом, а теперь его нет. И связи, взаимодействия с ним тоже нет. И знания никакого нет, только вера.
– У меня, как и у любого другого человека, есть опасения. Какая-то жизненная ситуация не разрешается, кто-то подводит, я впадаю в панику, думаю: «Как же так, что же делать». Но всегда рядом есть близкий человек, который мне говорит: «Такова жизнь, ничего, нужно идти дальше». Не надо тратить силы и думать, почему так произошло, не надо тратить время на переживания, надо просто с чистого листа делать дело. Так же, наверное, и в смерти. Когда ты теряешь близкого человека, то, с одной стороны, это действительно большая утрата, если ты его любил и тебе было с ним хорошо, комфортно, вы друг друга понимали. Но на всё воля Божья, и нужно продолжить идти вперед и до последнего вздоха делать то, в чем твое призвание.
– У меня, как и у любого другого человека, есть опасения. Какая-то жизненная ситуация не разрешается, кто-то подводит, я впадаю в панику, думаю: «Как же так, что же делать». Но всегда рядом есть близкий человек, который мне говорит: «Такова жизнь, ничего, нужно идти дальше». Не надо тратить силы и думать, почему так произошло, не надо тратить время на переживания, надо просто с чистого листа делать дело. Так же, наверное, и в смерти. Когда ты теряешь близкого человека, то, с одной стороны, это действительно большая утрата, если ты его любил и тебе было с ним хорошо, комфортно, вы друг друга понимали. Но на всё воля Божья, и нужно продолжить идти вперед и до последнего вздоха делать то, в чем твое призвание.
Радостные люди
– Вы говорили, что в перспективе хотели бы серьезно заниматься благотворительностью, а светские тусовки с аукционами таковой не считаете.
– Не то чтобы не считаю, просто это мне не очень близко. Такие аукционы часто проводятся зимой, близко к новогодним праздникам, когда людям хочется отдыха, слушать красивую музыку, видеть красивые вещи, участвовать в красивых событиях. И почему бы не пожертвовать деньги при этом. Если нас просят, мы тоже даем что-то для таких аукционов. Мы вообще никому не отказываем, с нами работало множество серьезных фондов. Одно время я ездил в детский дом «Павлин», помогал им периодически, с ребятами время проводил. На самом деле, я думаю, что любая благотворительность хороша. Конечно, если люди, которые приходят на аукционы, пойдут работать волонтерами, пользы будет больше. Но если они не пойдут, а просто пожертвуют 10 тысяч, 100 тысяч, миллион рублей – это хорошо.
В XVIII-XIX веках, например, не нужно было делать специальных собраний, чтобы найти на что-то деньги. Тогда человек сам понимал, что от своего дохода он должен отдать, помочь бедным. Сейчас это ушло.
– Не то чтобы не считаю, просто это мне не очень близко. Такие аукционы часто проводятся зимой, близко к новогодним праздникам, когда людям хочется отдыха, слушать красивую музыку, видеть красивые вещи, участвовать в красивых событиях. И почему бы не пожертвовать деньги при этом. Если нас просят, мы тоже даем что-то для таких аукционов. Мы вообще никому не отказываем, с нами работало множество серьезных фондов. Одно время я ездил в детский дом «Павлин», помогал им периодически, с ребятами время проводил. На самом деле, я думаю, что любая благотворительность хороша. Конечно, если люди, которые приходят на аукционы, пойдут работать волонтерами, пользы будет больше. Но если они не пойдут, а просто пожертвуют 10 тысяч, 100 тысяч, миллион рублей – это хорошо.
В XVIII-XIX веках, например, не нужно было делать специальных собраний, чтобы найти на что-то деньги. Тогда человек сам понимал, что от своего дохода он должен отдать, помочь бедным. Сейчас это ушло.
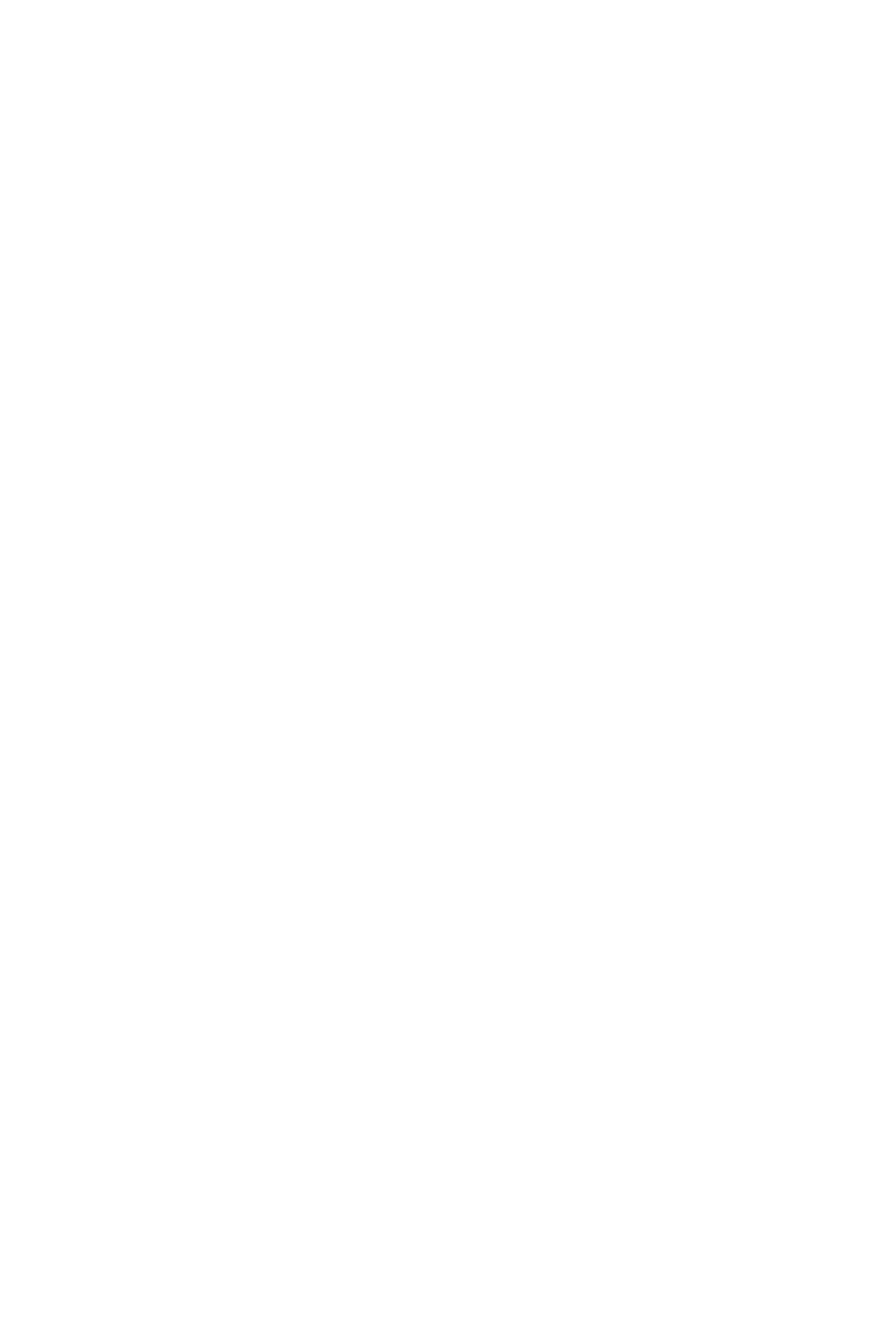
– Сейчас это есть в Европе и Америке.
– Да, а у нас этого уже нет. Вспомните, кто создал Красный крест в России – великие князья. И во время войны наши великие княжны сами занимались помощью в госпитале, лично перевязывали раненых бойцов, делали уколы, мыли. Люди с царской кровью, венценосные особы. И они радовались тому, что могут помочь, тому, что они нужны. Это было лучше, чем с утра до вечера обмахиваться веером, нюхать цветы, душиться духами и переодевать платья от завтрака к обеду, от обеда к ужину.
Мне кажется, что те люди несли бремя своего статуса гораздо проще, чем сейчас. Сегодня человек мечтает выстроить себе богатый дом, завесить его картинами, заставить его мебелью, он хочет всё купить. А когда люди в этом рождаются, они могут очень спокойно с этим расстаться, для них не имеет смысла нажитое. Царь сам чистил снег, копал картошку, делал зарядку, спал на полу, ел гречневую кашу.
– Да, а у нас этого уже нет. Вспомните, кто создал Красный крест в России – великие князья. И во время войны наши великие княжны сами занимались помощью в госпитале, лично перевязывали раненых бойцов, делали уколы, мыли. Люди с царской кровью, венценосные особы. И они радовались тому, что могут помочь, тому, что они нужны. Это было лучше, чем с утра до вечера обмахиваться веером, нюхать цветы, душиться духами и переодевать платья от завтрака к обеду, от обеда к ужину.
Мне кажется, что те люди несли бремя своего статуса гораздо проще, чем сейчас. Сегодня человек мечтает выстроить себе богатый дом, завесить его картинами, заставить его мебелью, он хочет всё купить. А когда люди в этом рождаются, они могут очень спокойно с этим расстаться, для них не имеет смысла нажитое. Царь сам чистил снег, копал картошку, делал зарядку, спал на полу, ел гречневую кашу.
– Современному обществу это не очень понятно. Сложно представить себе первых лиц государства работающими, а не перерезающими ленточку у госпиталя.
– Поразительно, сколько мы живем уже, как советская власть пришла (и ушла), у всех президентов были жены – никто ничего такого не делал. Всё-таки нет больше этой культуры и примеров нет.
Хотя вот герцогиня Кембриджская – Кейт Миддлтон – и ее благотворительная деятельность, помощь больным детям, участие в жизни детских хосписов – прекрасный пример.
– Поразительно, сколько мы живем уже, как советская власть пришла (и ушла), у всех президентов были жены – никто ничего такого не делал. Всё-таки нет больше этой культуры и примеров нет.
Хотя вот герцогиня Кембриджская – Кейт Миддлтон – и ее благотворительная деятельность, помощь больным детям, участие в жизни детских хосписов – прекрасный пример.
– А кто был примером для вас? Расскажите о том, кто по-настоящему повлиял, о таких, как писал митрополит Антоний Сурожский, «в глазах которых можно увидеть сияние вечной жизни».
– Отец Иоанн Крестьянкин. Мы познакомились, когда мне было лет пять, я к нему подбежал и сказал, что хочу быть монахом. Он был очень мудрым человеком, воспитанным, знающим. Помимо духовности, у него было умение разглядеть человека, психологические навыки, знание современного мира. Он прошел очень большой и насыщенный жизненный путь. Каждый год его жизни отличался от другого, он сам постоянно менялся, шел ли по этапу, был ли в лагерях, служил ли, работал, – у него всё время были новые задачи.
Этот человек очень много в жизни сделал, с большим количеством людей пообщался. Поэтому, когда он оказался в Печорах, у него уже был такой багаж знаний и опыта, что он видел людей насквозь. Он сразу понимал, что можно сказать, что нельзя, какое устроение у того или иного человека.
– Отец Иоанн Крестьянкин. Мы познакомились, когда мне было лет пять, я к нему подбежал и сказал, что хочу быть монахом. Он был очень мудрым человеком, воспитанным, знающим. Помимо духовности, у него было умение разглядеть человека, психологические навыки, знание современного мира. Он прошел очень большой и насыщенный жизненный путь. Каждый год его жизни отличался от другого, он сам постоянно менялся, шел ли по этапу, был ли в лагерях, служил ли, работал, – у него всё время были новые задачи.
Этот человек очень много в жизни сделал, с большим количеством людей пообщался. Поэтому, когда он оказался в Печорах, у него уже был такой багаж знаний и опыта, что он видел людей насквозь. Он сразу понимал, что можно сказать, что нельзя, какое устроение у того или иного человека.
Отец Иоанн никогда прямо не говорил – тебе в монастырь, тебе жениться. Он так беседовал с человеком, что тот сам приходил к правильному решению. Он никогда не давил, не осуждал. Мог пожурить, но всегда объяснял, почему какая-то ситуация недопустима. Например, девушка, живущая с больной матерью, влюбляется в парня из другого города. Что делать – бросать мать и уезжать или расставаться с парнем? Отец Иоанн очень тонко раскрывал ситуацию, он объяснял, что если любовь действительно сильна, то жених должен приехать хоть на полгода, чтобы пожить с девушкой и ее матерью. Если он захочет и сможет так поменять свою жизнь – значит, он настоящий.
Люди уходили от отца Иоанна успокоенными. Он был человек очень радостный, всегда светился, поднимал окружающим настроение. И очень деятельный, удивительно, сколько в нем было энергии. Он и молился за всех, и служил, и любил всех людей, всем давал сил. Я испытывал благодать уже просто когда в Печоры приезжал, неважно, получалось попасть в келью или нет. Увидишь его на службе – и тебя уже переполняют радостные чувства.
Люди уходили от отца Иоанна успокоенными. Он был человек очень радостный, всегда светился, поднимал окружающим настроение. И очень деятельный, удивительно, сколько в нем было энергии. Он и молился за всех, и служил, и любил всех людей, всем давал сил. Я испытывал благодать уже просто когда в Печоры приезжал, неважно, получалось попасть в келью или нет. Увидишь его на службе – и тебя уже переполняют радостные чувства.
– Часто вы к нему приезжали?
– Да, по четыре раза в год в детском возрасте, во время всех каникул практически.
– Вас родители возили?
– Мама. Потом, когда я учился в школе и институте, уже меньше ездил, но два раза в год обязательно, была связь и через письма. Конечно, отец Иоанн видел какие-то мои юношеские ошибки, но он никогда не рубил сплеча, знал, что могу еще чего-то не понимать. Когда моя мать пыталась жестко меня ограничить, куда-то не пустить, он приводил довольно много таких примеров мне, через которые я сам понимал, что должен ночевать дома. Что я могу быть в любом месте, в любой компании, но у меня есть правила, законы, какой-то стержень в меня уже заложен.
Отец Василий (Росляков), для меня Игорь… Я его встретил, когда он только пришел в Оптину. Мы тогда жили там с мамой, она была главным реставратором-иконописцем несколько лет. Игорь летом пришел паломником с рюкзаком, в клетчатой рубашке, еще без бороды, в джинсах, очень красивый высокий парень, молодой, образованный, мы встретились в воротах и я ему стал показывать, как здесь и что. Собственно, весь путь служения его видел. Таких тоже людей мало. Он закрытый, камерный – но он всегда был радостный, понимаете?
– Да, по четыре раза в год в детском возрасте, во время всех каникул практически.
– Вас родители возили?
– Мама. Потом, когда я учился в школе и институте, уже меньше ездил, но два раза в год обязательно, была связь и через письма. Конечно, отец Иоанн видел какие-то мои юношеские ошибки, но он никогда не рубил сплеча, знал, что могу еще чего-то не понимать. Когда моя мать пыталась жестко меня ограничить, куда-то не пустить, он приводил довольно много таких примеров мне, через которые я сам понимал, что должен ночевать дома. Что я могу быть в любом месте, в любой компании, но у меня есть правила, законы, какой-то стержень в меня уже заложен.
Отец Василий (Росляков), для меня Игорь… Я его встретил, когда он только пришел в Оптину. Мы тогда жили там с мамой, она была главным реставратором-иконописцем несколько лет. Игорь летом пришел паломником с рюкзаком, в клетчатой рубашке, еще без бороды, в джинсах, очень красивый высокий парень, молодой, образованный, мы встретились в воротах и я ему стал показывать, как здесь и что. Собственно, весь путь служения его видел. Таких тоже людей мало. Он закрытый, камерный – но он всегда был радостный, понимаете?
У меня друг есть, игумен в Грузии. Никакой он раньше был не игумен. Я своих друзей в храм насильно не тяну, у человека свое желание должно быть. Просто говорю, хочешь в монастырь? Я еду в Оптину, у тебя машина есть, довези меня. Он отвез, пару раз приехал, а через пять лет стал в Грузии монахом. Отец Иоанн, живет на горе сейчас там, мы при этом и по WhatsApp-у и по Viber-у общаемся.
Конечно, не все подвозившие меня в храм стали иеромонахами (смеется), да и вообще пришли в Церковь. Кому-то было достаточно доехать до храма и потом принять веру в свою душу, а кто-то ставил свечу и потом забывал о Церкви.
Примеров-то много, людей мирских тоже можно назвать, просто мне сложно, когда перед глазами отец Иоанн и отец Василий стоят.
Конечно, не все подвозившие меня в храм стали иеромонахами (смеется), да и вообще пришли в Церковь. Кому-то было достаточно доехать до храма и потом принять веру в свою душу, а кто-то ставил свечу и потом забывал о Церкви.
Примеров-то много, людей мирских тоже можно назвать, просто мне сложно, когда перед глазами отец Иоанн и отец Василий стоят.
Детство без телевизора
– Какая у вас семья? Мы знаем общую биографию, а обычная жизнь какая была? Необычная профессия у мамы всё-таки, особенно для советского времени.
– Я, к сожалению, не смог получить полноценного семейного воспитания, потому что родители были в разводе. С папой мы общались, но это было такое, светское общение. Мной занималась мама.
Будни – музыкальная и художественная школа, кружки, а воскресенье – более-менее свободный день. Мы жили на набережной Тараса Шевченко, рядом с гостиницей «Украина», и по воскресеньям ходили через мост пешком в церковь Иоанна Предтечи, которая никогда не закрывалась, возвращались, обедали, иногда ездили в какие-то усадьбы гулять. Я очень любил усадьбы в детстве и до сих пор их люблю. Ездили в Кусково, Архангельское, Царицыно.
– Я, к сожалению, не смог получить полноценного семейного воспитания, потому что родители были в разводе. С папой мы общались, но это было такое, светское общение. Мной занималась мама.
Будни – музыкальная и художественная школа, кружки, а воскресенье – более-менее свободный день. Мы жили на набережной Тараса Шевченко, рядом с гостиницей «Украина», и по воскресеньям ходили через мост пешком в церковь Иоанна Предтечи, которая никогда не закрывалась, возвращались, обедали, иногда ездили в какие-то усадьбы гулять. Я очень любил усадьбы в детстве и до сих пор их люблю. Ездили в Кусково, Архангельское, Царицыно.

С родителями
Когда в Царицыно открылся храм, мы стали ездить туда, потом гуляли по парку. Иногда ходили в музеи, в кино. Дома у нас телевизора не было – из принципа, опять же, правильного воспитания, чтобы я книги читал. Я с «Легким паром» или «Любовь и голуби» уже в Оптиной пустыни у соседки по даче – бабы Дуси – посмотрел.
– Это тоже к теме про последнюю модель iPhone. Сейчас, правда, телевизора как раз у многих нет.
– У меня есть крестница Аннушка, она видит, что ее старшие сестры занимаются балетом, родители ходят в Большой театр, дома у них постоянно звучит классика, репетитор по музыке проводит у них по 5-6 часов, занимаясь со всеми детьми по очереди. Когда в гостях ей поставили мультик про «Губку Боба» она сказала: «Я не хочу смотреть эти куски сыра, поставьте мне балет».
– У меня есть крестница Аннушка, она видит, что ее старшие сестры занимаются балетом, родители ходят в Большой театр, дома у них постоянно звучит классика, репетитор по музыке проводит у них по 5-6 часов, занимаясь со всеми детьми по очереди. Когда в гостях ей поставили мультик про «Губку Боба» она сказала: «Я не хочу смотреть эти куски сыра, поставьте мне балет».
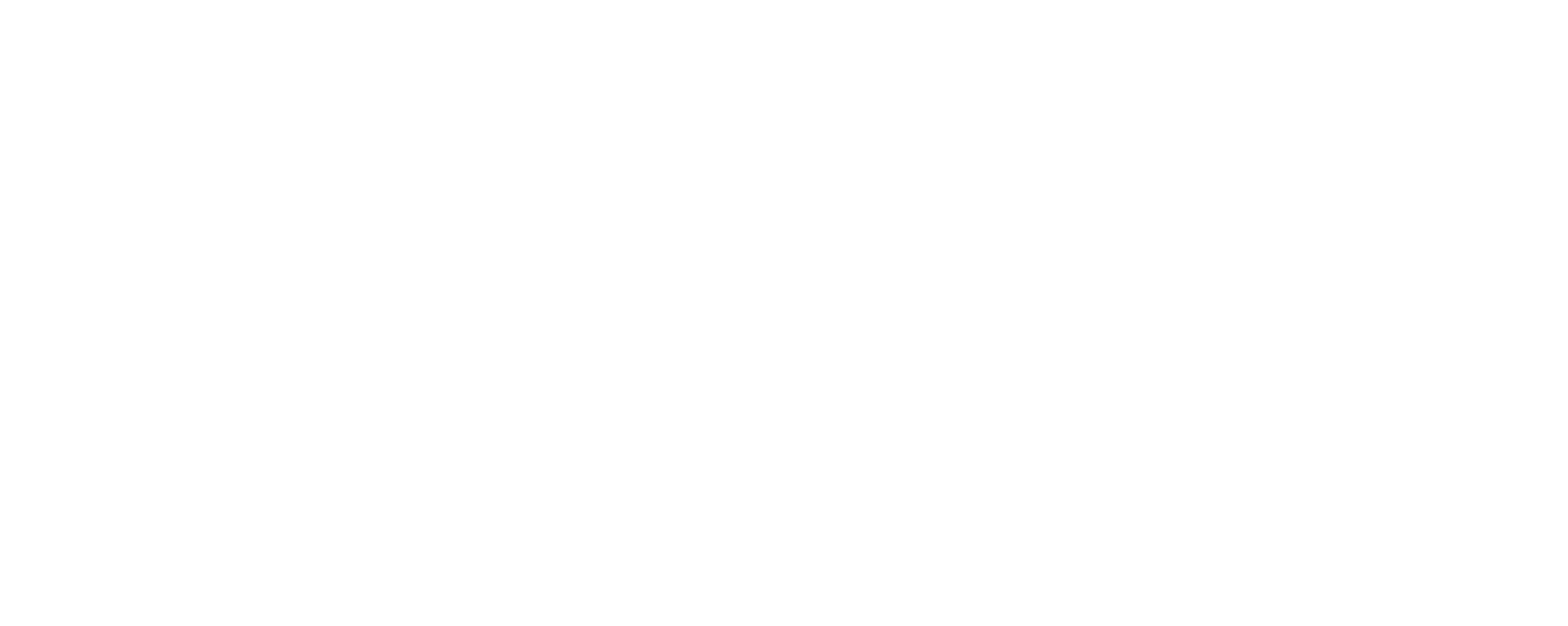
– Вам не было обидно, что у всех есть телевизор, а у вас нет?
– Мне в детстве очень нравилось, что я был не как все, меня это устраивало. А в молодости был период, когда хотелось плеер, ботинки определенной марки, джинсы, куртку «Пилот», рюкзачок, кепку. Мама мне что-то покупала, не ограничивала. А в детстве мне не нравилась советская уравниловка, то, что все должны быть одинаковыми. Я считал, что моя жизнь намного интереснее, богаче, чем у сверстников. Я приходил к ним домой – у них всё было скучно, холодильник, посуда, телик в углу. А у нас был самовар с вареньем и иконы висели. Я понимал, что среда, в которой я живу, необычная, поэтому мне не хотелось быть похожим на других детей.
– Мне в детстве очень нравилось, что я был не как все, меня это устраивало. А в молодости был период, когда хотелось плеер, ботинки определенной марки, джинсы, куртку «Пилот», рюкзачок, кепку. Мама мне что-то покупала, не ограничивала. А в детстве мне не нравилась советская уравниловка, то, что все должны быть одинаковыми. Я считал, что моя жизнь намного интереснее, богаче, чем у сверстников. Я приходил к ним домой – у них всё было скучно, холодильник, посуда, телик в углу. А у нас был самовар с вареньем и иконы висели. Я понимал, что среда, в которой я живу, необычная, поэтому мне не хотелось быть похожим на других детей.
Лариса Шеховцева – иконописец, реставратор, заведует иконописной мастерской Зачатьевского ставропигиального женского монастыря. Принимала участие в создании иконостаса Сретенского монастыря, восстановлении Данилова монастыря, Оптиной пустыни, Нового Иерусалима.
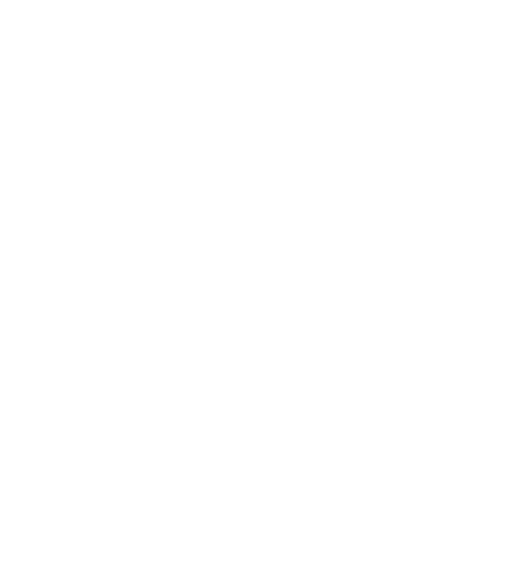
– У вас был подростковый кризис веры?
– Кризиса не было. Был некий формализм, я мог устать, сказать, что нет, я иду на день рождения, а не на всенощную, потому что обещал, мог не пойти, потому что «устал». Это было настолько глубоко мое, что я даже не мог этого понимать. Сейчас я приоритеты расставляю, сразу людям говорю, что не смогу прийти, опоздаю, хотите – ждите, хотите – не ждите. Или я не пью, или я пощусь. Если люди могут меня понять, я им это скажу, если не могут – я не буду говорить.
– Расскажите про маму.
– Мама прошла огонь, воду и медные труды, просто «Москва слезам не верит». Приехала из Курска, одна, получила образование, многого добилась. Она очень хороший художник-иконописец, хороший реставратор. Недавно Патриарх Кирилл наградил ее орденом Андрея Рублева первой степени.
– Кризиса не было. Был некий формализм, я мог устать, сказать, что нет, я иду на день рождения, а не на всенощную, потому что обещал, мог не пойти, потому что «устал». Это было настолько глубоко мое, что я даже не мог этого понимать. Сейчас я приоритеты расставляю, сразу людям говорю, что не смогу прийти, опоздаю, хотите – ждите, хотите – не ждите. Или я не пью, или я пощусь. Если люди могут меня понять, я им это скажу, если не могут – я не буду говорить.
– Расскажите про маму.
– Мама прошла огонь, воду и медные труды, просто «Москва слезам не верит». Приехала из Курска, одна, получила образование, многого добилась. Она очень хороший художник-иконописец, хороший реставратор. Недавно Патриарх Кирилл наградил ее орденом Андрея Рублева первой степени.

Она восстанавливала много монастырей. Первый ее опыт был в Троице-Сергиевой лавре, где была самая первая иконописная школа, мама там училась. Потом она реставрировала Данилов монастырь, написала на канонизацию икону преподобного Амвросия Оптинского. Через какое-то время получила распределение в Оптину пустынь, долго восстанавливала обитель. Дальше был Сретенский монастырь владыки Тихона (Шевкунова) и иконостас храма, Зачатьевский женский монастырь, где, собственно, Патриарх ее и наградил. А последние несколько лет она восстанавливает Новый Иерусалим.
Мама воспитала много специалистов, среди них есть даже люди без художественного образования, что не мешает им быть первоклассными реставраторами. Мама – человек разносторонний, интересуется искусством, политикой, кино, литературой, она с моими друзьями общается больше, чем с моими подругами. Идет в ногу со временем, путешествовать любит, особенно в Италию, смотреть на фрески, на великие работы Возрождения. Мне кажется, что у нее интересная, полноценная жизнь, она постоянно борется и работает. Я могу ею только гордиться.
Мама воспитала много специалистов, среди них есть даже люди без художественного образования, что не мешает им быть первоклассными реставраторами. Мама – человек разносторонний, интересуется искусством, политикой, кино, литературой, она с моими друзьями общается больше, чем с моими подругами. Идет в ногу со временем, путешествовать любит, особенно в Италию, смотреть на фрески, на великие работы Возрождения. Мне кажется, что у нее интересная, полноценная жизнь, она постоянно борется и работает. Я могу ею только гордиться.
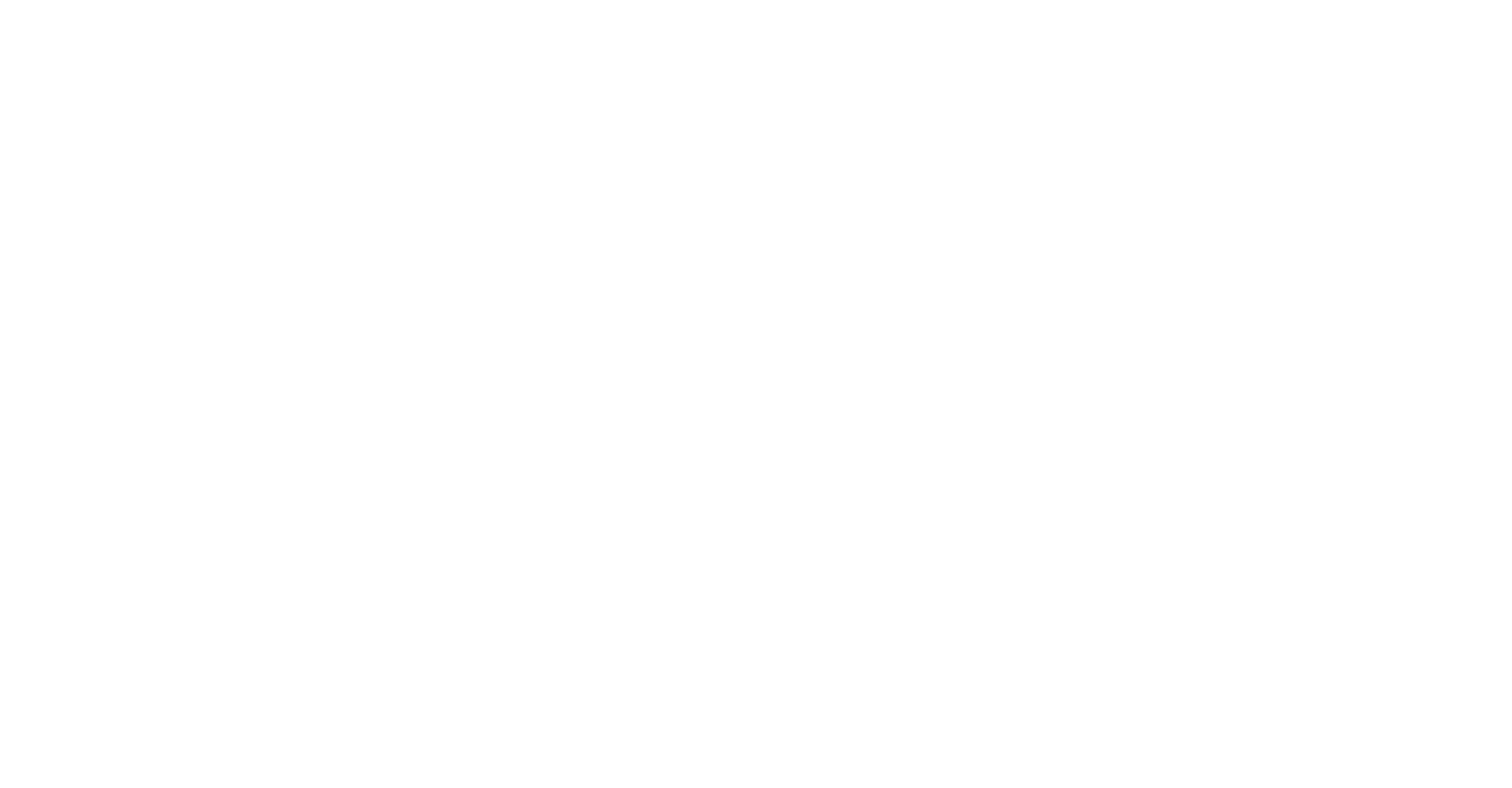
– А можете сформулировать какие-то главные жизненные уроки, которые мама вам преподала?
– Мы с ней разные люди: я политик и стратег, а мама – воительница. Когда ей что-то не нравится, она может быть жесткой, а я аккуратно решаю вопросы. Мама научила меня работать над собой, заставлять себя и вынуждать. Я всегда вдохновлялся ее примером, потому что видел, сколько она ради меня делает, и стараюсь так же относиться к людям, как она относилась ко мне. Но мама меня никогда не захваливала, наоборот, ругала, всегда хотела, чтобы я делал что-то лучше. У нас с ней всё время была борьба и даже сейчас иногда бывает: она считает, что я очень много мечтаю, что я слишком творческий.
– Мы с ней разные люди: я политик и стратег, а мама – воительница. Когда ей что-то не нравится, она может быть жесткой, а я аккуратно решаю вопросы. Мама научила меня работать над собой, заставлять себя и вынуждать. Я всегда вдохновлялся ее примером, потому что видел, сколько она ради меня делает, и стараюсь так же относиться к людям, как она относилась ко мне. Но мама меня никогда не захваливала, наоборот, ругала, всегда хотела, чтобы я делал что-то лучше. У нас с ней всё время была борьба и даже сейчас иногда бывает: она считает, что я очень много мечтаю, что я слишком творческий.

Теплохладная вера
– Как вы понимаете место мирянина в современной церковной жизни? Вы много изучали мирянское движение, а сами чувствуете себя нужным, важным в церкви?
– У меня довольно много друзей батюшек. Мы можем не общаться годами, но когда встречаемся, этого не чувствуется. Не всех церковных деятелей я сразу понимаю, не каждый клирик вызывает у меня большое уважение.
Я хотел бы видеть больше благотворительности – не от отдельных батюшек, а от Церкви в общем, чтобы в Церкви была большая молодежная организация, которая занималась бы волонтерством, и чтобы о ней знали. Это важно! Я уверен, что она есть, и не одна, но мало кто об этом знает. А как было бы хорошо, если бы люди понимали, что такое православная молодежь, что такое православная детская школа! Хотелось бы, чтобы у нас был университет, в котором преподавали бы английский язык – англичане, французский язык – французы.
Очень хочу, чтобы появился православный режиссер, который бы смог снимать кино не хуже «9 роты» или «Севастополя», и при этом был бы по-настоящему православным человеком, и через свое творчество свидетельствовал бы о Христе.
Думаю, всё еще впереди. Мне кажется, что православная молодежь должна красиво одеваться, заниматься спортом, следить за собой, идти в ногу со временем, быть хорошим примером для других. Это было бы прекрасно для проповеди среди людей, которые не ходят в храм.
– У меня довольно много друзей батюшек. Мы можем не общаться годами, но когда встречаемся, этого не чувствуется. Не всех церковных деятелей я сразу понимаю, не каждый клирик вызывает у меня большое уважение.
Я хотел бы видеть больше благотворительности – не от отдельных батюшек, а от Церкви в общем, чтобы в Церкви была большая молодежная организация, которая занималась бы волонтерством, и чтобы о ней знали. Это важно! Я уверен, что она есть, и не одна, но мало кто об этом знает. А как было бы хорошо, если бы люди понимали, что такое православная молодежь, что такое православная детская школа! Хотелось бы, чтобы у нас был университет, в котором преподавали бы английский язык – англичане, французский язык – французы.
Очень хочу, чтобы появился православный режиссер, который бы смог снимать кино не хуже «9 роты» или «Севастополя», и при этом был бы по-настоящему православным человеком, и через свое творчество свидетельствовал бы о Христе.
Думаю, всё еще впереди. Мне кажется, что православная молодежь должна красиво одеваться, заниматься спортом, следить за собой, идти в ногу со временем, быть хорошим примером для других. Это было бы прекрасно для проповеди среди людей, которые не ходят в храм.
– По моим ощущениям, у нас как раз нет разрыва между светской и церковной молодежью, кроме, может быть, первых месяцев неофитства. Но при этом общество очень многого ждет от людей церковных и православных. И мы не всегда оправдываем ожидания. Православная наша Дума голосует за закон Димы Яковлева, например. Такое происходит по многим направлениям. В американском Сенате очень логично голосовать за какого-то кандидата в соответствии с его религиозными убеждениями. Человек голосует против легализации однополых браков потому, что он католик, ссылаясь на доктрину Католической Церкви.
– Да, у многих людей в России, вроде бы православных, отношение к вере не глубокое. У них нет какого-то духовного стержня и нет нужного образования. Люди просто не понимают, что такое православие, для них это пойти в церковь и лоб перекрестить, на Пасху сходить крестным ходом. Но азы нужно знать, хотя бы раз в жизни что-то прочитать, это важно. Я считаю, что образование дает более осмысленное понимание веры. А у нас часто такая теплохладная вера: вроде ты верующий, но объяснить, почему ты против однополых браков с точки зрения догмата, не можешь.
– Да, у многих людей в России, вроде бы православных, отношение к вере не глубокое. У них нет какого-то духовного стержня и нет нужного образования. Люди просто не понимают, что такое православие, для них это пойти в церковь и лоб перекрестить, на Пасху сходить крестным ходом. Но азы нужно знать, хотя бы раз в жизни что-то прочитать, это важно. Я считаю, что образование дает более осмысленное понимание веры. А у нас часто такая теплохладная вера: вроде ты верующий, но объяснить, почему ты против однополых браков с точки зрения догмата, не можешь.
– В советское время произошел слом духовных и культурных традиций. Есть ли что-то, что пришло оттуда в нашу современную жизнь, но, по вашему мнению, лучше бы это осталось в прошлом?
– Мне симпатичны классы, которые были воспитаны в советское время. Врачи, военные. Сейчас это утеряно, а я бы возродил, например, систему военных городков, начал бы их реконструировать. Мне кажется, что класс военных – очень сильный, это люди, которые действительно должны обеспечиваться государством, понимать, ради чего они служат, хорошо зарабатывать. Из советского времени мне нравится некий строй, отношение к тому, как человек должен работать. Я не могу сказать, что мне советская культура близка, она уничтожала культуру предыдущего времени. Но создавали новую культуру такие же русские люди со светлыми душами, в этом-то и наша сила, что несмотря на коммунизм получилось пронести в себе эту чистоту. Мне ближе дореволюционный уклад, но и советская культура отторжения не вызывает.
– Мне симпатичны классы, которые были воспитаны в советское время. Врачи, военные. Сейчас это утеряно, а я бы возродил, например, систему военных городков, начал бы их реконструировать. Мне кажется, что класс военных – очень сильный, это люди, которые действительно должны обеспечиваться государством, понимать, ради чего они служат, хорошо зарабатывать. Из советского времени мне нравится некий строй, отношение к тому, как человек должен работать. Я не могу сказать, что мне советская культура близка, она уничтожала культуру предыдущего времени. Но создавали новую культуру такие же русские люди со светлыми душами, в этом-то и наша сила, что несмотря на коммунизм получилось пронести в себе эту чистоту. Мне ближе дореволюционный уклад, но и советская культура отторжения не вызывает.
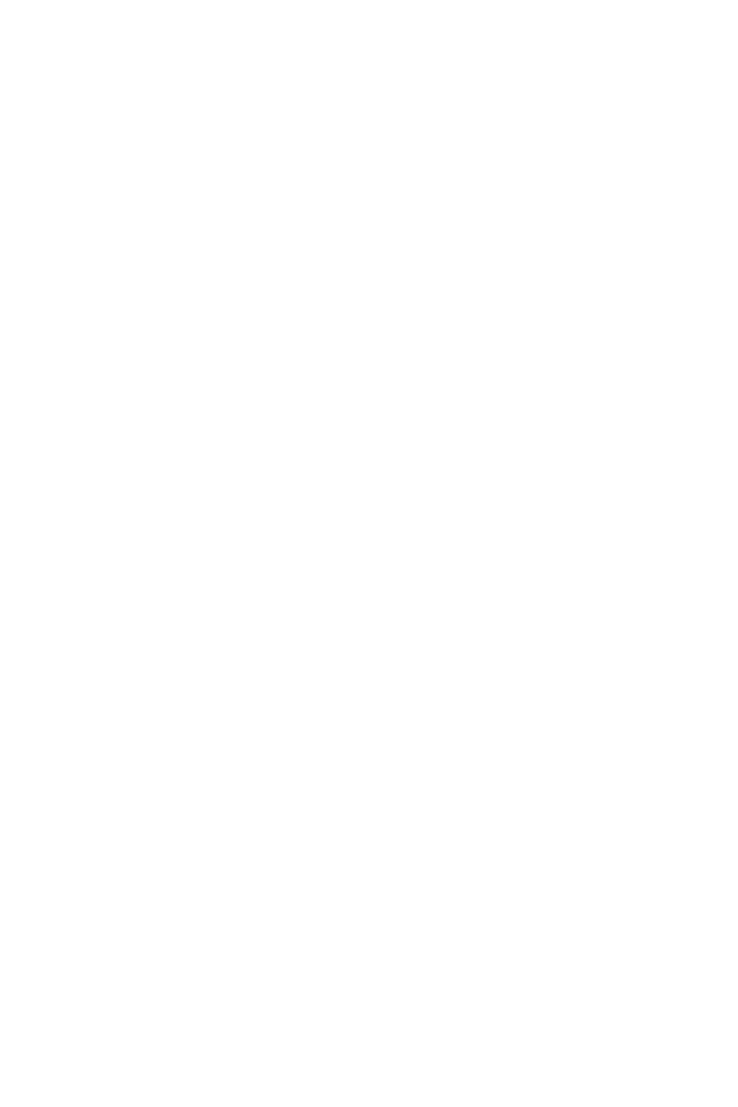
– А что не нравится? Какие-то черты, которые хотелось бы изжить.
– Ну, например, что?
– Часто говорят о большой неприветливости русских, говорят, что в Москве не улыбаются.
– Да не улыбаются, конечно, но дело тут не в советском времени. Не уверен, что в Петербурге или в Москве XIX века все постоянно ходили с улыбкой на лице. У нас всё-таки суровый климат, суровая страна, нет такой уж доброжелательности.
– В Канаде улыбаются.
– Но это немного наигранная культура всё-таки. Не знаю, я не испытываю дискомфорта. Вот ты идешь по улице в Америке, и тебе идут навстречу американцы, которые говорят: «How are you, как дела, какие у тебя красивые туфли, ты такой классный, откуда ты, из Скандинавии? Ты русский, круто!»
– Ну, например, что?
– Часто говорят о большой неприветливости русских, говорят, что в Москве не улыбаются.
– Да не улыбаются, конечно, но дело тут не в советском времени. Не уверен, что в Петербурге или в Москве XIX века все постоянно ходили с улыбкой на лице. У нас всё-таки суровый климат, суровая страна, нет такой уж доброжелательности.
– В Канаде улыбаются.
– Но это немного наигранная культура всё-таки. Не знаю, я не испытываю дискомфорта. Вот ты идешь по улице в Америке, и тебе идут навстречу американцы, которые говорят: «How are you, как дела, какие у тебя красивые туфли, ты такой классный, откуда ты, из Скандинавии? Ты русский, круто!»
И в то же время в Екатеринбурге или Краснодаре проходят мимо тебя какие-то ребята, они даже не собираются с тобой здороваться, не то что делать комплименты. Но ты спросишь, как куда-то пройти, встретишься с ними взглядом – и уже общаешься, и тепло становится. Помните – у Тарковского: «Встретиться и причаститься взглядом»…
Не могу сказать, что я хочу, чтобы все улыбались. Конечно, в церкви кусаться не должны, но в общем меня не гнетет постсоветская культура. Я очень люблю Тарковского, у него тоже в фильмах никто не улыбается, однако это гениальное кино.
Не могу сказать, что я хочу, чтобы все улыбались. Конечно, в церкви кусаться не должны, но в общем меня не гнетет постсоветская культура. Я очень люблю Тарковского, у него тоже в фильмах никто не улыбается, однако это гениальное кино.