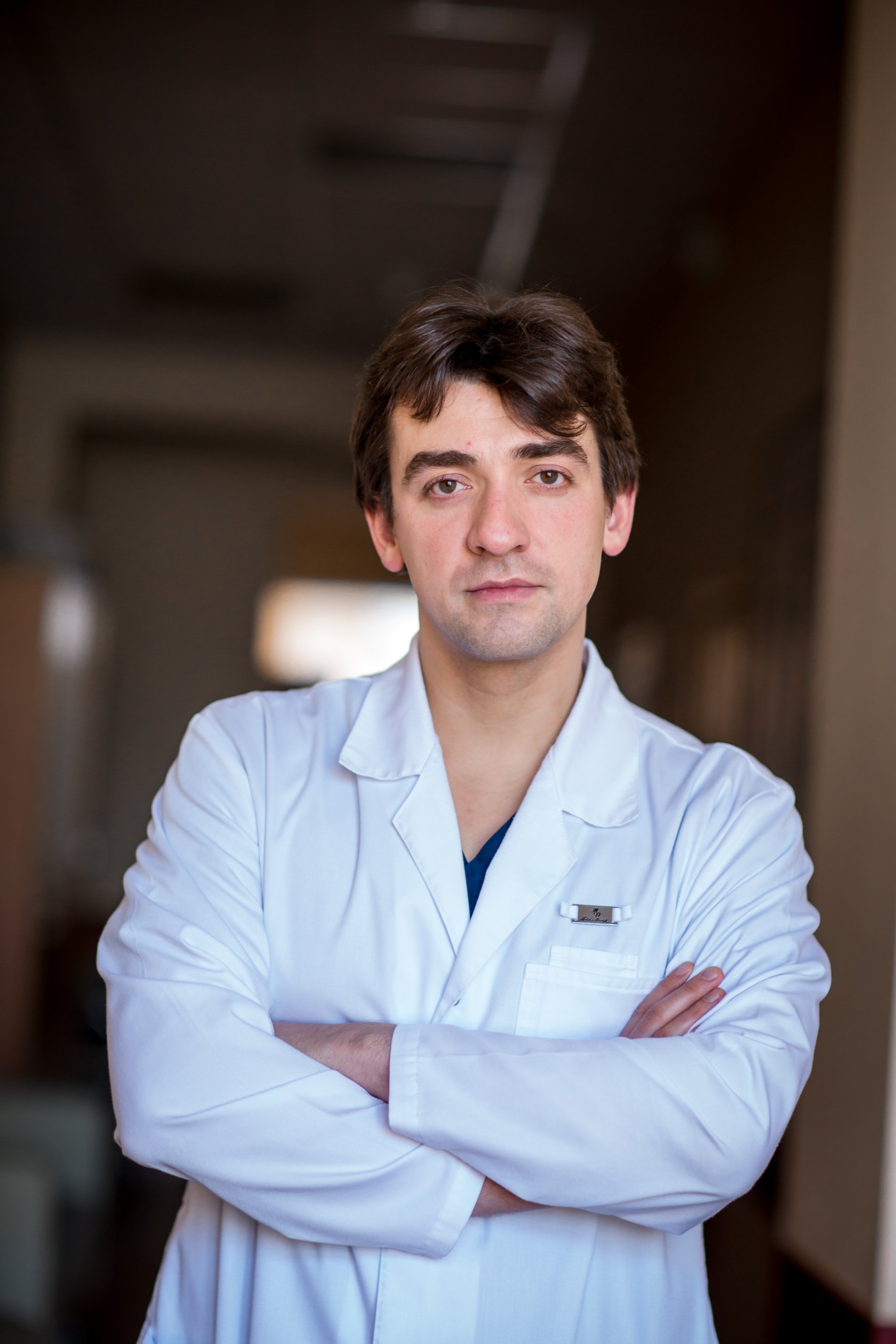Анна Данилова
Алексей Кащеев: В чем трагедия врача в России
«Правмир» продолжает серию бесед о жизни, смерти и любви. Это честный разговор с современниками без попыток подогнать беседу под готовый ответ. Алексей Кащеев – врач-нейрохирург, поэт, блогер, джазовый музыкант и директор бюро переводов медицинских текстов. Наш разговор – о врачебной этике, о вопросах правового регулирования взаимоотношений пациента и доктора, о проблемах нынешнего здравоохранения… и о роли смерти в жизни каждого человека.
|
СПРАВКА
Алексей Кащеев родился в Москве в 1986 г. В 2009 г. с отличием закончил лечебный факультет Российского государственного медицинского университета. Врач-нейрохирург, специалист по спинальной хирургии, хирургии периферических нервов, противоболевой функциональной хирургии. Кандидат медицинских наук. Автор более чем 50 публикаций и тезисов в отечественной и зарубежной печати, 1 патента. Генеральный директор бюро медицинских переводов GMT-Group. Поэт, публицист, публиковался в журналах «Континент», «Интерпоэзия», «ШО», «Новая Юность», «Дети Ра» и др. Стихи переведены на французский и украинский языки. Шорт-лист премии «Дебют». |
Я хочу видеть, что мной интересуется смерть
– Алексей, а вот так с ходу – вы можете рассказать о вашем видении и понимании смерти?
– Я все время чувствую себя в двух ипостасях. С одной стороны, смерть – часть моей повседневной работы, работы врача. Я постоянно общаюсь с ней и, как врач, воспринимаю смерть как своего противника. Смерть и является, и не является нормой, ведь это закономерный финал любой жизни, но во многом наша работа состоит в том, чтобы предотвратить смерть или самому не стать ее причиной.
С другой стороны, для меня как для человека, пишущего стихи и занимающегося окололитературной и литературной деятельностью, смерть, в общем-то, является близким другом. Это для меня одна из наиболее важных тем в творчестве. И я воспринимаю смерть как нечто гарантированное человеку. У меня можно отнять все что угодно – здоровье, любимых людей, профессию, руки – в прямом смысле слова.
– Я все время чувствую себя в двух ипостасях. С одной стороны, смерть – часть моей повседневной работы, работы врача. Я постоянно общаюсь с ней и, как врач, воспринимаю смерть как своего противника. Смерть и является, и не является нормой, ведь это закономерный финал любой жизни, но во многом наша работа состоит в том, чтобы предотвратить смерть или самому не стать ее причиной.
С другой стороны, для меня как для человека, пишущего стихи и занимающегося окололитературной и литературной деятельностью, смерть, в общем-то, является близким другом. Это для меня одна из наиболее важных тем в творчестве. И я воспринимаю смерть как нечто гарантированное человеку. У меня можно отнять все что угодно – здоровье, любимых людей, профессию, руки – в прямом смысле слова.
Я постоянно вижу людей, у которых нет ничего, у которых болезнь отняла все. Но последнее, что можно отнять – это смерть, это то, что мне гарантировано. Поэтому мысли о грядущей смерти меня успокаивают: мне легче от того, что я умру, мне спокойнее от того, что я умру.
Я не могу сказать, что не боюсь смерти – наверное, ее боится любой человек – но мне легче от того, что я умру. Именно с этим связаны мои увлечения разными экстремальными видами спорта: я постоянно заигрываю с ней в хорошем смысле слова, я хочу видеть с ее стороны взаимность, я хочу увидеть, что она мной интересуется.

Перед операцией. Пациентка поступила с острой болью в спине, сейчас ей будут удалять межпозвонковую грыжу.
– В хорошем смысле слова?
– Я это делаю только в пределах разумного, то есть если мне предложат сыграть в русскую рулетку, то я откажусь. Я участвую только в управляемых процессах.
– В которых есть большая доля риска?
– Небольшая, но она присутствует, и это мне многое дает. Например, раз в год я хожу в достаточно серьезные горные походы, и это дает мне энергетику для моего существования. Подвергаю ли я риску себя, мою жену, друзей, собаку? Да, подвергаю, но спрашивается, буду ли это я, если я откажусь от этого, и насколько вред, причиненный этим, перекрывает тот вред, как если бы я этого не делал. Это, в общем-то, можно назвать эгоизмом.
Я бывал на лекциях выдающихся альпинистов, и я могу сказать, что люди, которые занимаются альпинизмом высокого уровня (а я, в общем-то, любитель), которые делают это делом своей жизни – это, конечно, глубокие психопаты. Психопаты в прямом смысле слова, в клиническом, это люди, которым не то что абсолютно плевать на окружающих – наоборот, они упиваются тем, как все за них переживают.
Была, например, известная история, потом нашедшая отражение в фильме «Эверест». Эта история известна всем альпинистам, когда специально по спутнику связали умирающего альпиниста с его женой, чтобы они поговорили в последний раз. Когда это пересказывают «настоящие» альпинисты, видно, как они упиваются этой идиллией: «А хорошо бы и мне тоже так же…» Я не психопат, я не из этих.
– Не боитесь, что эта игра может закончиться…?
– Ну, конечно, она закончится, я даже не сомневаюсь в этом. Я умру, я же говорю, что это гарантировано.
– Но ведь можно умереть и безвременной смертью...
– Да. На первый взгляд кажется, что виды спорта, которыми я занимаюсь – горы, дайвинг и так далее – это спорт для психопатов, прививающий лишь любовь к опасности. На самом деле наоборот – все это учит контролю над опасностью. А что касается безвременной кончины, это может произойти с любым – я постоянно вижу нелепую странную болезнь, странную смерть.
– Понятно, что тромб может оторваться и дома, когда человек ничего специально не делает. Но намеренное заигрывание, о котором вы говорите – нет ли в этом некой суицидальности?
– Все же я не совершаю ничего безумного. В каком-то смысле любовь к риску – это одна из причин, которые подтолкнули меня к занятиям хирургией. Ведь наряду с позитивной мотивацией к тому, чтобы стать хирургом, которая, я надеюсь, у меня тоже имеется (любовь к людям, гуманизм, желание помочь и так далее), есть еще и субъективные причины – в частности, любовь к риску. Многие выбирают хирургию, потому что им нравится рисковать. Нужна профессия, которая стимулирует к принятию сложных решений в сложных ситуациях.
– Я это делаю только в пределах разумного, то есть если мне предложат сыграть в русскую рулетку, то я откажусь. Я участвую только в управляемых процессах.
– В которых есть большая доля риска?
– Небольшая, но она присутствует, и это мне многое дает. Например, раз в год я хожу в достаточно серьезные горные походы, и это дает мне энергетику для моего существования. Подвергаю ли я риску себя, мою жену, друзей, собаку? Да, подвергаю, но спрашивается, буду ли это я, если я откажусь от этого, и насколько вред, причиненный этим, перекрывает тот вред, как если бы я этого не делал. Это, в общем-то, можно назвать эгоизмом.
Я бывал на лекциях выдающихся альпинистов, и я могу сказать, что люди, которые занимаются альпинизмом высокого уровня (а я, в общем-то, любитель), которые делают это делом своей жизни – это, конечно, глубокие психопаты. Психопаты в прямом смысле слова, в клиническом, это люди, которым не то что абсолютно плевать на окружающих – наоборот, они упиваются тем, как все за них переживают.
Была, например, известная история, потом нашедшая отражение в фильме «Эверест». Эта история известна всем альпинистам, когда специально по спутнику связали умирающего альпиниста с его женой, чтобы они поговорили в последний раз. Когда это пересказывают «настоящие» альпинисты, видно, как они упиваются этой идиллией: «А хорошо бы и мне тоже так же…» Я не психопат, я не из этих.
– Не боитесь, что эта игра может закончиться…?
– Ну, конечно, она закончится, я даже не сомневаюсь в этом. Я умру, я же говорю, что это гарантировано.
– Но ведь можно умереть и безвременной смертью...
– Да. На первый взгляд кажется, что виды спорта, которыми я занимаюсь – горы, дайвинг и так далее – это спорт для психопатов, прививающий лишь любовь к опасности. На самом деле наоборот – все это учит контролю над опасностью. А что касается безвременной кончины, это может произойти с любым – я постоянно вижу нелепую странную болезнь, странную смерть.
– Понятно, что тромб может оторваться и дома, когда человек ничего специально не делает. Но намеренное заигрывание, о котором вы говорите – нет ли в этом некой суицидальности?
– Все же я не совершаю ничего безумного. В каком-то смысле любовь к риску – это одна из причин, которые подтолкнули меня к занятиям хирургией. Ведь наряду с позитивной мотивацией к тому, чтобы стать хирургом, которая, я надеюсь, у меня тоже имеется (любовь к людям, гуманизм, желание помочь и так далее), есть еще и субъективные причины – в частности, любовь к риску. Многие выбирают хирургию, потому что им нравится рисковать. Нужна профессия, которая стимулирует к принятию сложных решений в сложных ситуациях.

Небольшой надрез в спине. Операция началась
– Не страшно от того, что ошибка может быть фатальной?
– Страх – нормальный спутник любого хирурга, без него очень легко потерять концентрацию. Правда, хирург более старшего возраста об этом уже не скажет, потому что разумный, обоснованный страх настолько стал частью его движений, что он уже не может отличить, где есть страх, а где его нет. Я же сейчас нахожусь в самом продуктивном для обучения возрасте, и мне ежедневно нужно, побеждая страх, пытаться делать что-то новое.
Страх – позитивное чувство, консервативное в хорошем смысле слова; он заставляет держаться границ, не делать лишнего, тысячу раз подумать, позвать старшего, если ты в чем-то не уверен, потому что хирургия – это командная работа, и всегда есть смысл обратиться за помощью. У меня есть страх, его достаточно много, и это нормально, так и должно быть. Страх должен быть руководством к действию, но ни в коем случае не ограничивающим фактором.
В то же время как психогенный фактор страх, конечно, нужно ограничивать. Я знаю людей, с которыми я учился и которые из-за страха покидали медицину, потому боязнь сделать что-то не так становилась мучительной фобией. Должна быть здоровая грань между некоторым пофигизмом и запредельной ответственностью. Только балансируя между ними, можно нормально лечить. Если ничего не видеть, кроме ответственности и страха за жизнь, то лечения не получится.
– Страх – нормальный спутник любого хирурга, без него очень легко потерять концентрацию. Правда, хирург более старшего возраста об этом уже не скажет, потому что разумный, обоснованный страх настолько стал частью его движений, что он уже не может отличить, где есть страх, а где его нет. Я же сейчас нахожусь в самом продуктивном для обучения возрасте, и мне ежедневно нужно, побеждая страх, пытаться делать что-то новое.
Страх – позитивное чувство, консервативное в хорошем смысле слова; он заставляет держаться границ, не делать лишнего, тысячу раз подумать, позвать старшего, если ты в чем-то не уверен, потому что хирургия – это командная работа, и всегда есть смысл обратиться за помощью. У меня есть страх, его достаточно много, и это нормально, так и должно быть. Страх должен быть руководством к действию, но ни в коем случае не ограничивающим фактором.
В то же время как психогенный фактор страх, конечно, нужно ограничивать. Я знаю людей, с которыми я учился и которые из-за страха покидали медицину, потому боязнь сделать что-то не так становилась мучительной фобией. Должна быть здоровая грань между некоторым пофигизмом и запредельной ответственностью. Только балансируя между ними, можно нормально лечить. Если ничего не видеть, кроме ответственности и страха за жизнь, то лечения не получится.

Несколько раз проверять все перед операцией - сторону, снимки - привычное и обязательное дело
Речевой центр был разрушен, но она говорила
– А в жизнь после смерти вы верите?
– Я крещеный, но я агностик. Мне многое нравится в христианстве, оно мне ближе и интереснее других религий, потому что христианство ближе к той культуре, в которой я нахожусь. Но и другие религиозные системы я тоже стараюсь познавать. При этом вопрос о возможности жизни после смерти на текущий момент не имеет для меня значения, мне все равно.
– Когда вы близко сталкиваетесь со смертью, вы считаете, что все на этом заканчивается, что это финальная точка, после которой ничего нет, или все же…?
– Как бы то ни было, есть очень много необъяснимых событий и фактов, которые можно назвать чудесами или провидением. К ним можно отнести нечастые случаи трудно понятного излечения или трудно понятного заболевания. Дело в том, что лечение, особенно тяжелой болезни, как некое экзистенциальное событие на грани между жизнью и смертью, подвержено очень большому количеству факторов. И часть из этих факторов настолько удивительны, что их трудно объяснить. Некоторые из них я бы даже отнес к паранормальной активности.
– Я крещеный, но я агностик. Мне многое нравится в христианстве, оно мне ближе и интереснее других религий, потому что христианство ближе к той культуре, в которой я нахожусь. Но и другие религиозные системы я тоже стараюсь познавать. При этом вопрос о возможности жизни после смерти на текущий момент не имеет для меня значения, мне все равно.
– Когда вы близко сталкиваетесь со смертью, вы считаете, что все на этом заканчивается, что это финальная точка, после которой ничего нет, или все же…?
– Как бы то ни было, есть очень много необъяснимых событий и фактов, которые можно назвать чудесами или провидением. К ним можно отнести нечастые случаи трудно понятного излечения или трудно понятного заболевания. Дело в том, что лечение, особенно тяжелой болезни, как некое экзистенциальное событие на грани между жизнью и смертью, подвержено очень большому количеству факторов. И часть из этих факторов настолько удивительны, что их трудно объяснить. Некоторые из них я бы даже отнес к паранормальной активности.

– Можете привести пример из личного опыта?
– Да, это пример не из медицинской практики, а из моей собственной жизни. Я помню свою прабабушку, и так случилось, что она на семь месяцев пережила своего сына, моего дедушку, он умер раньше. К тому моменту, как он скончался от продолжительной болезни, она была на 7-м или 8-м месяце тяжелого нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу. Это нарушение полностью забило левое полушарие, а она была правшой, и, согласно данным МРТ, все центры, контролирующие в том числе речь, были разрушены. Ее левое полушарие не функционировало, и с тех пор она была тяжелым инвалидом, находилась дома с сиделкой и почти не шевелилась. У нее были признаки сознания, но никакой речи быть не могло.
Так вот, когда умер ее сын, тем же вечером мне позвонила сиделка и сказала, что прабабушка хочет со мной поговорить, и дала ей трубку. Дрожащим, но относительно вменяемым голосом прабабушка спросила меня: «Где Вадим?» Я соврал, я сказал ей, что он с нами. Она еще раз задала тот же вопрос, и с тех пор уже не разговаривала до самой смерти. Мне трудно это объяснить как материалисту, потому что правше без левого полушария просто нечем говорить…
И такими случаями изобилует медицина и смежные области – там, где материальное сталкивается с нематериальным. Поэтому думаю ли я о том, что будет после смерти?.. Не знаю, не уверен.
– Это базовый вопрос миропонимания, и даже для человека верующего ответ не всегда очевиден. Ведь нет никакой физически осязаемой уверенности в продолжении существования себя самого или своих близких…
– Мне практически всех своих близких выпало похоронить, у меня почти никого нет. Я задумался об этом и искал утешения в разных умозаключениях. И наименее утешительным мне оказалась размышление на тему того, что человек продолжает свое существование в каком-то виде после своего конца: просто с бытовых позиций еще тяжелее от того, что кто-то где-то есть, а связаться с ним невозможно. В каком-то смысле мне даже ближе соцреалистический подход, согласно которому человека нет, но он есть в делах, в словах.
– Разумеется, ведь человека нельзя свести только к набору его физических функций…
– Именно поэтому такой проблемой – как раз возвращаясь к смерти – является проблема смерти мозга и поддержания каких-то вегетативных состояний. Смерть мозга – это не смерть тела, но это состояние, сопровождающееся необратимой утратой в человеке психических функций, то есть всего человеческого. С точки зрения науки и с точки зрения юриспруденции именно поэтому смерть мозга приравнивается к биологической смерти. С точки же зрения религии это не так очевидно.
– Да, это пример не из медицинской практики, а из моей собственной жизни. Я помню свою прабабушку, и так случилось, что она на семь месяцев пережила своего сына, моего дедушку, он умер раньше. К тому моменту, как он скончался от продолжительной болезни, она была на 7-м или 8-м месяце тяжелого нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу. Это нарушение полностью забило левое полушарие, а она была правшой, и, согласно данным МРТ, все центры, контролирующие в том числе речь, были разрушены. Ее левое полушарие не функционировало, и с тех пор она была тяжелым инвалидом, находилась дома с сиделкой и почти не шевелилась. У нее были признаки сознания, но никакой речи быть не могло.
Так вот, когда умер ее сын, тем же вечером мне позвонила сиделка и сказала, что прабабушка хочет со мной поговорить, и дала ей трубку. Дрожащим, но относительно вменяемым голосом прабабушка спросила меня: «Где Вадим?» Я соврал, я сказал ей, что он с нами. Она еще раз задала тот же вопрос, и с тех пор уже не разговаривала до самой смерти. Мне трудно это объяснить как материалисту, потому что правше без левого полушария просто нечем говорить…
И такими случаями изобилует медицина и смежные области – там, где материальное сталкивается с нематериальным. Поэтому думаю ли я о том, что будет после смерти?.. Не знаю, не уверен.
– Это базовый вопрос миропонимания, и даже для человека верующего ответ не всегда очевиден. Ведь нет никакой физически осязаемой уверенности в продолжении существования себя самого или своих близких…
– Мне практически всех своих близких выпало похоронить, у меня почти никого нет. Я задумался об этом и искал утешения в разных умозаключениях. И наименее утешительным мне оказалась размышление на тему того, что человек продолжает свое существование в каком-то виде после своего конца: просто с бытовых позиций еще тяжелее от того, что кто-то где-то есть, а связаться с ним невозможно. В каком-то смысле мне даже ближе соцреалистический подход, согласно которому человека нет, но он есть в делах, в словах.
– Разумеется, ведь человека нельзя свести только к набору его физических функций…
– Именно поэтому такой проблемой – как раз возвращаясь к смерти – является проблема смерти мозга и поддержания каких-то вегетативных состояний. Смерть мозга – это не смерть тела, но это состояние, сопровождающееся необратимой утратой в человеке психических функций, то есть всего человеческого. С точки зрения науки и с точки зрения юриспруденции именно поэтому смерть мозга приравнивается к биологической смерти. С точки же зрения религии это не так очевидно.

– Вернемся к положительной тематике. Вы говорили о «чудесах», о необъяснимом улучшении состояния человека.
– Да, но это было временное улучшение. Случаев невыносимого страдания человека было куда больше. Я не припомню ни одного случая чудесного исцеления пациента со смертельным диагнозом. Все эти случаи излечения от рака – это просто неверная диагностика, ошибки гистологов и так далее. Если диагноз поставлен на основании научно обоснованный базы, обычно он не опровергается.
– Да, но это было временное улучшение. Случаев невыносимого страдания человека было куда больше. Я не припомню ни одного случая чудесного исцеления пациента со смертельным диагнозом. Все эти случаи излечения от рака – это просто неверная диагностика, ошибки гистологов и так далее. Если диагноз поставлен на основании научно обоснованный базы, обычно он не опровергается.
Операция – это веселый и часто расслабленный процесс
– В одном из интервью вы говорили, что операция – это ситуация, в которой хирург является «Deus ex machina». Чувствуете ли себя творцом в этот момент?
– Нет, это очень вредное чувство. Только в интервью я могу так сказать, но во время операции об этом не задумываешься. Вообще, операция проходит немного не так, как это, например, показывается в фильмах. Операция – это достаточно спокойный, веселый, иногда длинный и часто расслабленный процесс. Безусловно, как и в любой греческой драме, если вы о самом выражении «бог из машины», там есть разные моменты, разная динамика.
– Нет, это очень вредное чувство. Только в интервью я могу так сказать, но во время операции об этом не задумываешься. Вообще, операция проходит немного не так, как это, например, показывается в фильмах. Операция – это достаточно спокойный, веселый, иногда длинный и часто расслабленный процесс. Безусловно, как и в любой греческой драме, если вы о самом выражении «бог из машины», там есть разные моменты, разная динамика.
Всегда должно быть ощущение того, что ты отвечаешь за нечто крайне важное. Ты держишь в руках жизнь или, что чаще бывает в моей специальности – спинальной хирургии – у тебя есть риск тяжело нарушить функцию, и это тоже тяжкое бремя.
Ощущение того, что ты можешь сделать что-то такое, в результате чего человек будет страдать хронической болью до конца своих дней, или не будет ходить, или шевелить рукой. Но это ощущение значимости происходящего не способствует минимизации рисков. А минимизации рисков, как показывает и отечественный, и европейский опыт, способствует только одно – это следование протоколу. Задача оперирующего хирурга – минимизировать воздействие случайных факторов во время операции. Иногда, конечно, нужно импровизировать, но в основном ситуация развивается по сценарию.
Вообще же в большой хирургии, в конце концов, остаются две категории людей: люди, очень влюбленные в себя, и люди, обладающие садистскими наклонностями, этакие девианты. Это не значит, что и те, и другие не могут быть замечательными специалистами.
Вообще же в большой хирургии, в конце концов, остаются две категории людей: люди, очень влюбленные в себя, и люди, обладающие садистскими наклонностями, этакие девианты. Это не значит, что и те, и другие не могут быть замечательными специалистами.

– К какому типу относитесь вы?
– Скорее, к первому. Я уверен, что я – божество (смеется). В любом случае, нелепого пафоса по поводу героичности ежедневной работы по «спасению жизней» я за хирургами не замечал.
– А зависимость от этой работы имеется?
– Безусловно. Я, например, очень сильно чувствую зависимость своего физического, психического и психофизического тонуса от своих же операций. Например, когда у меня была защита диссертации, я примерно три-четыре недели не оперировал. Там очень много документов и очень много всякой работы. Где-то со второй недели я стал физически чувствовать себя плохо, я стал ощущать что-то вроде ежедневного, даже ежечасного похмелья, потому что не хватало этого эмоционально-физического тонуса. В хирургии ведь на самом деле очень много физической работы. Конечно, это труд умственный, но он и физический. И работы очень не хватает, по ней скучаю.
– Скорее, к первому. Я уверен, что я – божество (смеется). В любом случае, нелепого пафоса по поводу героичности ежедневной работы по «спасению жизней» я за хирургами не замечал.
– А зависимость от этой работы имеется?
– Безусловно. Я, например, очень сильно чувствую зависимость своего физического, психического и психофизического тонуса от своих же операций. Например, когда у меня была защита диссертации, я примерно три-четыре недели не оперировал. Там очень много документов и очень много всякой работы. Где-то со второй недели я стал физически чувствовать себя плохо, я стал ощущать что-то вроде ежедневного, даже ежечасного похмелья, потому что не хватало этого эмоционально-физического тонуса. В хирургии ведь на самом деле очень много физической работы. Конечно, это труд умственный, но он и физический. И работы очень не хватает, по ней скучаю.

– Сколько у вас обычно бывает операций в день и сколько они длятся по времени?
– Нейрохирургические операции длятся от 40 минут до 12-14 часов – они могут быть любой продолжительности. В день бывает от одной до трех… Хирургия – это труд, который очень способствует искусственному отбору среди хирургов, потому что на самом деле, чтобы заниматься хирургией, нужно обладать некоторой комбинацией свойств, которыми, сколь бы пафосно это ни звучало, одарен не каждый. Одним из таких свойств, безусловно, является физическое здоровье, потому что у хирургов огромное количество факторов риска – это и стояние на ногах, и венозная недостаточность. В моем труде это облучение.
– Нейрохирургические операции длятся от 40 минут до 12-14 часов – они могут быть любой продолжительности. В день бывает от одной до трех… Хирургия – это труд, который очень способствует искусственному отбору среди хирургов, потому что на самом деле, чтобы заниматься хирургией, нужно обладать некоторой комбинацией свойств, которыми, сколь бы пафосно это ни звучало, одарен не каждый. Одним из таких свойств, безусловно, является физическое здоровье, потому что у хирургов огромное количество факторов риска – это и стояние на ногах, и венозная недостаточность. В моем труде это облучение.
Если бы я не носил на своих операциях спецзащиту, то за два месяца получал бы дозу, которую получили погибшие в Хиросиме.
– Как используется рентген в нейрохирургии?
– В спинальной хирургии он используется так, что многие наши операции сопровождаются имплантацией металлоконструкций, винтов, пластин и так далее. Для контроля положения и нужен рентген. Причем этот рентген часто работает в режиме рентгеноскопии, то есть он работает постоянно. Иногда в сутки можно простоять четыре часа под радиоактивным излучением. Естественно, защищаемся специальными методами защиты, но руки не защищены, глаза не защищены. Глаза можно защитить, если носить очки, но я их не использую, потому что боюсь ошибиться из-за толщины стекол. Поэтому я предпочитаю облучать глаза, чтобы не было изменений.
– Какие могут быть от этого последствия?
– Рак. Я только что вернулся из Германии, провел там месяц на стажировке. Так вот, там совсем по-другому относятся к проблеме облучения: имеются специальные датчики, которые считают дозу. У нас они тоже есть, но в России подсчет радиационного облучения – это скорее формальность. А там считают с чисто прагматическими целями, говорят: «Когда тебе будет 70 лет, и ты заболеешь лейкозом, раком крови, то государство должно будет оплачивать твое лечение – ты же заболел, скорее всего, от этого».
– В спинальной хирургии он используется так, что многие наши операции сопровождаются имплантацией металлоконструкций, винтов, пластин и так далее. Для контроля положения и нужен рентген. Причем этот рентген часто работает в режиме рентгеноскопии, то есть он работает постоянно. Иногда в сутки можно простоять четыре часа под радиоактивным излучением. Естественно, защищаемся специальными методами защиты, но руки не защищены, глаза не защищены. Глаза можно защитить, если носить очки, но я их не использую, потому что боюсь ошибиться из-за толщины стекол. Поэтому я предпочитаю облучать глаза, чтобы не было изменений.
– Какие могут быть от этого последствия?
– Рак. Я только что вернулся из Германии, провел там месяц на стажировке. Так вот, там совсем по-другому относятся к проблеме облучения: имеются специальные датчики, которые считают дозу. У нас они тоже есть, но в России подсчет радиационного облучения – это скорее формальность. А там считают с чисто прагматическими целями, говорят: «Когда тебе будет 70 лет, и ты заболеешь лейкозом, раком крови, то государство должно будет оплачивать твое лечение – ты же заболел, скорее всего, от этого».
Мне такое даже в голову никогда не приходило – ну, заболею и заболею, какие у меня еще варианты? А там немного по-другому к этому подходят.
Есть и другие биологические факторы риска – это, например, работа с инфекциями, то есть в любой момент через укол можно заразиться смертельной или потенциально смертельной инфекцией, например, гепатитом С или чем-то еще: бывают же инфицированные пациенты и экстренные больные.
Для всего этого нужно крепкое здоровье, нужны разумные методы расслабления. Именно поэтому среди хирургов к моему возрасту обычно выделяют категорию очень больных и очень здоровых. Причем часто по внешнему виду трудно определить степень здоровья: некий розовощекий толстячок может обладать феерическим здоровьем, он может скакать на лошади, лезть в гору, выпить четыре бутылки водки и встать через два часа трезвым. Формируются какие-то экстраординарные физические характеристики… Получается, что мы снова говорим о паранормальных явлениях в медицине, но у тех, кто так много трудится, действительно проявляются иногда необычные качества.
Есть и другие биологические факторы риска – это, например, работа с инфекциями, то есть в любой момент через укол можно заразиться смертельной или потенциально смертельной инфекцией, например, гепатитом С или чем-то еще: бывают же инфицированные пациенты и экстренные больные.
Для всего этого нужно крепкое здоровье, нужны разумные методы расслабления. Именно поэтому среди хирургов к моему возрасту обычно выделяют категорию очень больных и очень здоровых. Причем часто по внешнему виду трудно определить степень здоровья: некий розовощекий толстячок может обладать феерическим здоровьем, он может скакать на лошади, лезть в гору, выпить четыре бутылки водки и встать через два часа трезвым. Формируются какие-то экстраординарные физические характеристики… Получается, что мы снова говорим о паранормальных явлениях в медицине, но у тех, кто так много трудится, действительно проявляются иногда необычные качества.

Три основные проблемы российской медицины
– Вы как-то сказали о том, что пришли в медицину благодаря сериалу «Скорая помощь»: образ врача в развевающемся халате и прочее…
– Да, было такое дело.
– Насколько оправдались ожидания, соотносятся ли они с реальностью?
– Ожидания сбылись. Они сбылись не так, как предполагалось, потому что медицина – это специальность, которая требует достаточно много жертвенности, причем вовсе не в том смысле, в котором это красиво звучит. Жертвенность во многом связана не с тем, что труд тяжелый, а вообще с положением врача в России. Об этом тоже можно говорить бесконечно, как и о смерти.
– Я как раз хотела затронуть тему трагедии врача в современной России.
– Трагедия заключается в том, что порядочный врач – всегда или почти всегда является каким-то оппозиционером. Я имею в виду не политические взгляды, а над ним находится система, которая противоречит его интересам, интересам больного и здравому смыслу. Где-то больше, где-то меньше, но если взять среднее арифметическое…
– В России или в мире?
– В России.
– Чем в России ситуация отличается от западной? На Западе тоже непросто.
– Да, было такое дело.
– Насколько оправдались ожидания, соотносятся ли они с реальностью?
– Ожидания сбылись. Они сбылись не так, как предполагалось, потому что медицина – это специальность, которая требует достаточно много жертвенности, причем вовсе не в том смысле, в котором это красиво звучит. Жертвенность во многом связана не с тем, что труд тяжелый, а вообще с положением врача в России. Об этом тоже можно говорить бесконечно, как и о смерти.
– Я как раз хотела затронуть тему трагедии врача в современной России.
– Трагедия заключается в том, что порядочный врач – всегда или почти всегда является каким-то оппозиционером. Я имею в виду не политические взгляды, а над ним находится система, которая противоречит его интересам, интересам больного и здравому смыслу. Где-то больше, где-то меньше, но если взять среднее арифметическое…
– В России или в мире?
– В России.
– Чем в России ситуация отличается от западной? На Западе тоже непросто.
– Везде непросто. Но основных проблем именно в российской медицине три.
Первое – это низкое финансирование.
Второе – это отсутствие системы страхования. ОМС является лишь имитацией системы страхования, так как не содержит стандартов оказания помощи и не содержит достаточного для него финансирования.
Первое – это низкое финансирование.
Второе – это отсутствие системы страхования. ОМС является лишь имитацией системы страхования, так как не содержит стандартов оказания помощи и не содержит достаточного для него финансирования.
– Можете пояснить?
– Система ОМС – это обязательное медицинское страхование, этакий стандарт, по которому можно человеку оказать помощь. Во-первых, он максимально конкретизирован таким образом, что врачу нужно было бы ежедневно заниматься подделкой бумажек, для того чтобы оказать пациенту помощь в рамках этой программы. Об этом знают все – от санитарок до министра здравоохранения. Тем не менее это существует в таком вот уродливом виде. Эта система берет на себя странные формы выплат, которые могут быть как недостаточными, так и предельно избыточными.
Если сравнить это с системой страхования любой западной страны, то это имитация. Любой здравый врач знает, что это именно имитация страхования. Для того, чтобы в стране работала медицина, нужно иметь качественную систему добровольного медицинского страхования. А для этого нужны страховые выплаты, причем значимые. А для этого нужен другой уровень доходов населения. Получается как в анекдоте про сантехника в Советском Союзе, который приходит менять трубу и говорит: «Нужно менять всю систему». А для того, чтобы была другая система обеспечения медицины и другой доход, нужно обеспечить инвестиции, нужно обеспечить достаточный уровень экономического и технологического роста, а для этого нужно обеспечить сменяемость власти и так далее.
– Третья проблема – это уровень заработной платы врачей?
– Да! В России все стесняются говорить об официальных зарплатах врачей. Но эта проблема – центральная. Недавно на День медицинского работника мне пришло очень много поздравлений, и добрая треть, а то и половина людей желает «благодарных пациентов». Понятно, о чем идет речь. Благодарные пациенты – это пациенты, которые платят деньги. Другая треть говорит: «Спасибо вам за ваш нелегкий самоотверженный и бескорыстный труд». Это как-то не вяжется у меня в голове.
– Система ОМС – это обязательное медицинское страхование, этакий стандарт, по которому можно человеку оказать помощь. Во-первых, он максимально конкретизирован таким образом, что врачу нужно было бы ежедневно заниматься подделкой бумажек, для того чтобы оказать пациенту помощь в рамках этой программы. Об этом знают все – от санитарок до министра здравоохранения. Тем не менее это существует в таком вот уродливом виде. Эта система берет на себя странные формы выплат, которые могут быть как недостаточными, так и предельно избыточными.
Если сравнить это с системой страхования любой западной страны, то это имитация. Любой здравый врач знает, что это именно имитация страхования. Для того, чтобы в стране работала медицина, нужно иметь качественную систему добровольного медицинского страхования. А для этого нужны страховые выплаты, причем значимые. А для этого нужен другой уровень доходов населения. Получается как в анекдоте про сантехника в Советском Союзе, который приходит менять трубу и говорит: «Нужно менять всю систему». А для того, чтобы была другая система обеспечения медицины и другой доход, нужно обеспечить инвестиции, нужно обеспечить достаточный уровень экономического и технологического роста, а для этого нужно обеспечить сменяемость власти и так далее.
– Третья проблема – это уровень заработной платы врачей?
– Да! В России все стесняются говорить об официальных зарплатах врачей. Но эта проблема – центральная. Недавно на День медицинского работника мне пришло очень много поздравлений, и добрая треть, а то и половина людей желает «благодарных пациентов». Понятно, о чем идет речь. Благодарные пациенты – это пациенты, которые платят деньги. Другая треть говорит: «Спасибо вам за ваш нелегкий самоотверженный и бескорыстный труд». Это как-то не вяжется у меня в голове.
Это патологическая система, в которой все построено на неформальных платежах. Ее работающие субъекты, как врачи, так и пациенты, получают возможность пользоваться этой системой в рамках своих представлений о должном.
Например, пациент говорит: «Знаете, я хочу у вас операцию, она входит в ОМС». Ему говорят: «Хорошо, я буду вас держать в очереди, пока не получу 300 тысяч рублей». Это один вариант применения системы.
Другой вариант, когда человек работает, как может, как умеет, и если его благодарят, он это принимает. Это другой вариант этой же системы, но так не должно быть. Эффективность системы не должна зависеть от порядочности отдельных ее субъектов. В результате профессия врача действительно становится самой моральной, потому что способ отношений врача с системой и пациентом регулируется только его моралью и ничем больше. Это иначе как извращением назвать нельзя. В этом может легко убедиться любой человек, потому что некачественная помощь, обман, взяточничество могут коснуться кого угодно.
Именно поэтому люди ездят лечиться за рубеж – не потому, что там технологии лучше. Я очень много ездил по миру, поэтому могу ответственно заявить: наша спинальная хирургия не только не отстает, но даже опережает по ряду технологий западные профессии.
Другой вариант, когда человек работает, как может, как умеет, и если его благодарят, он это принимает. Это другой вариант этой же системы, но так не должно быть. Эффективность системы не должна зависеть от порядочности отдельных ее субъектов. В результате профессия врача действительно становится самой моральной, потому что способ отношений врача с системой и пациентом регулируется только его моралью и ничем больше. Это иначе как извращением назвать нельзя. В этом может легко убедиться любой человек, потому что некачественная помощь, обман, взяточничество могут коснуться кого угодно.
Именно поэтому люди ездят лечиться за рубеж – не потому, что там технологии лучше. Я очень много ездил по миру, поэтому могу ответственно заявить: наша спинальная хирургия не только не отстает, но даже опережает по ряду технологий западные профессии.
Почему же пациенты едут лечиться на Запад? Потому что знают, что они могут заплатить и получат за это некоторую гарантию. Не гарантию положительного исхода, потому что никто не может гарантировать положительный исход, а гарантию того, что тебе не отрежут правую ногу вместо левой. Гарантию того, что тебя не оберут просто так. И я понимаю этих людей, потому что в эту ситуацию может попасть любой, даже врач.
– Причем эта ситуация с врачами, учителями и преподавателями в России уникальная: потому что нигде в мире – ни на Востоке, ни на Западе – больше такого нет, что врачи получают так мало. Везде это средний класс.
– Даже выше среднего. Я не знаю, откуда взялось и когда укоренилось у нас это патологическое представление о том, что за вложенный труд не должно получать денег, а уж тем более больших денег. Хотя на самом деле любому здравому человеку понятно, что лечиться лучше не у нищего. Однако и сама специфика работы предполагает некоторые материальные затраты: например, моя специальность требует регулярной выписки научной литературы, а это отнюдь не бесплатно. Кроме того, моя область деятельности характеризуется большим психоэмоциональным стрессом, из чего следует, что я должен хорошо отдыхать, потому что если я буду плохо отдыхать, от усталости могу покалечить пациента.
– Причем эта ситуация с врачами, учителями и преподавателями в России уникальная: потому что нигде в мире – ни на Востоке, ни на Западе – больше такого нет, что врачи получают так мало. Везде это средний класс.
– Даже выше среднего. Я не знаю, откуда взялось и когда укоренилось у нас это патологическое представление о том, что за вложенный труд не должно получать денег, а уж тем более больших денег. Хотя на самом деле любому здравому человеку понятно, что лечиться лучше не у нищего. Однако и сама специфика работы предполагает некоторые материальные затраты: например, моя специальность требует регулярной выписки научной литературы, а это отнюдь не бесплатно. Кроме того, моя область деятельности характеризуется большим психоэмоциональным стрессом, из чего следует, что я должен хорошо отдыхать, потому что если я буду плохо отдыхать, от усталости могу покалечить пациента.

Весь ход операции на позвоночнике виден на мониторе, хирург смотрит не непосредственно на оперируемый позвоночник, а на выводимое на экран изображение
«Танцы с бубном» в операционной
– Сколько часов хирург должен спать?
– Я не знаю, я сплю 5-6 часов, мне достаточно. Столько же, сколько обычный человек.
– Вот в Европе, например, есть очень четкое нормирование сна водителей общественного транспорта.
– У хирургов нет. Я только что вернулся, и там точно так же – работают с утра и до последнего шва. Когда он у тебя будет – в три часа дня, в три часа ночи? Эта специальность везде такая.
– Сложно вам было привыкать к длинным операциям?
– Первое время было сложно очень, потому что я встал за стол на четвертом курсе, когда учился. Я очень активно ходил, просил, чтобы меня ставили – и меня ставили. Мне было тяжело. Особенно если учесть, что я сочетал работу с учебой. Я приходил в операционную после занятий, и это было особенно тяжело в период сессии. Но я как-то адаптировался. Есть специальные методики, которые позволяют не терять концентрацию внимания.
– Какие?
– Дыхание животом. Разговор, просто непринужденный разговор. Когда идет долгая монотонная работа, чтобы не утратить четкость, нет ничего хуже, чем концентрироваться только на работе. Нужно обязательно расслабляться. Иногда нужно сделать кратенький перерыв, размяться, потанцевать под музыку. Вообще, в операционной иногда делают странные вещи – то есть людям со стороны они бы показались странными.
– Я не знаю, я сплю 5-6 часов, мне достаточно. Столько же, сколько обычный человек.
– Вот в Европе, например, есть очень четкое нормирование сна водителей общественного транспорта.
– У хирургов нет. Я только что вернулся, и там точно так же – работают с утра и до последнего шва. Когда он у тебя будет – в три часа дня, в три часа ночи? Эта специальность везде такая.
– Сложно вам было привыкать к длинным операциям?
– Первое время было сложно очень, потому что я встал за стол на четвертом курсе, когда учился. Я очень активно ходил, просил, чтобы меня ставили – и меня ставили. Мне было тяжело. Особенно если учесть, что я сочетал работу с учебой. Я приходил в операционную после занятий, и это было особенно тяжело в период сессии. Но я как-то адаптировался. Есть специальные методики, которые позволяют не терять концентрацию внимания.
– Какие?
– Дыхание животом. Разговор, просто непринужденный разговор. Когда идет долгая монотонная работа, чтобы не утратить четкость, нет ничего хуже, чем концентрироваться только на работе. Нужно обязательно расслабляться. Иногда нужно сделать кратенький перерыв, размяться, потанцевать под музыку. Вообще, в операционной иногда делают странные вещи – то есть людям со стороны они бы показались странными.

– Какую музыку вы ставите? Вы говорили в интервью, что медсестры обычно ставят какую-нибудь попсу. А вы?
– Да, медсестры наши такие. А насчет меня… У меня не слишком искушенные музыкальные вкусы, меня вполне устраивает радио. Необходима такая музыка, к которой я не буду относиться серьезно, которую не буду внимательно слушать. В конце концов, потанцевать для кратковременного расслабления и отдыха можно и под «тынц-тынц».
– С бубном, надеюсь, танцев не бывает?
– Как ни странно, в медицине очень и очень велика роль различных ритуалов. Дело в том, что в операционной есть очень много табуированных вещей. Причем часть из них показательные, а часть именно ритуальные.
– Да, медсестры наши такие. А насчет меня… У меня не слишком искушенные музыкальные вкусы, меня вполне устраивает радио. Необходима такая музыка, к которой я не буду относиться серьезно, которую не буду внимательно слушать. В конце концов, потанцевать для кратковременного расслабления и отдыха можно и под «тынц-тынц».
– С бубном, надеюсь, танцев не бывает?
– Как ни странно, в медицине очень и очень велика роль различных ритуалов. Дело в том, что в операционной есть очень много табуированных вещей. Причем часть из них показательные, а часть именно ритуальные.
– Можете рассказать о каких-нибудь ваших личных ритуалах?
– Например, при завершении операции, когда закончился основной этап и начинается так называемый гемостаз – это остановка мелкого кровотечения, чтобы в месте операции не образовалась гематома, которая может сдавить нервные структуры. Так вот, перед этим я всегда промываю рану три раза стерильным физраствором. Мой заведующий делает это два раза, а я почему-то стал делать это три раза – не знаю почему.
Когда кто-нибудь меня спрашивает, зачем я это делаю (а с точки зрения доказательной медицины это бессмысленный акт), я в шутку говорю, что боюсь прогневать великое божество гемостаза. И я был очень обрадован, когда увидел в Германии, что коллеги промывают не водой, а перекисью водорода, и не три, а два раза перед гемостазом. Я спросил, почему два раза, и мне сказали то же самое: у нас, дескать, есть божество, боимся его разгневать. Это было трогательно, потому что это говорит о том, что люди в разных частях света приходят к странным бездоказательным движениям, которые дают очень важную уверенность в себе: когда ты изо дня в день следуешь одному ритуалу, у тебя появляется некоторая уверенность. Но в этом есть и опасность, потому что нужно все время проверять свой ритуал на прочность, чтобы не стать заложником привычки, чтобы не ошибиться.
– Например, при завершении операции, когда закончился основной этап и начинается так называемый гемостаз – это остановка мелкого кровотечения, чтобы в месте операции не образовалась гематома, которая может сдавить нервные структуры. Так вот, перед этим я всегда промываю рану три раза стерильным физраствором. Мой заведующий делает это два раза, а я почему-то стал делать это три раза – не знаю почему.
Когда кто-нибудь меня спрашивает, зачем я это делаю (а с точки зрения доказательной медицины это бессмысленный акт), я в шутку говорю, что боюсь прогневать великое божество гемостаза. И я был очень обрадован, когда увидел в Германии, что коллеги промывают не водой, а перекисью водорода, и не три, а два раза перед гемостазом. Я спросил, почему два раза, и мне сказали то же самое: у нас, дескать, есть божество, боимся его разгневать. Это было трогательно, потому что это говорит о том, что люди в разных частях света приходят к странным бездоказательным движениям, которые дают очень важную уверенность в себе: когда ты изо дня в день следуешь одному ритуалу, у тебя появляется некоторая уверенность. Но в этом есть и опасность, потому что нужно все время проверять свой ритуал на прочность, чтобы не стать заложником привычки, чтобы не ошибиться.

Ритуальности в медицине очень много. Глядя на своего заведующего, я иногда удивляюсь его провидческому дару относительно пациента: по одной походке человека, идущего от одного конца отделения до другого, он может примерно определить, насколько удачен будет исход операции. И не потому, что походка клиническая – срабатывает какой-то другой механизм. Очевидно, это нарабатывается опытом. Это даже сложно описать словами: если при взгляде на всего человека в комплексе – его тела, души, его семейного анамнеза – ты видишь несколько повторяющихся историй, ты начинаешь понимать, что с ним будет. Или когда вдруг врач отказывается делать операцию пациенту, потому что, несмотря на вроде бы очевидные к ней показания, она оказывается ему не нужной.

Удаленная межпозвонковая грыжа
«Здравствуйте, я друг вашей пациентки»
– Мы отвлеклись от темы нашей отечественной медицины. У вас, наверное, было много предложений уехать?
– У меня есть предложения уехать даже просто от подписчиков в Facebook, от разных друзей. И когда я был на стажировке, мне также предлагали переезд. И, хотя не все так просто (там нужно подтверждать диплом), если бы я действительно захотел, я бы это сделал. Я достаточно ориентирован, владею несколькими языками. Но для себя я принял четкое решение, что могу уехать из страны навсегда только при обстоятельствах исключительного рода – для себя и своих близких.
Мне бывает по-настоящему страшно. Я давно определил для себя границы своей смелости, и ее хватает на свободное выражение моего мнения, но, пожалуй, ее не хватит на самопожертвование. Я готов исповедовать свои убеждения, но не готов сесть из-за них в тюрьму, хотя бы потому, что мне жаль моих навыков. Пожалуй, это единственное условие, при котором я бы уехал отсюда.
– У меня есть предложения уехать даже просто от подписчиков в Facebook, от разных друзей. И когда я был на стажировке, мне также предлагали переезд. И, хотя не все так просто (там нужно подтверждать диплом), если бы я действительно захотел, я бы это сделал. Я достаточно ориентирован, владею несколькими языками. Но для себя я принял четкое решение, что могу уехать из страны навсегда только при обстоятельствах исключительного рода – для себя и своих близких.
Мне бывает по-настоящему страшно. Я давно определил для себя границы своей смелости, и ее хватает на свободное выражение моего мнения, но, пожалуй, ее не хватит на самопожертвование. Я готов исповедовать свои убеждения, но не готов сесть из-за них в тюрьму, хотя бы потому, что мне жаль моих навыков. Пожалуй, это единственное условие, при котором я бы уехал отсюда.
Я готов исповедовать свои убеждения, но не готов сесть из-за них в тюрьму, хотя бы потому, что мне жаль моих навыков. Пожалуй, это единственное условие, при котором я бы уехал отсюда.
И кроме того, есть еще мысль: «Если не я, то кто?», которая тоже держит здесь. Не в том смысле, что я уникальный специалист – я знаю много людей, превосходящих меня, но мне было бы не по себе, если бы пришлось покинуть страну.
– Есть мнение, что за рубежом для науки можно сделать больше.
– Да, хотя есть ряд нюансов. Скажем, спинальная эндоскопия: в каком-то смысле в России делают больше по той причине, что у нас, как это ни жутко звучит, с пациентом можно допустить больше вольностей без сложных юридических проволочек. Правда, в неумелых руках это может привести к страшным последствиям, но, в принципе, я могу сказать, что отечественная спинальная хирургия не отстает от западной. Отстают фундаментальные исследования, соответственно отстает тот парамедицинский бизнес, который тянется за этими исследованиями, производители.
– Есть мнение, что за рубежом для науки можно сделать больше.
– Да, хотя есть ряд нюансов. Скажем, спинальная эндоскопия: в каком-то смысле в России делают больше по той причине, что у нас, как это ни жутко звучит, с пациентом можно допустить больше вольностей без сложных юридических проволочек. Правда, в неумелых руках это может привести к страшным последствиям, но, в принципе, я могу сказать, что отечественная спинальная хирургия не отстает от западной. Отстают фундаментальные исследования, соответственно отстает тот парамедицинский бизнес, который тянется за этими исследованиями, производители.

И на Западе тоже есть свои плюсы и минусы. Там существует система, в которой пациент не знает, кто его оперировал. Такое большое облако данных, куда он попадает: у врача две руки, но кто их хозяин, пациент не знает. Я учился и воспитывался в другой системе, предполагая, что я пожизненный менеджер этого пациента. Нас так учили.
На Западе врач – это высококвалифицированный специалист, а в России это волшебник, который должен, самообучаясь, как-то спасти человечество.
– Много ли случаев злоупотребления, когда врачу звонят по каждому тику?
– У меня есть пациенты, которые этим грешат, но на удивление их не очень много, и большая часть из этих больных – это скорее пациенты психиатров или психологов. Квалифицированную психологическую помощь, я, конечно, оказать не могу, но выслушать стараюсь. Мне вообще нравятся люди, они такие разные. Вообще, всегда кажется удивительным, что жизнь есть не только у меня, но и у других людей. Я иногда рано встаю с женой, гуляю с собакой и утром смотрю в эти окна и думаю: «Неужели там тоже кто-то живет, неужели там тоже живой человек, неужели он тоже думает и страдает, имеет какие-то суждения, неужели ему тоже предстоит умереть»... Общение – это удивительно.
– У меня есть пациенты, которые этим грешат, но на удивление их не очень много, и большая часть из этих больных – это скорее пациенты психиатров или психологов. Квалифицированную психологическую помощь, я, конечно, оказать не могу, но выслушать стараюсь. Мне вообще нравятся люди, они такие разные. Вообще, всегда кажется удивительным, что жизнь есть не только у меня, но и у других людей. Я иногда рано встаю с женой, гуляю с собакой и утром смотрю в эти окна и думаю: «Неужели там тоже кто-то живет, неужели там тоже живой человек, неужели он тоже думает и страдает, имеет какие-то суждения, неужели ему тоже предстоит умереть»... Общение – это удивительно.

– Но должны же быть и границы личного пространства? Или они существуют только во время ночного сна?
– Я всегда ставлю телефон на авиарежим, если у меня нет с утра операции. Мне регулярно приходили смешные звонки или эсэмэски: «Здравствуйте, я Иван, друг вашей пациентки Маши, отчего может болеть спина?» От таких вопросов теряешься, не знаешь, что ответить. Или звонок о том, что на какого-то работягу упал тюк сена… Но мне все это интересно, это живая жизнь, я вижу это на развороте, как раскраску.
– Книжку не пишете?
– Я думал об этом, но я же поэзию пишу, я прозу не очень-то.
– Надо прозу писать.
– Ну да, я думал о том, чтобы это описывать, но мне как-то рано делиться врачебным опытом, я молод еще. Но самые интересные случаи я записываю.
– Я всегда ставлю телефон на авиарежим, если у меня нет с утра операции. Мне регулярно приходили смешные звонки или эсэмэски: «Здравствуйте, я Иван, друг вашей пациентки Маши, отчего может болеть спина?» От таких вопросов теряешься, не знаешь, что ответить. Или звонок о том, что на какого-то работягу упал тюк сена… Но мне все это интересно, это живая жизнь, я вижу это на развороте, как раскраску.
– Книжку не пишете?
– Я думал об этом, но я же поэзию пишу, я прозу не очень-то.
– Надо прозу писать.
– Ну да, я думал о том, чтобы это описывать, но мне как-то рано делиться врачебным опытом, я молод еще. Но самые интересные случаи я записываю.
Нужны деньги и английский язык
– Импортозамещение вас коснулось?
– Нет, импортозамещение нас не коснулось, потому что его не существует. Оно не коснулось меня так же, как меня не коснулся, например, Посейдон. Его просто нет, и импортозамещения нет.
– Расскажите, как это нет?
– Импортозамещение – это миф, но даже если бы оно было, я не очень понимаю, что это такое. Мы берем и выпускаем вместо какой-то западной штуки какую-то свою штуку. Никакой западной штуки не существует, все технологии интернациональны, нет операционного микроскопа, который делается только в Америке по американской технологии, он делается несколькими лабораториями в разных странах, собирается где-нибудь в Азии, и т. д. и т. п. То есть российского, чисто русского производства нет – так же, как нет немецкого, китайского. Это, во-первых, а во-вторых, с тех пор, как весь этот сыр-бор начался, к счастью, в моем учреждении ничего не изменилось, потому что нет аналогов. Те же аналоги, которые есть и которые иногда применяются – это аналоги, в основном связанные с трансляцией какой-то технологии из серии отвертки. Все эти слова, что мы должны что-то импортозаместить – это просто пропаганда.
А вот что я ощутил, и ощутили пациенты – это сложности с финансированием.
– Нет, импортозамещение нас не коснулось, потому что его не существует. Оно не коснулось меня так же, как меня не коснулся, например, Посейдон. Его просто нет, и импортозамещения нет.
– Расскажите, как это нет?
– Импортозамещение – это миф, но даже если бы оно было, я не очень понимаю, что это такое. Мы берем и выпускаем вместо какой-то западной штуки какую-то свою штуку. Никакой западной штуки не существует, все технологии интернациональны, нет операционного микроскопа, который делается только в Америке по американской технологии, он делается несколькими лабораториями в разных странах, собирается где-нибудь в Азии, и т. д. и т. п. То есть российского, чисто русского производства нет – так же, как нет немецкого, китайского. Это, во-первых, а во-вторых, с тех пор, как весь этот сыр-бор начался, к счастью, в моем учреждении ничего не изменилось, потому что нет аналогов. Те же аналоги, которые есть и которые иногда применяются – это аналоги, в основном связанные с трансляцией какой-то технологии из серии отвертки. Все эти слова, что мы должны что-то импортозаместить – это просто пропаганда.
А вот что я ощутил, и ощутили пациенты – это сложности с финансированием.

– Когда начались эти сложности и как они проявляются?
– Это началось в конце 2014 – начале 2015 гг. Проявляется в сокращении, снижении доступности медицинской помощи, увеличении смертности. Можно наблюдать и замедление процесса приобретения ряда товаров, оборудования, и просто уменьшение финансирования. Люди стали меньше обращаться к врачам, потому что их и без того небольшая вера в медицину оказалась подорвана.
У нас наибольшие проблемы с неотложной помощью. Специализированное звено, в котором я нахожусь, пострадало в не меньшей степени, хотя мы как раз наиболее ненужные. Наибольшая сложность логистики на периферии – там, где врач контактирует с больными. Министерство здравоохранения оказалось в сложном положении: им урезают бюджет, а они при этом должны улучшить качество помощи.
– Как и что нужно у нас менять в системе здравоохранения?
– Важно понять, с чего начать. Начать нужно с того же, с чего начинают работать с разваливающейся, но не безнадежной системой: это вливание денег и менеджмента. В этой системе нужны грамотные управленцы, причем на каждом уровне, и в этой системе нужно гораздо больше денег.
Другой вопрос, что пост министра здравоохранения – это расстрельная должность в любой стране, не только в России: не существует народа, довольного здравоохранением. Если я правильно понимаю, к правительству Обамы, например, наибольшая претензия американского народа – это система здравоохранения. Этот вопрос не имеет однозначного решения, но основной смысл проблемы в российском здравоохранении – это отсутствие стандарта, как в экономическом, так и в медицинском аспекте. Нужно начать с того, чтобы у всех появился хоть какой-то примерный прогноз.
Меня уже раздражают эти разговоры о реформе в здравоохранении, потому что эти разговоры идут ровно столько, сколько я интересуюсь медициной.
– Это началось в конце 2014 – начале 2015 гг. Проявляется в сокращении, снижении доступности медицинской помощи, увеличении смертности. Можно наблюдать и замедление процесса приобретения ряда товаров, оборудования, и просто уменьшение финансирования. Люди стали меньше обращаться к врачам, потому что их и без того небольшая вера в медицину оказалась подорвана.
У нас наибольшие проблемы с неотложной помощью. Специализированное звено, в котором я нахожусь, пострадало в не меньшей степени, хотя мы как раз наиболее ненужные. Наибольшая сложность логистики на периферии – там, где врач контактирует с больными. Министерство здравоохранения оказалось в сложном положении: им урезают бюджет, а они при этом должны улучшить качество помощи.
– Как и что нужно у нас менять в системе здравоохранения?
– Важно понять, с чего начать. Начать нужно с того же, с чего начинают работать с разваливающейся, но не безнадежной системой: это вливание денег и менеджмента. В этой системе нужны грамотные управленцы, причем на каждом уровне, и в этой системе нужно гораздо больше денег.
Другой вопрос, что пост министра здравоохранения – это расстрельная должность в любой стране, не только в России: не существует народа, довольного здравоохранением. Если я правильно понимаю, к правительству Обамы, например, наибольшая претензия американского народа – это система здравоохранения. Этот вопрос не имеет однозначного решения, но основной смысл проблемы в российском здравоохранении – это отсутствие стандарта, как в экономическом, так и в медицинском аспекте. Нужно начать с того, чтобы у всех появился хоть какой-то примерный прогноз.
Меня уже раздражают эти разговоры о реформе в здравоохранении, потому что эти разговоры идут ровно столько, сколько я интересуюсь медициной.
Реформа была одна, когда при Медведеве во все клиники свалилось много денег и люди купили много техники. Правда, закупили ее часто бездумно: я видел клиники на периферии, где о такую технику открывали пивные бутылки, так как просто не знали, как ей пользоваться.
Ее спускают сверху с инструкцией, которую никто не может прочесть, потому что не владеет английским языком.
– Кстати, английский язык – это ведь для вас еще одна сфера профессиональной деятельности?
– Да, и лично я вместе с менеджментом и финансированием системы здравоохранения начинал бы преобразования с обеспечения врачей возможностью бесплатного доступа к значительной части иностранных журналов, и с бесплатного обучения их английскому языку. Я знаю эту тему не понаслышке, для меня медицинская профессия не является единственной, я предприниматель по второй, я директор бюро переводов, одного из крупнейших, наша компания занимается только медицинскими переводами, я ее создал, еще будучи студентом, от безденежья. Так получилось, что я относительно преуспел.
Это малый бизнес, поэтому я вижу, насколько велика эта брешь, насколько слабо российские врачи знают английский язык. А для врача знание иностранного языка — это как знание анатомии, без этого невозможно работать, ты не видишь знания, а видишь только стандарт. Вот с этого я бы начал, не только с денег.
– Кстати, английский язык – это ведь для вас еще одна сфера профессиональной деятельности?
– Да, и лично я вместе с менеджментом и финансированием системы здравоохранения начинал бы преобразования с обеспечения врачей возможностью бесплатного доступа к значительной части иностранных журналов, и с бесплатного обучения их английскому языку. Я знаю эту тему не понаслышке, для меня медицинская профессия не является единственной, я предприниматель по второй, я директор бюро переводов, одного из крупнейших, наша компания занимается только медицинскими переводами, я ее создал, еще будучи студентом, от безденежья. Так получилось, что я относительно преуспел.
Это малый бизнес, поэтому я вижу, насколько велика эта брешь, насколько слабо российские врачи знают английский язык. А для врача знание иностранного языка — это как знание анатомии, без этого невозможно работать, ты не видишь знания, а видишь только стандарт. Вот с этого я бы начал, не только с денег.

– Нужна еще и потребность самих врачей учиться...
– Нужна какая-то пропаганда, чтобы удобнее было быть ориентированным, чем неориентированным. Я не знаю, как это сделать. Но лучше задуматься об этом, чем тратить деньги на плакаты, якобы повышающие рейтинг медработников. Такие плакаты развешаны по городу департаментом здравоохранения и проходят под слоганом «Спасибо, доктор!». На них фото какого-то доктора, который поставил, допустим, 5 тысяч диагнозов, это не дает ответа на вопрос, почему человек умер от того, что так долго стоял в очереди. И потом, мы ведь живем в Москве, а не в России. В России помощь может быть недоступна в силу географической отдаленности.
– Кстати, эта оптимизация больниц, в результате которой в какой-нибудь роддом доехать стало сильно сложнее...
– Да, слияние и укрупнение. Под этот шумок очень многие здания клиник передали в частные руки, и в Москве очень многие из этих больниц стали частными.
– Нужна какая-то пропаганда, чтобы удобнее было быть ориентированным, чем неориентированным. Я не знаю, как это сделать. Но лучше задуматься об этом, чем тратить деньги на плакаты, якобы повышающие рейтинг медработников. Такие плакаты развешаны по городу департаментом здравоохранения и проходят под слоганом «Спасибо, доктор!». На них фото какого-то доктора, который поставил, допустим, 5 тысяч диагнозов, это не дает ответа на вопрос, почему человек умер от того, что так долго стоял в очереди. И потом, мы ведь живем в Москве, а не в России. В России помощь может быть недоступна в силу географической отдаленности.
– Кстати, эта оптимизация больниц, в результате которой в какой-нибудь роддом доехать стало сильно сложнее...
– Да, слияние и укрупнение. Под этот шумок очень многие здания клиник передали в частные руки, и в Москве очень многие из этих больниц стали частными.

– Можете рассказать про ваше видение отношений врачей и пациентов? Средний российский пациент не воспринимает врача как поставщика – наоборот, как некое верховное существо.
– Несовершенства системы стравливают врача и пациента – эти две категории населения, которые, казалось бы, созданы друг для друга и выгодны друг другу, так как одни оказывают услуги другим. Переводя эти отношения на язык экономики: одни – клиенты, потребители, а другие – поставщики услуг.
– Несовершенства системы стравливают врача и пациента – эти две категории населения, которые, казалось бы, созданы друг для друга и выгодны друг другу, так как одни оказывают услуги другим. Переводя эти отношения на язык экономики: одни – клиенты, потребители, а другие – поставщики услуг.
Некоторые воспринимают врачей очень утилитарно, некоторые вообще считают, что врач – это что-то вроде дворника, только род занятий чуть посложнее. Или, например, есть удивительные люди, которые искренне убеждены, что все всегда должно быть бесплатно, и они ищут пути, они давят на всех, не понимая, что некоторые вещи бесплатно получить нельзя. Я не могу зайти в ресторан и попросить лимонад на основании того, что я хочу пить, это такая же естественная человеческая потребность, как утолить боль, и эту мысль очень трудно донести, потому что до людей просто не доходит. И пока здесь не будет регуляции, конечно, это все будет очень хорошо работать в ужасно крайних случаях, а в среднем это будет работать хуже среднего – как оно и работает. Это одна из причин, по которым я стараюсь себя вести социально активно.
К психохирургии привыкнут, как к рентгену
– Очень сложная тема: можно ли маме с ребенком присутствовать на осмотре? Во многих больницах есть мнение, что врачу с ребенком проще без присутствия матери.
– Не только с ребенком, но и со взрослым. Знаете, сколько людей приходит с мамой к врачу, когда им уже 40 лет? И когда пациент заходит с хирургической патологией и с ним заходит мама, как правило, это говорит о том, что ему психолог нужен не меньше, чем хирург, потому что это не очень правильно.
Вообще же, проблема допуска к пациентам очень важна и касается абсолютно всех. Мне приходилось наблюдать в клинике разных людей, в том числе и людей известных и влиятельных, и иногда при взгляде на них, на их поведение казалось, что они – существа не отсюда, настолько далеко от нас их образ мышления и система ценностей. А вот процесс умирания для всех одинаков, но при жизни многие из VIP'ов этого не осознают.
– Не только с ребенком, но и со взрослым. Знаете, сколько людей приходит с мамой к врачу, когда им уже 40 лет? И когда пациент заходит с хирургической патологией и с ним заходит мама, как правило, это говорит о том, что ему психолог нужен не меньше, чем хирург, потому что это не очень правильно.
Вообще же, проблема допуска к пациентам очень важна и касается абсолютно всех. Мне приходилось наблюдать в клинике разных людей, в том числе и людей известных и влиятельных, и иногда при взгляде на них, на их поведение казалось, что они – существа не отсюда, настолько далеко от нас их образ мышления и система ценностей. А вот процесс умирания для всех одинаков, но при жизни многие из VIP'ов этого не осознают.
– Хочется спросить, неужели люди думают, что они будут жить вечно?
– Михаил Бат – инвестор и руководитель первой компании, которая замораживает трупы для оживления – говорит, что человек может жить вечно, что смерть – это болезнь, ее нужно лечить, как когда-то не умели лечить астму, а теперь придумали блокатор и от астмы лечат. Это просто заболевание.
– Вы с этим согласны?
– Нет, я хочу умереть. Я не хочу жить 700 лет, я не хочу жить вечно. Я не хочу продления жизни сложными способами, и не хочу продления страдания сложными способами.
– Еще один вопрос: операция и вообще взаимодействие с определенным отделами мозга означает возможность в некоторых случаях так или иначе контролировать настроение человека, поведение...
– Михаил Бат – инвестор и руководитель первой компании, которая замораживает трупы для оживления – говорит, что человек может жить вечно, что смерть – это болезнь, ее нужно лечить, как когда-то не умели лечить астму, а теперь придумали блокатор и от астмы лечат. Это просто заболевание.
– Вы с этим согласны?
– Нет, я хочу умереть. Я не хочу жить 700 лет, я не хочу жить вечно. Я не хочу продления жизни сложными способами, и не хочу продления страдания сложными способами.
– Еще один вопрос: операция и вообще взаимодействие с определенным отделами мозга означает возможность в некоторых случаях так или иначе контролировать настроение человека, поведение...

– Вообще психохиругия сейчас переживает возрождение. Появились возможности для коррекции целого ряда психических функций путем хирургического лечения. Например, это лечение обсессивных расстройств, депрессий путем стимуляции. Это широко распространенное и доказанное явление, которое может спасти жизнь пациенту, потому что есть формы депрессии, которые не подвергаются никакому методу лечения. Это люди, которые без помощи обречены на гибель.
Кроме того, конечно, интересна психохиругия шизофрении – это область пока еще экспериментальная, пока еще таких операций не делается. Дело в том, что шизофрения — это не очень обычное психическое заболевание, не очень, скажем так, психиатрическое. Это более органическое заболевание, поэтому существуют целые экспериментальные технологии, которые предполагают, что можно изменять функцию мозга больных шизофренией, купируя симптоматику, которая мучает больного и окружающих, и доводит его до тяжелого состояния. Это то, что решалось путем префронтальной лейкотомии, которая очень часто называется лоботомией. Другой вопрос, что в то время, когда она практиковалась, префронтальная лейкотомия имела чрезвычайно грубые побочные эффекты. Например, известно, что человек, который придумал префронтальную лейкотомию и был удостоен за это Нобелевской премии, был застрелен собственным пациентом из-за побочных эффектов, за счет возросшей агрессивности…
– Нет ли в этом марионеточного манипулирования пациентом: нажать на кнопочку и посмотреть, что будет. Сделать то-то и то-то, и пациент станет более прагматичным, спокойным.
– Я боюсь, что так далеко технология еще не зашла. Но я, например, делаю, по сути, такие же операции: есть стимуляция, есть метод, который связан с таким же электрическим воздействием, но только на спинной мозг, и там идет контроль не за эмоциями, а за болью. Это точно так же: прибавил громкость телевизора, и боль затихла, а хочешь, чтобы тебе было больно, пожалуйста – сделай себе больно.
Кроме того, конечно, интересна психохиругия шизофрении – это область пока еще экспериментальная, пока еще таких операций не делается. Дело в том, что шизофрения — это не очень обычное психическое заболевание, не очень, скажем так, психиатрическое. Это более органическое заболевание, поэтому существуют целые экспериментальные технологии, которые предполагают, что можно изменять функцию мозга больных шизофренией, купируя симптоматику, которая мучает больного и окружающих, и доводит его до тяжелого состояния. Это то, что решалось путем префронтальной лейкотомии, которая очень часто называется лоботомией. Другой вопрос, что в то время, когда она практиковалась, префронтальная лейкотомия имела чрезвычайно грубые побочные эффекты. Например, известно, что человек, который придумал префронтальную лейкотомию и был удостоен за это Нобелевской премии, был застрелен собственным пациентом из-за побочных эффектов, за счет возросшей агрессивности…
– Нет ли в этом марионеточного манипулирования пациентом: нажать на кнопочку и посмотреть, что будет. Сделать то-то и то-то, и пациент станет более прагматичным, спокойным.
– Я боюсь, что так далеко технология еще не зашла. Но я, например, делаю, по сути, такие же операции: есть стимуляция, есть метод, который связан с таким же электрическим воздействием, но только на спинной мозг, и там идет контроль не за эмоциями, а за болью. Это точно так же: прибавил громкость телевизора, и боль затихла, а хочешь, чтобы тебе было больно, пожалуйста – сделай себе больно.

– Не приведет ли это со временем к этическим затруднениям?
– Я думаю, что не приведет. Вообще, психиатрия — это несчастная область, потому что ей приписывают какие-то принципиально отличные свойства от других медицинских отраслей. Хотя, с точки зрения органики, это просто болезнь органов, и болезнь почек не сильно отличается в этом смысле от заболевания мозга. Когда придумали нейролептики, галоперидол, антипсихотики, то это были препараты для купирования того, что раньше купировалось связыванием больного и капанием ему на голову холодной воды. Вы хотите лишить людей разума, вы им даете всякие таблетки, чтобы они лежали спокойно, без эмоций… разве сейчас кому-нибудь придет в голову бороться с этим?
Сомнения и протесты – это оттого, что люди не разбираются в системе мотивации. Когда рентген, тогда еще так не названный, начал внедряться в Великобритании, были массовые демонстрации женщин с требованием запретить это, потому что мужчины смогут смотреть им под платье. Они на полном серьезе выходили с акциями протеста, потому что считали возмутительным, что врач сможет увидеть пациентку «голой». Похожим образом был изобретен фонендоскоп: раньше некоторые врачи слушали ухом (даже сейчас есть те, кто слушает ухом). Но один врач столкнулся с богатой клиенткой, которая не позволяла ему касаться груди, и он придумал трубку, а уже потом наладил производство нового приспособления.
– Я думаю, что не приведет. Вообще, психиатрия — это несчастная область, потому что ей приписывают какие-то принципиально отличные свойства от других медицинских отраслей. Хотя, с точки зрения органики, это просто болезнь органов, и болезнь почек не сильно отличается в этом смысле от заболевания мозга. Когда придумали нейролептики, галоперидол, антипсихотики, то это были препараты для купирования того, что раньше купировалось связыванием больного и капанием ему на голову холодной воды. Вы хотите лишить людей разума, вы им даете всякие таблетки, чтобы они лежали спокойно, без эмоций… разве сейчас кому-нибудь придет в голову бороться с этим?
Сомнения и протесты – это оттого, что люди не разбираются в системе мотивации. Когда рентген, тогда еще так не названный, начал внедряться в Великобритании, были массовые демонстрации женщин с требованием запретить это, потому что мужчины смогут смотреть им под платье. Они на полном серьезе выходили с акциями протеста, потому что считали возмутительным, что врач сможет увидеть пациентку «голой». Похожим образом был изобретен фонендоскоп: раньше некоторые врачи слушали ухом (даже сейчас есть те, кто слушает ухом). Но один врач столкнулся с богатой клиенткой, которая не позволяла ему касаться груди, и он придумал трубку, а уже потом наладил производство нового приспособления.
Медиков можно сравнить с эмигрантами первой волны
– Ваши высказывания могут показаться довольно циничными. Что для вас цинизм, и существует ли какой-то особый, врачебный цинизм?

– Цинизм для меня – учение киников. Термин из истории философии. Хотя так получилось, что в нашем языке это слово имеет заведомо негативную коннотацию: цинизм – это некое бездушие. Если же говорить о том понятии, которое можно назвать врачебным цинизмом, я бы сформулировал, что это навык разумной отстраненности от пациента – в хорошем смысле слова. Вообще, я давно убедился в том, что, вопреки распространенному суждению, откровенно бездушные люди в медицине не остаются. Как правило, если врач проявляет бездушие, безразличие к пациенту, то это говорит об эмоциональном выгорании.
– Что значит «эмоциональное выгорание»?
– Я не готов объяснить, как это происходит за пределами медицины, но в медицине это ситуация, когда человек теряет нематериальную мотивацию. Медицина, в общем-то, строится на людях, которые занимаются ею не ради денег, а потому, что это занятие просто дает им большее наслаждение. Я не говорю, что нужно быть бессребреником, но большинство работает не ради обогащения. Более того, многие, и я в их числе, отдают себе отчет в том, что если сесть в офис и руководить им более эффективно те 2 часа, которые выдаются в день между операциями, то на одном своем бизнесе, скорее всего, удастся заработать больше, чем на медицине и бизнесе вместе взятых.
– Я не готов объяснить, как это происходит за пределами медицины, но в медицине это ситуация, когда человек теряет нематериальную мотивацию. Медицина, в общем-то, строится на людях, которые занимаются ею не ради денег, а потому, что это занятие просто дает им большее наслаждение. Я не говорю, что нужно быть бессребреником, но большинство работает не ради обогащения. Более того, многие, и я в их числе, отдают себе отчет в том, что если сесть в офис и руководить им более эффективно те 2 часа, которые выдаются в день между операциями, то на одном своем бизнесе, скорее всего, удастся заработать больше, чем на медицине и бизнесе вместе взятых.
Медиков можно сравнить с эмигрантами первой волны, которые, несмотря ни на что, возвращались в советскую Россию. Их тут сажали, расстреливали, но что-то их сюда тянуло.
Так же и с медициной: часто люди уходят, но возвращаются. У меня есть даже примеры среди знакомых: они уходят на время куда-то, но потом пишут, что они не могут так жить, им начинают сниться пациенты, потому что они делали что-то значительное, а потом вся жизнь вдруг свелась к построению графиков продаж…
– А что делать, если эта ситуация выгорания все же произошла?
– Все же уходить из медицины. У меня есть и такие знакомые, покинувшие медицину по этой причине. Есть масса других, более приятных, занятий, например, фармацевтический бизнес.
– А что делать, если эта ситуация выгорания все же произошла?
– Все же уходить из медицины. У меня есть и такие знакомые, покинувшие медицину по этой причине. Есть масса других, более приятных, занятий, например, фармацевтический бизнес.