«Единственное лекарство — делать свое дело». Писатель Майя Кучерская

Универсальная катастрофа
— Как вообще у вас этот год прошел?
— Этот год прошел у меня чудовищно, дорогая Аня. Уточнить?
Вы знаете, что меня каждый раз поражало. Когда в марте, апреле и в мае одни и те же слова: «я совсем не могу работать», «я читаю только новости», «я больше не могу ничего читать», «я перестал(а) спать», «я не вижу никакого будущего, никакой перспективы»; «я в страшной депрессии, хотя никогда в ней прежде не бывал(а)», эти слова произносили люди самых разных поколений.
Больше всего я изумилась, когда услышала это от 82-летнего человека, очень симпатичного, бодрого, прошедшего огонь и воду. Он в тюрьме сидел в советское время. И много чего повидал.
Огромное количество людей разных социальных принадлежностей и возрастов чувствовали себя совершенно одинаково в эти месяцы — это говорит о том, что катастрофа, которую мы переживали и переживаем, имеет универсальный характер.
— Мы все чувствовали, наверное, это ощущение будущего, которое непонятно, будет ли теперь. Что вы думаете об этом?
— Думаю я об этом постоянно. И у меня есть одно противоядие.
Будущее туманно, его грядущее иль пусто, иль темно, как сказал классик (цитата из стихотворения Михаила Лермонтова «Дума». — Примеч. ред.). И мы действительно его не знаем. Никто, даже астрологи (смеется).
Мы можем делать какие-то прогнозы. Но вспомним, скажем, начало февраля 2022 года, когда все, кому я верила, дружно говорили, что этого не будет никогда. И это случилось. Мы понимаем, что даже предсказания лучших наших экспертов не работают.
Так вот, мой способ увидеть будущее. Нужно придумать что-то. Придумать проект. И двигаться ему навстречу.
Понятно, что его можно запланировать на определенное время.
Например, я сейчас обсуждаю со своими коллегами открытие нового филологического журнала. И думаю, что первый его номер выйдет в марте. И понимаю, как я живу до марта, по крайней мере — готовлю этот журнал, собираю авторов, составляю редколлегию. Мне сразу понятно, что делать.
И это замечательное лекарство от этой боли неизвестности — самому управлять неизвестностью. В пределах своих возможностей.
Почему Майя Кучерская вернулась в Россию
— События февраля застали вас в Америке. И в тот момент, когда очень многие уехали из России, вы, наоборот, вернулись. Что было для вас самым важным, когда вы приехали? Что вообще это было такое — возвращаться?
— Для этого надо сказать, каково мне было в Америке в эти дни. Во-первых, жизнь человека, который жил в Москве и который жил в Нью-Йорке, как я, в марте, апреле и мае особенно не отличалась от жизни в России. Примерно одно и то же. Новости, новости и новости. И ожидание хоть одной хорошей новости, которой все нет.
И когда вернулась, что я испытала? Острую радость. Я же оказалась дома.

Действительно, когда ты находишься там, [за границей], и когда ты не юный и очень адаптивный человек, а уже зрелый, то ты как будто под водой плывешь. Ты можешь дышать, но это дается тебе тяжело. А тут ты оказываешься над поверхностью воды. И — ах! — дышать-то можно в полную силу, во все легкие. Это во-первых.
И во-вторых, есть самое главное переживание — оно такое острое, что я могу говорить о нем бесконечно. Это когда я вошла в аудиторию университета. И хотя я до этого в Америке прочитала довольно много разных лекций, в разных аудиториях университетских, студентам, на английском и на русском языке, и вроде бы делала то, что я привыкла, и так же, как и всегда — тем же голосом, в той же манере.
Но стоило мне войти в аудиторию в Высшей школе экономики, где я преподаю, увидеть своих студентов и начать с ними говорить, у меня было ощущение, что вот теперь — это я.
Душа в эту секунду — раз! — и вернулась в тело. Где она гуляла до этого, пока я была в Америке, не знаю.
И возникло чувство такой полноты. Я могу быть собой только здесь, с этими ребятами, в этой аудитории, когда за окошком Старая Басманная. Почему-то так.
И для меня очень остро стал вопрос о том, что такое «я», идентичность. В чем она заключается? Раньше я пребывала в иллюзии, что идентичность — это то, как ты думаешь, чувствуешь, каковы твои взгляды.
Оказалось, что в эту огромную вселенную идентичности входит очень много планет. И одна из них — это твоя собственная квартира, другая — это твой собственный двор, третья — это школа, в которой ты училась и мимо которой ты можешь случайно пройти, находясь в городе Москва. Но не в городе Нью-Йорк. Оказалось, что огромное количество каких-то деталей, воспоминаний, предметов здесь, в России — это тоже ты! И я была этим потрясена, потому что не знала этого. И узнала весной 2022 года, когда вернулась в Москву из Америки.
Меня спрашивают: «Ну зачем ты вернулась?» Я вернулась из самых разных, в том числе сентиментальных соображений. У меня есть много обязанностей и некоторое количество людей, которые от меня зависят, которым я только тут могу помочь, а там — не могу, просто потому что это далеко и не всегда можно так быстро среагировать.

Фото: Высшая школа экономики
Кроме того, вот это ощущение — что я, Майя Кучерская, Майей Кучерской могу быть только в Москве. В этом присутствует и грусть, потому что это страшная ограниченность. Ну что это такое? Человек с его бессмертной душой, я, прекрасная, свободная, оказывается, не могу быть собой, когда я не в Москве.
И я поняла, что со мной происходило, когда я жила в Нью-Йорке, притом, что там было совершенно замечательно, и я бесконечно за это благодарна, за то, что делала любимое дело своей жизни, а именно ходила в архив, в библиотеку, что-то исследовала. Тем не менее, я все время ощущала какое-то «недо» — мне все время не хватало… Чего мне не хватало? Мне не хватало быть собой.
Хотя я хорошо знаю, если некоторое время все-таки пожить в другой стране, то потихонечку это возвращение души в тело произойдет. Просто не сразу. Год, два, иногда чуть побольше — и ты наконец обретаешь себя.
Люди ругаются, потому что им больно
— Вам не обидно читать пафосные пассажи про «кто не уехал, тот во всем виноват», «кто остался, и тем более вернулся — плохой русский»?
— Я понимаю одно — всем сейчас плохо. Всем, абсолютно — кто ругается там, кто ругается здесь, кто не ругается… Люди, как могут, стараются справиться с разрывающей их болью.
И когда я читаю эти ругательства, ну что ж, я только руками развожу. Я и сама дважды была объектом травли.
Но когда ты читаешь проклятия в свой адрес от людей, которые тебя не знают, то даже не можешь на них особенно реагировать. Потому что понимаешь, ну, что ими движет, кроме внутренней боли, внутреннего отчаяния, внутренней разрухи.
Иначе нет других причин нападать на совершенно неведомого тебе человека, про которого ты действительно не знаешь ничего — ни про его обстоятельства, ни про его обязательства, вообще ничего. Ты только смотришь на движущуюся виртуальную фигурку и выносишь не менее виртуальное суждение.
Понятно также и то, что многим так важно быть уверенными, что они правильно поступили. Многие мудрые люди уже говорили, что здесь нет и не может быть правильного выбора — уехал ты или остался, каждый это решает исходя из собственных ощущений, обстоятельств и обязательств. Тем не менее, кому-то все равно хочется быть уверенным, что он прав. А чтобы быть уверенным в своей правоте, надо поддерживать тех, кто совершил похожий выбор, и осуждать тех, кто совершил непохожий. Вот и все.
Я к этому отношусь как к естественной ограниченности любого человека. Моей ограниченности тоже. Я, как и любой человек, не могу ни о чем выносить никаких объективных суждений, а исхожу только из собственного опыта и представлений.
И с этим трудно бороться. Этим летом мне по непростым семейным обстоятельствам пришлось оказаться в Америке. И я вдруг впервые почувствовала, что где-то примерно в районе лба у меня клеймо: «Она оттуда, она уже там была и приехала». Наверное, так себя чувствовали люди, приехавшие из коммунистического СССР.

Обвинение в том, что ты все-таки разделяешь позицию тех, кто принимает решения в нашей стране, в воздухе висело. Не будешь же бить себя в грудь и что-то объяснять. Ты просто это чувствуешь и понимаешь, что такова новая реальность. Теперь тебе с этим жить, с клеймом человека, который приехал из России после 24 февраля.
— Вы об этом говорите так, как будто у вас есть какой-то потрясающий внутренний иммунитет против этого. Как будто вам не обидно, не больно, не страшно. Я вижу, как многие люди, которые это слышат, просто рассыпаются, потому что это очень тяжело. Откуда у вас это? У вас же фактически первое выступление в России сорвали непонятными претензиями…
В Петербурге 19 мая выступление Майи Кучерской на Книжном салоне сорвала девушка с плакатом «Своих не бросаем» — она отказывалась садиться на свое место и требовала ответа от писательницы, патриот ли она.
— Это была незабываемая сцена. Но все-таки то выступление было вторым после возвращения из Америки.
Сначала я приехала в Тверь и выступила перед читателями. И это было мое первое выступление здесь после начала беды, как говорит Екатерина Шульман (политолог и публицист, внесена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов. — Примеч. ред.). Все было совершенно иначе — в Твери меня встретили очень симпатичные читатели и никаких скандалов не было.
В Петербурге тоже были читатели. Те, кто приходит на встречу и находит время, это же те, кто тебя любит. Поэтому зал состоял из любящих меня людей.
Но, действительно, эта прекрасная девушка пришла специально, чтобы меня обличить. И тут я впервые подумала: «Ой…» Это было, конечно, совершенно неожиданно. Но я понимаю, что у нее тоже, видимо, болело.
Я потом призывала ее назвать свое имя, сказать, кто она, что ее на эту сцену вывело. Вообще-то это был смелый поступок — взять и выйти, в аудитории лояльной мне совершить поступок против меня. Но она осталась прекрасной незнакомкой. Напишу-ка свое стихотворение вслед за Блоком!
— Вы написали, что одним из мотивов вернуться стали студенты. И вы не могли сказать просто: «Гудбай, ребята, семестр мы завершать не будем, я вас больше не учу». Почему для вас это невозможно? Для очень многих это оказалось сложным выбором, но тем, который пришлось сделать.
— Это хороший вопрос. Вы знаете, я до конца сама не понимаю, как это устроено на самом деле. Потому что среди тех, кто остался, больше людей, создавших какие-то институции, занимающих административные должности. Понятно, почему — они не могут свое дело бросить. На них лежит гораздо больше ответственности.

Фото: Высшая школа экономики
Магистерская программа в Высшей школе экономики «Литературное мастерство» — это мое детище. Да, я ее придумала и создала. Хотя, конечно, она не была бы такой, какой стала, без чудесных коллег — Марины Степновой, Дмитрия Харитонова, Александры Борисенко, Галины Юзефович, Сергея Гандлевского. Я называю наших преподавателей, но, конечно, далеко не всех.
Мне стало очевидно, что если я уеду, то это дело — очень важное, по обучению писателей, по созданию, если угодно, писательской элиты — будет разрушено. И мне было жалко его. До слез. Я туда вложила много сил, много себя. И это же не абстракция какая-то, это живые люди, мои любимые студенты.
Я сказала, что когда вошла в аудиторию, то почувствовала себя собой — там сидели студенты-второкурсники, которые закончили в июне 2022 года. Но оставались и первокурсники, которых мы приняли в свое время, пообещали их учить. Ну, это было бы совсем уж бесчеловечно взять и уйти, и все разрушить в их жизни? У нас и так достаточно разрухи и всякого людоедства вокруг. Я в этом участвовать не хочу.
Очень просто. Мы должны были доучить тех, кого мы приняли. И сделаем это, что бы ни случилось.
Я не вижу никаких причин не выполнить обещания, которые дала этим чудесным молодым людям, которые у нас учатся. Один другого талантливее. У нас отбор — 10 человек на место, попадают лучшие из лучших. Я не могу их бросить.
Будь я рядовым преподавателем, мне было бы намного легче. И многие мои коллеги завершили учебный год и уехали. И это вполне понятно.
Но я понимаю и тех, кто уехал, не окончив учебный год. Потому что, если ты испытываешь физическое удушье, острую панику, реально не можешь находиться здесь по каким-то внутренним психологическим причинам и бежишь — это нормально. Ты спасаешь свою жизнь и жизни своих близких.
Если кажется, что тебе угрожает опасность — бежать от нее нормально! И многим она действительно угрожала. Люди бежали не только от ощущения удушья, но и от вполне реальных вещей — ареста, тюрьмы. Как здесь можно за других решать?
Мне не угрожал арест. Мне не угрожала тюрьма. Надеюсь, и не будет. Поэтому я здесь.
«21 сентября у студентов были перевернутые лица»
— Главный вопрос, который я слышала от родителей своих учеников и от студентов, с которыми я работала весной — как жить, когда непонятно, что у тебя с будущим, когда это будущее украли. Когда мы не можем сдать ни одного экзамена на иностранный язык, был бакалавриат и магистратура — сейчас с ними непонятно что. Говорите ли вы со студентами об этом?
— Вы знаете, у нас очень хорошие студенты. Это магистранты, взрослые люди, им 25 лет и больше, в среднем такой возраст. Они даже ничего не говорят. Они смотрят.
У нас было занятие 21 сентября. Я его не забуду. Когда вдруг вхожу в аудиторию и вижу, что лица перевернуты у всех. У мальчиков и у девочек. Они просто перевернуты.

Что делать, как быть, куда дальше двигаться… Единственное, что я могу на это ответить — тем более, дело-то у нас такое хорошее, писательское, ничего же не надо, только писать. Ни лаборатория не нужна, ничего не нужно, только вот компьютер и голова. Поэтому в ответ на эти перевернутые лица какие-то слова мы даже сказали тогда с Мариной Львовной Степновой (писатель, профессор школы филологических наук НИУ ВШЭ. — Примеч. ред.), мы с ней вместе преподаем. Но, тем не менее, главным было все же другое, другие слова: «А теперь, дети, открыли тетради и начинаем. Сегодня у нас тема…» И пошел учебный процесс.
Вот и ответ — что делать с будущим. Жить в настоящем. Сейчас у вас пара. Мы должны обсудить, как создать живого героя. Как сделать так, чтобы у него глазки блестели, чтобы он был веселый, смешливый или наоборот, грустный, меланхоличный. И к концу пары эти лица, которые были перевернутыми, они обратно — раз! — и оживают. И то же самое и у нас с Мариной Львовной — отпускает.
Это пока мое единственное, главное лекарство против всего происходящего. Делать свое дело. Преподавать. Общаться. Делать то, что нужно сейчас.
Я подумала вдруг, что, наверное, самые счастливые люди — это те, у кого сейчас на руках младенцы. Совсем маленькие дети. Ты не можешь ребенка не накормить, не уложить, ты должен его помыть — много-много забот, которые тебя погружают в насущное, необходимое, и немного отодвигают от тебя глобальные проблемы.
Возможно, я ошибаюсь. Я разговариваю с мамой младенцев, возможно, это не так… Но мне почему-то так кажется.
— Мне кажется, что на уровне бытовом, физиологическом действительно этот круговорот — покормить, переодеть, уложить — сильно отодвигает все твои внутренние боли. Действительно, так я переживала смерть первого мужа — с шестимесячным ребенком. Это очень меняет фокус. Но возникает другой момент — я тебя рожала не в такой мир. Какое-то чувство огромного в том числе обмана своего ребенка тоже.
— Да… Это горе. Мы в ситуации страшной утраты — и глобальной, и маленьких утрат, уюта, комфорта, привычного мира, и в том числе наших иллюзий.
И все-таки, есть правда жизни, как это ни банально звучит. Она заключается в том, что моя дочка ходит в школу. Там есть уроки о важном. Какие-то первые приметы нынешней реальности.

Как они с этим живут, современные дети? Примерно так, как мы жили с историей партии на первом курсе. Я ее еще проходила. А уже на четвертом курсе ее отменили. Дети относятся к этому как к некоторой неизбежности, которая не затрагивает ни душу, ни взгляды. И главное, что, похоже, к этому так же относятся те, кто вынуждены преподавать эти уроки.
Вот эти вскрики, которые я тоже слышу: «Ах, как могут ваши дети ходить в эти школы…» Обычно. Они там учат математику и географию. Они там тусуются. Им там интересно, весело, полно. Для меня это еще один якорь. Я вижу, как хорошо здесь моей дочке среди ровесников. У нее сейчас самое золотое время, она подросток. Они наконец вкусили сладость этого проживания жизни друг с другом рядом. Им больше всего хочется болтать, гулять, общаться. Жить.
О стихах и прозе в 2022 году
— Что поменялось за этот год в том, как стали писать? Я очень много думала о том, что никогда не любила и не понимала поэзию. Стихи надо учить, разбирать, это здорово, прекрасно, но это что-то абсолютно — прощу прощения у всех — избыточное. В этом году я увидела, что пока у тебя абсолютно нет слов, именно те, кто пишет стихи, эти слова подбирает. И они прямо дают название тому, что происходит. У меня произошло переосмысление всей поэзии. Что происходит у вас?
— Да, я тоже заметила, что полились потоки поэтические. И это очень сильные стихи. Их правда много. И даже те, кто молчал много лет, вдруг начали писать, замечательные стихи. Я снова стала поклонницей — и была раньше, но он на какое-то время замолчал — Юлия Гуголева, например. Он сейчас пишет прекрасные, очень современные стихи.
Почему стихи в изобилии рождаются сегодня, а с прозой мы такого не наблюдаем? У этого достаточно простое объяснение.
Стихотворение — это песня. Человек поет, когда ему радостно и когда ему, наоборот, грустно. Это эмоциональный выкрик, выплеск.
А проза — это некоторая работа, сосредоточение, долгая дистанция, вот что важно. Поэтому, чтобы написать хорошую прозу, нужно время и гораздо больше душевных сил. Не говоря уж об исторической дистанции.
Что происходит с современной прозой? Я пока не очень понимаю. Но не сомневаюсь в том, что все наши сегодняшние переживания найдут воплощения в текстах современных писателей.
— Сразу опыта появилось очень много.
— Да! Я думаю, что просто не может быть иначе. Очень серьезные перспективы у украинской литературы, потому что это совсем другой опыт. И, безусловно, на волне его уже родились, несомненно, новые современные авторы, новые сильные тексты.
Что касается российской литературы, я пока затаилась и жду. Нашим студентам мы с Мариной Львовной Степновой ведь тоже должны отвечать на их вопросы: о чем писать, что делать, кому это вообще нужно, бумага дорожает, премии закрываются, издательства объявляются иноагентами…
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов компанию-сервис для чтения книг по подписке Bookmate, ее гендиректора Андрея Баева и директора по маркетингу Алексея Докучаева, который также возглавляет издательства Individuum и Popcorn Books.
Это нормальные профессиональные вопросы. И мы отвечаем: о чем бы вы ни написали, если вы напишете это хорошо, этого достаточно. Главное, это качество текста.
Литература — это всегда притча. Вы можете написать рассказ об избиении младенцев, которое состоялось 2000 лет назад. Или рассказать историю о чем угодно — о любой войне, любых переживаниях, в любую историческую эпоху. Если вы написали хорошо, человек, живущий сегодня, сможет отождествиться с вашими героями и войти в мир, который вы создали. Просто потому что вы создали этот мир убедительным. Так устроено искусство. Войти и понять что-то про себя сегодняшних.
Поэтому ты имеешь право особенно не зависеть от современности. В этом утешение для писателей. Пиши по-прежнему о том, о чем хотел, что у тебя болит, о чем ты думаешь.
Например, не так давно я прочитала замечательный рассказ Арины Киселевой, нашей студентки. Он должен выйти в журнале «Знамя» — «Думай позитивно». Это рассказ о девочке, которая работает в букмекерской конторе. Она ходит на работу, при этом на дворе апрель 2022 года и происходит то, что происходит. Там нет слов «специальная военная операция», там нет никаких других слов. Но сквозь все щелочки этого рассказа проступает ужас героини, иррациональный ужас, и мы кожей ощущаем то время, этот страшный апрель 2022 года.

В итоге у Арины получился рассказ о современности, о том, что переживает молодая девушка, у которой тоже есть ощущение, что будущего нет. Вот оно, литературное мастерство! Рассказать обо всем, рассказать абсолютную правду и при этом рассказать как бы на века.
— Я часто думаю про какие-то параллели с экзистенциалистами, которые прошли во время Второй мировой войны путь от абсолютного релятивизма нравственного — «нет ни хорошего, ни плохого, мама умерла — ну и ладно» (речь о романе Альбера Камю «Посторонний». — Примеч. ред.). И пройдя через сопротивление, военные действия, фронт, эти молодые люди, писатели, поменялись абсолютно в своем восприятии реальности. И как раз «экзистенциализм — это гуманизм» (работа Жана-Поля Сартра 1946 года. — Примеч. ред.) тогда примерно и рождается. Как вы думаете, будет ли что-то такое сейчас?
— Как ни странно, это ощущение постороннести имени Камю я встречала в текстах своих выпускников и студентов, написанных «до». Это ощущение потерянности их, рожденных в 90-м году, уже посещало. Я имею в виду в первую очередь книгу Тимура Валитова «Угловая комната» — в этом романе описана смерть отца, но ощущения примерно те же. Жаль, конечно, что отца нет, но эмоционально герой практически не вовлечен в это горе и потерю.
Не знаю, как на молодых писателей повлияет то, что происходит. Как и о чем они будут писать, как будут описывать свои отношения с добром и злом в текстах.
Но я думаю, что само противостояние добра и зла должно стать более актуальным для них. Они увидели своими глазами, как бывает, когда торжествует зло. И когда добро старается сопротивляться этому. Когда ты свидетель борьбы добра и зла, ты не можешь об этом не писать.
Проповедь любви и православный ежик
— Вы писали о том, что очень не хватает голоса священника сегодня.
— Да, не хватает голоса священника. Мне в ответ на мой пост пришло целых три ролика с проповедями разных священников, которые достаточно смело говорили своей пастве о том, что надо противостоять злу. Что надо все равно стоять твердо.
Мой пост о том, да где же наши батюшки, почему в этом нашем общем и страшном горе не слышно их голосов — это был такой выплеск. Но я прекрасно осознаю, что нет сословия более зависимого в нашей стране после военных, чем священники. Каждый священник, который выходит на амвон и, например, выражает несогласие с официальной линией партии и правительства, обречен на то, что его, скорее всего, уволят и отправят за штат. Как он в таком случае будет кормить свою семью, если он в общем умеет только служить? Он должен пойти в водители такси? Можно, конечно. Но это уже такой подвиг, который невозможно ни от кого требовать.
С одной стороны, эти голоса звучат все-таки. Только что послушала замечательную беседу о вере отца Алексея Уминского, чудесная беседа Катерины Гордеевой (журналист, кинодокументалист, писатель. Была внесена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов. — Примеч. ред.) с иеромонахом Иоанном (Гуайта). И у вас публикуются тоже его мысли. Прекрасно. Кто может, говорит, кто не может — молчит.

Огорчительно не это, а другое. Я даже не знаю, как об этом говорить. Не потому, что я боюсь цензуры, а потому что у меня до конца нет сложившегося понимания, что это. Но ведь огромное количество священников оказались не готовы проповедовать Христа, любовь. Они почему-то не могут сказать то простое, что я написала в том самом посте: убивать нехорошо, живой человек не должен убивать живого человека, Христос объяснил нам это очень давно. И даже до Христа это было известно. Была такая заповедь — не убий.
И вот отсутствие этой проповеди от имени Христа, проповеди любви, меня удивляет.
— Вы много писали про разные кризисы, связанные с верой. Вспоминается иногда ваш рассказ про православного ежика, как он стал крестить белочку и она утонула. И, кажется, звери сказали: «Ничего, зато крещеная умерла» («История о православном ежике» вошла в книгу Майи Кучерской «Современный патерик». — Примеч. ред.).
— Православная жизнь в России действительно очень причудливо сложилась. Так много было рабства, насилия в истории нашей страны.
Так часто строили прекрасные дворцы, железные дороги и города на костях. И как-то это насилие и привычка к нему, видимо, впиталась.
В том числе православие, его русский извод, как-то перестал различать, где насилие, а где любовь. История про утонувшую белочку ведь об этом. О том, что христианство может проповедовать только любовь и радость, а не заталкивание в свою веру.
«На вопрос, где Бог, каждый должен ответить — а я-то где?»
— Где Бог, когда происходит такое страдание?
— Вопрос к Богу. Где Он?
Как ни странно, еще даже до пандемии меня стало охватывать чувство, что эта наша удивительная жизнь — взять да и поехать на выставку Питера Брейгеля в Вену, провести уикенд в Европе (а очень многие рядом со мной жили так) — вот-вот кончится. Было ощущение, что Римская империя стоит на пороге разрушения. Было чувство переполненности и перенасыщенности нашей жизни.
Конечно, я говорю сейчас об очень узкой прослойке, не обо всей стране, страна жила иначе. Это я тоже хорошо знаю, потому что много где бывала. Но жизнь Москвы была такой. И меня не покидало предчувствие: не сегодня завтра все это кончится, просто потому что так нельзя.
Был такой замечательный священник, архимандрит Павел Груздев, который часто повторял: «Зажрались!» Он говорил это и в 80-е годы, и в 90-е. Отец Павел сидел в лагере и знал, что такое голодать и что такое зажраться, в буквальном смысле этого слова — это когда на столе слишком много еды.
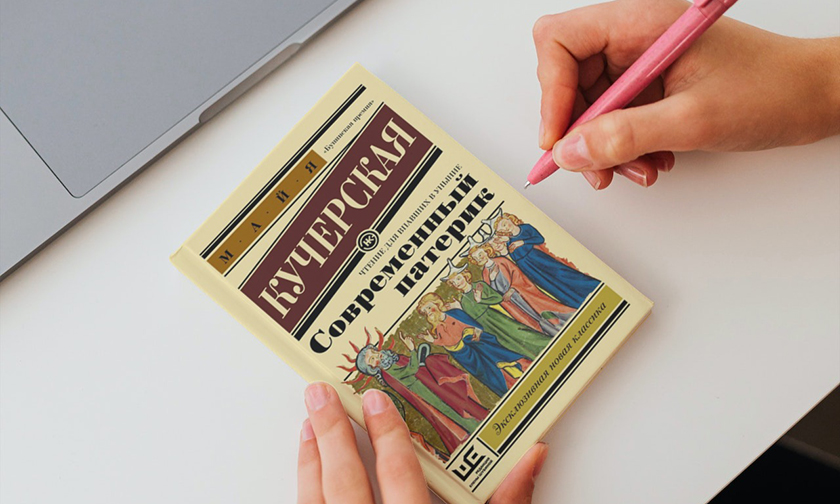
Мне понятно это ощущение. И оно действительно окружало многих из нас. Мне казалось, сейчас все гикнется. И особенно часто это чувство меня охватывало где-нибудь в аэропорту, когда я видела огромное количество соотечественников, которые свободно перемещаются по миру, которые могут много что себе позволить, которые…
— Пришли к идеалу XXI века.
— Да, пришли к идеалу XXI века. Вот оно и стало рушиться — сначала пандемия, а потом 24 февраля.
Я не могу отвечать за Бога. Но, возможно, это и правда реакция небес на состояние умов и сердец, которые давно уже не были обращены никуда, кроме как на развлечения.
При этом я понимаю, что Бог есть любовь, Он любит людей и жалеет их, и желает им счастья и добра. И понятно, что Он не имеет никакого отношения к тому, что происходит. Это же не Его выбор, а конкретных людей. Мы только наблюдаем Его бесконечное уважение к нашей свободе.
У каждого — зона своей ответственности. И, мне кажется, на этот вопрос, где Бог, каждый должен ответить — а я-то где? Где я сейчас?
Люблю ли тех, кто рядом? Жалею их? И где я был раньше? Я шел на компромиссы? Шел. А если бы я здесь сказал «нет»? А если бы я вот в этом не стал участвовать? Может быть, ситуация была бы другой.
Я понимаю, как обидно тем, кто на компромиссы не шел и активно во всем участвовал, а сейчас уехал из России. Но не стоит сводить это участие только к политическому полю. Есть и другие поля, и все они важные — какой ты был в семье, в своей профессии, насколько ты честно жил. И, мне кажется, если бы каждый жил в соответствии, простите за пафос, с заповедями, или хотя бы со своими взглядами на то, что хорошо и дурно, мир был бы другим. В этом смысле каждый из нас несет вовсе не коллективную, а личную ответственность за происходящее — не дотянули, не доделали, не противостояли дьяволу.
— Вы тяжело болели ковидом, лежали в больнице, написали в Facebook (запрещен на территории РФ. — Примеч. ред.), что прощались с жизнью. Что это изменило в вашей жизни?
— Когда ты на пороге смерти, у тебя может атрофироваться вера. Оказывается, это тоже некоторая часть души, которая может умереть вместе с телом. Если тело начинает умирать, умирает и эта часть души. Это очень страшно. Ну, я выздоровела.

О встрече с Татьяной Юрьевной Лесковой
— Мы часто с друзьями говорим о том, что кажется, что за эти 9 месяцев люди постарели больше, чем на год. Есть у вас такое ощущение?
— Постарели в каком смысле?
— Прямо физически.
— Про некоторых друзей могу так сказать. Но далеко не про всех. В ком-то из них я вдруг увидела этот проступивший возраст. Проступила какая-то усталость в лице. Старость ведь до известной степени просто психологическое состояние, мне кажется.
— Вы сейчас будете снимать фильм про правнучку писателя Николая Лескова. Перед нашей съемкой вы рассказывали, что у нее идеальная осанка. И я как раз подумала про старость как психологическое состояние.
— О Татьяне Юрьевне Лесковой сейчас все мои помыслы, этим живу, нашей поездкой в Бразилию, как я надеюсь, в декабре.
Татьяна Юрьевна Лескова (6.12.1922) — балерина, педагог и хореограф. Правнучка писателя Николая Лескова. Покорила сцены Парижа, Лондона, Нью-Йорка. С 1944 года живет в Бразилии.
Татьяна Лескова пригласила нас на свой 100-летний юбилей.
Татьяна Юрьевна действительно говорит в некоторых своих интервью, что своего возраста, как ни странно, не чувствует. Правда, это ранние интервью, когда ей всего каких-то 96–97 лет.
Вообще это интересная тема. Интересно проверить, так у всех или только у меня — некоторый набор тяжелых предрассудков, связанных с возрастом, актуален именно здесь, в России. Я примерно лет с двадцати семи чувствовала себя старой. Мне все время казалось: «Ой, мне уже двадцать семь». В тридцать два: «О Боже, 32 года, я старуха!» В сорок — «ну все, это просто уже полная дряхлость».
А сейчас мне пятьдесят с лишним. И я впервые перестала себя ощущать старой. Может быть, потому что мне пришлось жить этой зимой четыре месяца в Америке, а там совершенно другое отношение к возрасту. И стоило мне там заикнуться «ой, мне уже так много лет!» — на меня смотрели с глубоким недоумением. Мол, это что, кокетство? И не знали, как на это реагировать.

Татьяна Юрьевна Лескова
Настолько там пятьдесят — нормальное время, зрелость, расцвет. У тебя впереди еще 30 лет активной жизни. Потом, наверное, пенсия. В Америке, как известно, в отличие от Европы поздно уходят на пенсию, не в 65 лет.
Не знаю, почему в России так. Вероятно, потому что продолжительность и качество жизни у нас другое? Но не до такой же степени, чтобы в 27 чувствовать, что молодость позади? Мне действительно любопытно: люди моего поколения, особенно женщины, тоже с юных лет чувствовали, что они старые? Посмотрим, что напишут в комментариях наши зрители.
— Я помню, как моей бабушке в университет писала ее мать: «Тонечка, ну я уже пожила, я уже старая, теперь ты живи». Ей было сорок лет как раз, а в сорок два она умерла от туберкулеза. Так что да, такое безусловно есть.
— Был круг представлений XIX века, связанных с возрастом. «Старик 45 лет» — мы это знаем из Тургенева. И это не имело никакой национальной привязки. Но, мне кажется, потом этот «старик 45 лет» поселился прочно в России. Я не знаю, так это или нет, но по ощущениям да.
Хотя последние 30 лет ситуация стала меняться. И замечательные проекты Владимира Яковлева рассчитаны именно на тех людей, которые уже совершенно иначе себя чувствуют в возрасте счастья — 55+ (Владимир Яковлев — журналист, основатель ИД «Коммерсант», создатель проекта «Возраст счастья». — Примеч. ред.).
— Можете рассказать про свой фильм подробнее? Как вы нашли правнучку Лескова?
— Это как раз к вопросу о будущем. Еще один проект, который освещает мне путь до 6 декабря уж точно. Потому что 6 декабря исполнится 100 лет Татьяне Юрьевне.

Татьяна Юрьевна Лескова
Я нашла ее просто — знала, что она существует, читала с ней интервью. Потом ко мне обратились прекрасные люди из Бразилии и сказали, что хотят передать ей мою книгу о Лескове, и чтобы я надписала эту книгу лично.
И дальше они приехали в Бразилию, а я была в тот момент в Нью-Йорке. И нас с Татьяной Юрьевной соединили по зуму. Ей вручили мою книгу, а я увидела ее впервые и была абсолютно очарована. Потому что это и правда человек из другой, далекой уже, ушедшей эпохи. В том числе языковой.
Меня поразила ее речь. Татьяна Юрьевна говорит так, как ее научила ее бабушка, ее тетка, родившиеся в России до революции. Они говорили иначе, совсем не так, как мы с вами сейчас говорим. И меня это погружение в абсолютное прошлое языка — живого, гибкого, но другого — просто потрясло. Не говоря о том, что Татьяна Юрьевна сохраняет и огромное обаяние, и жизненную энергию.
И на вопрос, что ее держит на плаву, она ответила: «Интерес к жизни. Мне очень интересно, что происходит вокруг. Мне все интересно».
Она меня просто обезоружила. И я поняла, что этим нужно делиться. Рассказать о Татьяне Юрьевне нужно всем.
Вот мы с режиссером Татьяной Сорокиной и оператором Юлей Галочкиной решили снимать фильм. И даже уже купили билеты на мою «Большую книгу» (в 2021 году Майя Кучерская получила премию «Большая книга» за биографию «Н.С.Лесков. Прозеванный гений»). Но предстоит еще жить в другой стране, снимать, потом монтировать, озвучивать. Фильм — это тебе не книжку сочинить, это — дорого. Мы организовали краудфандинг. И я надеюсь, что благодаря нашим зрителям цифры там немножко подрастут.
Меня этот проект радует, и я очень надеюсь, что у нас все получится и своей радостью я смогу поделиться со всеми.
Видео: Сергей Щедрин
Поддержать съемку документального фильма о Татьяне Лесковой




