
Наука пела бессмыслицу,
Искусство – радости тьмы,
Мир устал и состарился,
Но молоды были мы.
Г. К. Честертон
Честертон даже внешне похож на гору, которая своим величием и неприступностью не подавляет, но возвышает и манит читателя-путешественника белой копной снежной вершины, так сказать, «ангельской сединой». Гора сверкает разнообразием поэтических, философских и религиозных откровений, солнечным, а не аквамариновым льдом ясных суждений, этических и эстетических максим.
Как и всякая гора, Честертон имеет свои склоны, тропинки, уступы, взбираясь по которым его исследователь достигает благодатных перевалов, пьёт воду из прозрачных ручьёв и отдыхает в тенистых расселинах.
Но Честертон не был таким создан вдруг и сразу. Он вырос, и его «геология» чрезвычайно интересна, поскольку конечный результат – неослабевающий интерес многих поколений западных и русских интеллектуалов, переиздания собрания сочинений, исследования, научные сборники, честертоновские общества и готовящаяся в Западной части Христовой Церкви беатификация писателя (среди блаженных).
Но в этой истории развития «горы» Честертона есть один важный отрезок, о котором имеет смысл напомнить не только почитателям его таланта, но и всем интересующимся процессами духовных поисков христианских интеллектуалов начала XX века, результаты которых подвергли серьёзному испытанию на прочность последующие десятилетия, вплоть до нынешнего столетия.
Знакомство с Гумилевым
3 июня 1917 года Николай Гумилёв (1886 – 1921) из Лондона пишет Анне Ахматовой: «Сегодня я буду на вечере у Йейтса, английского Вячеслава (Иванова? – Авт.). Мне обещали также устроить встречу с Честертоном, которому, оказывается, за сорок и у которого около двадцати книг. Его здесь очень любят или очень ненавидят – но все считаются. Он пишет также и стихи, совсем хорошие».
В первой половине британского лета они все трое были ещё «молоды». Гумилёву минуло 31, Йейтс переступил 50-летний рубеж, а Честертону, действительно, было только 43 года, что, видимо, учитывая количество написанных им книг, восхитило Гумилёва.
Об упомянутой выше лондонской встрече Честертон писал: «Русский поэт-офицер произносил непрерывный монолог по-французски, который всех нас захватил. В его речах было качество, присущее его нации, – качество, которое многие пытались определить и которое, попросту говоря, состоит в том, что русские обладают всеми возможными человеческими талантами, кроме здравого смысла.
Он был аристократом, землевладельцем, офицером одного из блестящих полков царской армии – человеком, во всех отношениях принадлежащим старому режиму. Но было в нём и нечто такое, без чего нельзя стать большевиком, – нечто, что я замечал во всех русских, каких мне приходилось встречать. Скажу только, что когда он вышел в дверь, мне показалось, что он вполне мог удалиться и через окно. Он не коммунист, но утопист, причём утопия его намного безумнее любого коммунизма».
Гумилёв, который, по словам Ходасевича, «не подозревал, чтó такое религия», был захвачен вполне кельтской идеей поэтократии как единственного средства, способного преобразить мир. И в русской Церкви его вдохновляла не столько мистическая сторона, сколько имперские идеи:
Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны.
(«Память»)
До революций, а точнее, до времён расцвета мелких нэпмановских типографий, книги Честертона (1874 – 1936) и Йейтса (1865 – 1939) на русский язык практически не переводили. В 20-х годах первым «детективщиком и романистом» увлекались Чуковский, Эйзенштейн, Козинцев; вторым – Всеволод Рождественский, Зинаида Гиппиус и сам Гумилёв.
Гумилёвское увлечение кельтизмом, которое вообще свойственно русской поэзии конца XVIII – начала XIX веков, нашло своё отражение в завершённой к 1917-му году пьесе «Гондла», которая, и по использованному мифологическому материалу, и по самой «гэльской» тональности, напоминает многие йейтсовские стихи (поэмы «Байлин и Айллин») и пьесы («У ястребиного источника»).
В Йейтсе Гумилёв видел поэта, воспевшего дублинское «Пасхальное восстание» 1916-го года, романтика, сравнивавшего одного из лидеров восстания, Патрика Пирса, с легендарным Кухулинном, Йейтса – автора множества оригинальных пьес, насыщенных мифологическими аллюзиями и кельтской героикой. А Честертон уже был известен первыми книгами об отце Брауне, «Перелётным кабаком», сборником стихотворений «Ветер, вино и вода» и блестящими эссе.
Он ещё не католик, но человек, прошедший искус «Христианской наукой» («Christian Science»), спиритизмом, восточным мистицизмом, различного толка «богоискательством»… и утвердившийся в том, что «действительно ищущий правду первое, что честно скажет о себе: «Я лжец»» («Школа лицемерия»).
Гумилёв познакомился с обоими писателями, но плоды этих лондонских встреч в насыщенном, но кратком (до расстрела 1921-го года) творчестве поэта не успели явиться. Не знал он и о сложных перипетиях литературных и интеллектуальных связей этих людей.
Феи против материализма
Основным документальным источником, проясняющим историю вопроса, является «Автобиография» Честертона, эссе и, отчасти, романы. В период с 1895-го по 1900-й он был «всецело с Йейтсом и его феями, против материализма», тем более – «с йейтсовскими фермерами против механистического материализма городов». В эти годы, по мнению Честертона, «кое-где уже появилась реакция на материализм и, отчасти, на то, что позднее назвали духовностью», которая «принимала мятежную форму «Христианской науки», отрицавшей тело только потому, что её противники отрицали душу. Но чаще она принимала форму теософии, которую называли и эзотерическим буддизмом».
Йейтс ко времени увлечения Честертона его творчеством, успел близко подружиться с «фением» Джоном О’Лири, после многолетнего изгнания приехавшим в Дублин, Джоном Расселом – поэтом-оккультистом, основать Герметическое общество, вступить в Орден Золотой Зари. Он издал «Странствие Ойсина», «Мосаду» – поэмы о противостоянии друидической и христианской традиции. Опубликовал «Волшебные и народные истории ирландского крестьянства», программное эссе «Кельтский элемент в литературе» (1897 г.), свод рассказов «Кельтские сумерки», давший название целому культурно-патриотическому движению, и знаменитый поэтический сборник «Ветер в тростнике» (1897 г.).
Ян Брэдли (Ian Bradley) ссылается на одного из первых биографов Йейтса – Фостера (Foster), который разъяснял «кельтизм» поэта как серьёзную, глубоко продуманную культурную в своей сути концепцию: «контранглийскую, антиматериалистическую, антибуржуазную и связанную с теософским символизмом через Блейка и Сведенборга…». Когда в 1897-м году Йейтс объявил, что «кельтская духовность могла бы искупить мир», он не пользовался категориями и терминами христианской догматики, предпочитая языческие образы, часть из которых была изобретена им же самим.
«Восточный крен» Йетса
В какой-то момент, между 1890-м и 1903-м, Йейтс, усвоив уроки леди Грегори, дублинских герметистов, многочисленных энтузиастов «кельтских сумерек», от Уильяма и Джейн Элджи Уайльд, родителей Фингаэла О’Флаэрти Оскара Уайльда до Александра Кармихаэла, Джорджа Уильяма Рассела, через сброшенные покровы «Разоблачённой Изиды» и розенкрейцерство добрался до самой густой, свинцовой теософии Блаватской.
Честертон пишет, что Анни Безант, которая «была почтенная, изысканная, искусная эгоистка» Йейтс предпочёл «грубую, языкастую, буйную шарлатанку Блаватскую». Как результат: «восточный крен сыграл с ним недобрую шутку, когда он перешёл от фей к факирам».
«Надеюсь, меня поймут правильно, – с ангельской серьёзностью, то есть без первого признака лжи – пафосности, заключает Честертон, – этого замечательного человека зачаровали, и Блаватская – ведьма».
С Йейтсом произошло то же, что с галатами, которым писал апостол Павел: «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас?» (Гал. 3.1). В греческом тексте – «околдовал», то есть зачаровал тех, что прежде верили Евангелию. Но Йейтс, в силу ирландского упрямства, «обману не поддался». «Его, – как считал Честертон, – не пленили теософские улыбки и непрочное сверкание оптимизма. Своим проницательным умом он проник в те бездны печали, которые разверзаются под восточной гладью… Йейтс кое-что знал о сути, а не только внешности Будды» («Автобиография»).
«Очарованный», но не пленённый, он сконструировал свою причудливую теологию, в которой отсутствовал личный Бог, «духам» были уготованы служебные функции участников цепочки Перерождений, а вера складывалась из упования на две нерушимые бесконечности: бесконечность души и рода (клана):
…Человек в цепи звено,
Ибо в нём заключено
Два бессмертья: не умрёт
Ни душа его, ни род.
Всяк ирландец испокон
Чтил бесстрашия закон,
Ибо, встретив меч врага,
Знал: разлука недолга…
У.Б. Йейтс
(«В тени Бен-Балбена»,
перевод Григория Кружкова)
У.Х. Оден говорил, что ««безумная Ирландия» сделала Йейтса поэтом», и если с этим согласиться, то следует считать справедливым предположение: в теологии Йейтса Ирландия занимала центральное, сакральное место.
Но Йейтс был более чем просто национальный поэт, мечтавший «сохранить в душе ирландство». В элегии «Памяти Йейтса» У.Х. Оден о его смерти скажет: «Опустел сосуд Ирландии, поэзия вытекла из него».
Следует заметить, что та католическая Ирландия, в которой родился, духовно и творчески рос Йейтс, находилась под очень жёстким англиканским контролем и британским политическим давлением. Владимир Сергеевич Печёрин, русский интеллигент, принявший католическое монашество, прослуживший много лет и скончавшийся в Дублине, в своих воспоминаниях под 1848-м годом помещает несколько наблюдений: «Ирландец смотрит на священника как на опасного колдуна, с которым надо ладить, а не то случится беда… Он, пожалуй, сглазит, нашепчет что-нибудь, наведёт какую-нибудь лихоманку… Ирландцы действительно верят, что священник может исцелить любой недуг, если захочет, одним прикосновением руки…» (см. «Замогильные записки»). Так что вполне понятен скепсис поэта относительно ирландского духовенства, которое в произведениях Йейтса занимает довольно специфическое место.
В 1890-е он планирует создание некоего «Ирландского ордена», задачей которого должно было стать гармоническое соединение друидических и христианских идей, естественно, вне современных ему церквей. Ничего в конечном счёте не вышло. В отличие от Т.С. Элиота или того же Честертона, Йейтс подчёркивал свой антиклерикализм. Йейтс говорил: «Страстность души может быть причиной того, что в Ирландии столько христианских монастырей… Ирландские легенды, чьё действие разворачивается среди знакомых нам лесов и морей, содержит в себе новую красоту и могут дать наступающему веку наиболее запоминающиеся символы, в которых он себя выразит («Кельтский элемент в литературе»)».
(Хотя, думаю, прими он идею создания «Кельтской Церкви», независимой от Рима и Лондона, подними он крест святого Патрика, идеи Северо-Запада Европы, было бы в начале XX века создано мощное противоядие «арийским» и «нордическим» политмифам. 1934 г. «Три маршевые песни» для «синерубашечников» генерала О’Даффи – тому косвенное подтверждение.)
В том же 1893-м году Честертон, тогда ещё формальный даже англиканин из семьи агностиков, недолгое время увлечённый модным спиритизмом, легко минует это искушение. Позднее он вспоминал о нём, посмеиваясь над собой и братом Сесилом. Честертон пишет «Наполеона Ноттингхилльского», а про Йейтса замечает: «В унылом краю модного материализма спокойно расхаживал Уилли Йейтс, лично знакомый с феями… Материалистов он сражал вчистую, кроя их отвлечённые теории очень конкретной мистикой.
«Выдумки! – презрительно восклицал он. – Какие уж выдумки, когда фермера Хогана вытащили из постели, как мешок с картошкой, и отдубасили. Такого не придумаешь!» Он не только балаганил, он использовал здравый довод, который я запомнил навсегда: тысячи раз о таких случаях свидетельствовали не богемные ненормальные люди, а нормальные, вроде крестьян. Фей видят фермеры. Тот, кто зовёт лопату лопатой, зовёт духа духом. Конечно, можно сказать, что это тёмные неграмотные люди. Но по свидетельству на суде этих самых людей мы отправим человека на виселицу».
В эссе «Новый Иерусалим» писатель говорил: «Джордж Мур заинтересовался ирландским мистицизмом, воплощённым в Йейтсе. Я сам слышал (!), как Йейтс доказывал конкретность, вещественность и даже юмор потустороннего и говорил про своего знакомого фермера, которого феи вытащили из кровати и отдубасили. И вот представьте себе, что Йейтс рассказывает Муру очень похожую историю: о том, как некий волшебник загнал этих фей в фермерских свинок, а те попрыгали в деревенский пруд.
Счёл бы Джордж Мур эту историю невероятной? Была бы она для него чем-нибудь хуже тысячи вещей, в которые обязаны верить современные мистики? Встал бы он в негодовании и порвал отношения с Йейтсом? Ничуть не бывало. Он бы выслушал её серьёзно, более того – торжественно и признал бы грубоватым, но, несомненно, очаровательным образцом сельской мистики».
Честертон изумлялся и огорчался, когда видел современное ему «атеистическое правоверие» и иронизировал над «атеистической респектабельностью». В Йейтсе же, по его мнению, были «все пороки, которые сейчас именуются добродетелями – религиозные сомнения, беспокойство разума, голодная доверчивость ко всему новому, немалая неуравновешенность». При этом «были и добродетели, которые именуются пороками – романтичность; желание чтобы любовь мужчины и женщины стала такой, как в раю, и потребность в смысле жизни».
«Кельты-созерцатели»
И Честертона, и Йейтса можно считать «кельтами-созерцателями».
Но созерцательность бывает различной. Её йейтсовский вариант приводит человека в озёрный край, на лесную поляну, горный луг или к тенистому боярышниковому ключу. Оставляет скитальца для одиноких эстетических размышлений, сложения песен печали, загадочных историй и реконструкции древних полузабытых мифов. Всё это, в конце концов, облекается в формы уныния, пессимизма, то есть страдания. Феи здесь своими крылышками не закроют от палящего солнца и холодного дождя.
Честертон своего читателя отправляет той же дорогой благодарного и радостного созерцания, в надежде, что тот встретит, найдёт Самого Бога, а не проведёт дни и годы в поисках «духовности» и «умственного света». У Йейтса феи – равноправные обитатели материального мира, у Честертона – литературная версия ангелов, которые «легки» и как бы «подпрыгивают», будучи неземными созданиями, лишёнными «груза самозначительности и важности».
Честертон был «захвачен», но не пленён йейтсовскими феями и считал: «Язычники поклонялись Природе, пантеисты любили её, но и поклонение, и любовь основаны, пусть подсознательно, на ощущении цели и объективного добра не меньше, чем сознательная благодарность христиан… Толки о Природе – те же сказки, и место им у очага, а не у алтаря. Природа в этих сказках вроде феи-крёстной. Но феи-крёстные добры к тем, кого крестили, а как крестить без Креста?» («Автобиография. Бог с золотым ключом»).
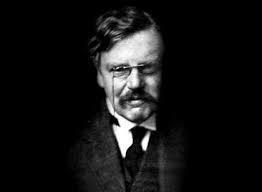 В 1918-м Честертон провёл несколько недель, путешествуя по Изумрудному Острову, написал книгу очерков «Ирландские впечатления» (1919 г.) и прочитал цикл лекций в поддержку идей и движения Ирландского Возрождения. Ему, конечно, импонировала та самая древняя христианская Ирландия, с её кельтскими святыми, которых он однажды назвал «движущимися свечами, осветившими мир Средневековья», и жития которых хорошо знал и любил – не меньше святого Франциска и Фомы, – а не друидические «тонкие места», с их «неизменной сумрачной прелестью» («Перелётный кабак»).
В 1918-м Честертон провёл несколько недель, путешествуя по Изумрудному Острову, написал книгу очерков «Ирландские впечатления» (1919 г.) и прочитал цикл лекций в поддержку идей и движения Ирландского Возрождения. Ему, конечно, импонировала та самая древняя христианская Ирландия, с её кельтскими святыми, которых он однажды назвал «движущимися свечами, осветившими мир Средневековья», и жития которых хорошо знал и любил – не меньше святого Франциска и Фомы, – а не друидические «тонкие места», с их «неизменной сумрачной прелестью» («Перелётный кабак»).
В душе Честертона безошибочно работал, по выражению Натальи Трауберг, «метроном добра и зла». Он восхищался бликами кельтской таинственности, не очаровываясь её языческой и пантеистической слагающей. Феи и фермеры обоих писателей – некое «проверочное слово» ко лжи материализма, но Честертон, как настоящий апологет (защитник веры) был переполнен Правдой Божией и спешил ею поделиться. Эссе о Томе Джонсе заканчивается так: «Добро есть добро, даже если никто ему не служит. Зло – это зло, даже если никто не осуждает его». У Йейтса «тяга к языческому «варварству правды» (Г. Кружков) рождала «отвращение к материализму и бесстыдству эпохи в целом», но альтернативы, кроме как «плюнуть времени в лицо за все его дела» не существовало ».
P.S.
Другой перевод стихотворения Йейтса, используемого в качестве эпиграфа, выглядит так:
Пусть были мы глупы, слабы
перед напором тьмы.
Но чёрному Ваалу
не поклонились мы.
Николая Степановича Гумилёва казнила власть победившего материализма, в его самом что ни на есть оккультном проявлении. Поэт встал под пулю как участник монархического «заговора», то есть принял смерть за преданность государственной традиции, непосредственно связанной с русским православным мировоззрением, в его политических предпочтениях. Выбрал путь русского рыцарства, вдохновлённый поэтикой кельтского героизма Йейтса и христианского здравомыслия Честертона.




