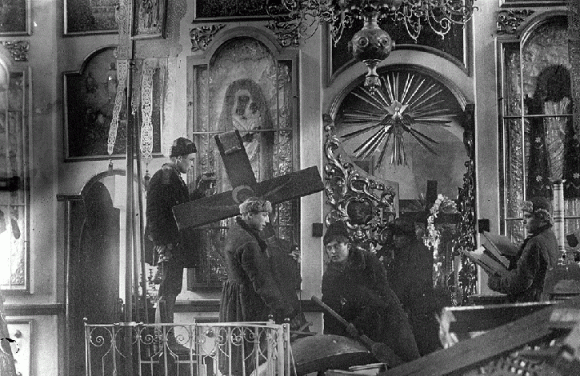Прочитав колонку историка Федора Гайды «Кто начал гонения на Церковь?», историк и телеведущий Феликс Разумовский позвонил в редакцию и сказал, что хочет ответить. Ведущий программы «Кто мы?» категорически не согласен с утверждениями, что большевики были интеллигентами и что народ в большинстве не участвовал в гонениях, а стоял в стороне.
Не революция, а Смута
С пониманием русского прошлого у нас большие проблемы. Высказываются диаметрально противоположные точки зрения, какие-то несуразные версии, и мы, похоже, к этому уже привыкли. Как привыкли и смирились с очевидным упадком русской жизни. Между тем, хотелось бы, чтобы по крайней мере в церковной среде такого разброда в умах не было, тем более когда речь идет о трагических событиях церковной истории, в частности, о гонениях на Церковь в советскую эпоху. Каковы были причины этих гонений, кто их направлял и организовывал, какова была роль тех, кого называют простым народом, то есть основной массы русского населения?
По этим ключевым вопросам существует достаточное количество серьёзных исследований, многие из них были подготовлены специалистами ПСТГУ. Совсем недавно была опубликована диссертация Соловецкого архимандрита Ианнуария (Недачина) «Духовенство Смоленской епархии в гонениях конца 1917 — начала 1919 года». В этой блестящей работе публикуется дневник сельского священника и другие уникальные документы, которые не оставляют никаких сомнений в том, как и когда начались гонения на Церковь. Так вот, начались они именно до захвата власти большевиками. Первые грабежи храмов и монастырей, первые акты насилия по отношению к духовенству, первые убийства священников произошли до октября 1917 года.
Весной и летом 17 года в деревне, в сущности, никакой власти нет. Мужики делят землю, грабят помещичьи усадьбы и гуляют в своё удовольствие. Деревня ещё знать не знает и ведать не ведает, что всего через несколько месяцев она сделается легкой добычей новой большевистской власти. Эта самозваная власть не будет останавливаться ни перед чем. Все моральные преграды отброшены раз и навсегда. И само собой, предводители революционной Смуты безошибочно оценят ситуацию: для массовых гонений на Церковь в России созрели все условия. Новая власть воспользуется этим сполна, она возглавит гонения, придаст им новый масштаб и многократно усилит напор зла.
Богоборческая стихия в массе православного народа проявилась в разгар очередной русской Смуты. Это время саморазрушения, время ярости и злобы. Когда легко отбрасываются разом все запреты: религиозные, нравственные, культурные. По сути, всё это мало схоже с европейской революцией, в том числе с Великой Французской революцией, во время которой тоже пролилось немало крови. События начала ХХ века в России следует осмыслять как Смуту и не называть эти события Великой Российской революцией, как называют их авторы новой концепции единого учебника истории.
Если отбросить отшлифованную большевистской идеологией схему трех революций, а посмотреть, что же на самом деле происходило в России в начале XX века, то станет очевидно, что это была именно Смута. Ни события 1905 года, ни октябрьский переворот 1917 года ни по каким признакам нельзя считать революцией. С большой натяжкой можно назвать революцией то, что произошло в Петрограде в феврале—марте 1917, но и эти события включены в иной культурный контекст.
Нелепо называть большевиков интеллигентами
Во время русской Смуты власть всегда достаётся самозванцам, вокруг которых формируется самозванческая элита. Если мы отнесемся к большевикам именно как к самозванцам, как к заводчикам и предводителям русской Смуты, сможем избежать другой ошибки — знака равенства между большевиками и интеллигенцией. Это разные явления, за которыми стоят разные исторические и культурные реалии.
Вкусовые предпочтения, аргументы — нравится, не нравится — должны быть решительно отброшены. У интеллигенции достаточно своих бед и напастей. Для неё, к примеру, характерна беспочвенность, то есть непонимание, незнание своей страны и народной жизни, об улучшении которой она, интеллигенция, страстно мечтает. Ее роль в изоляции русской элиты, в дискредитации верховной власти и, в конечном счёте, в крушении исторической России несомненна. Но ее роль в судьбе русской Церкви ХХ века не сводима к роли большевиков. Московские и петроградские церковные общины, в 20-е годы особенно многолюдные, состояли почти сплошь из интеллигенции.
Что же касается первого большевистского правительства, ЧК, продотрядов и отрядов по борьбе с дезертирством, то в этой массе самозванческой элиты интеллигенции места не было. Разумеется, какая-то часть «природных» русских интеллигентов оказалась среди большевиков. Но говорить, что Каганович, не закончивший ни одного класса, или Сталин, или тот же Дзержинский — интеллигенты, невозможно, нелепо. Русских интеллигентов мы найдём, скорее, в противоположном лагере, в Белом движении. Будущие белые генералы — Деникин, Корнилов, даже Алексеев — по своей психологии были русскими интеллигентами. В феврале они все ходили с красными бантами — им казалось, что сейчас начнется русский золотой век, будут решены все проблемы русской жизни.
Но ни генералы, ни офицеры, ни кадеты во главе с Милюковым не пошли потом в сотрудники ЧК. Говоря о большевиках как об интеллигентах, мы подменяем понятия. Офицер или генерал, равно как и любой другой носитель интеллигентского сознания, мог пойти к большевикам и участвовать в их безобразиях, но делая такой выбор, он перерождался. Вчерашний интеллигент становился частью самозванческой элиты, человеком, способным на предательство, на постоянную ложь, на любое насилие, убийство. Он должен был организовывать и принимать непосредственное участие в гонениях на Церковь. И одновременно — в гонениях на интеллигенцию. Ибо интеллигенция, как часть исторической России, тоже подлежала уничтожению.
На примере Блока видно, до какого момента интеллигент готов идти по этой дороге, дороге разрушения «старого мира». Он, интеллигент, конечно, может написать статью «Интеллигенция и революция», может написать и более страшные вещи («Пальнём-ка пулей в Святую Русь»), но как только увидит кровь, попрание свободы, справедливости и любого человеческого начала, он в ужасе останавливается и уходит. Далее его судьба может сложиться по-разному, Белое движение, как мы говорили, в значительной степени состояло из интеллигентов.
«Уголовная часть интеллигенции» — абсурдное определение
Федор Гайда называет большевиков уголовной частью интеллигенции, но это вообще абсурдное определение. У интеллигенции нет и не может быть уголовной части. Это самозванческая элита рекрутирует своих деятелей из криминальной среды. Сращение криминала и власти — важнейший признак Смуты, большевики проявили его необычайно ярко. Вместе с тем, никакой культурный, социальный и духовный статус не дается человеку навечно. Наш брат православный тоже пребывает в разных духовных состояниях: после причастия он почти святой, а прошло несколько дней, глядишь — опять окаянный грешник. А может вообще потерять веру и уйти из Церкви, всякое бывает.
Безусловно, кто-то из интеллигенции мог оказаться в уголовной среде, принять её понятия и правила игры. Но тогда он просто перестает быть интеллигентом. Надо это понимать, а не морочить голову себе и другим, придумывая такие невероятные, фантастические явления, как «уголовная часть интеллигенции», которые не проясняют, а, наоборот, ещё больше запутывают наше историческое сознание. Иначе мы никогда не поймем действительно важных и насущных вещей. Не поймём природу большевистской власти, не поймём, как эта власть возникла, почему смогла утвердиться, как она продержалась целых 70 лет. Если бы большевики были интеллигентами, их власть закончилась бы самое позднее летом 1918 года. И уж, конечно, интеллигенция не способна была на реальный красный террор.
«Народ ни при чем» — народолюбческий миф
Но больше всего в рассуждениях Федора Гайды вызывают протест слова не об интеллигенции, а о народе. Уважаемый историк утверждает, что народ стоял в стороне от гонений на веру и Церковь Христову. Удивительное мнение, которое я могу объяснить только проявлением того, что Иван Бунин называл народолюбчеством. Тоже, между прочим, интеллигентская традиция — видеть народ в радужном свете, считать, что он всегда прав, безгрешен, прекрасен, а власть ужасна и всегда только мучает народ, эксплуатирует его. Вообще говоря, типичный пример упрощённого, черно-белого восприятия исторической картины.
Ни с духовной, ни с исторической точки зрения такое мнение не выдерживает никакой критики. Как я уже сказал, есть факты, что гонения на Церковь в народной среде начались до того, как большевики пришли к власти. Всё это зафиксировано в многочисленных посланиях епархиальных архиереев Собору 1917–1918 года, где перечисляются конкретные случаи разграбления церквей, убийства священников, посягательства на монастырское имущество.
Началось это еще весной 1917 года. Как только охваченная Смутой масса узнала о падении царской власти, исчезли последние скрепы, после чего православный народ невозможно стало узнать. Недаром образованная тем же Собором Комиссия по гонениям в своём докладе ставила вопрос так: «А народ-то наш православный, верующий?… Имеем ли право и теперь, после того, что произошло и происходит, верить и утверждать, что православный народ наш верит в Бога?».
Конечно, это не значит, что весь народ впал в богоборчество, в отрицание Христа. Народ разделился, поляризовался. Значительная его часть приняла Смуту, а затем, соблазнившись большевистской утопией, принялась строить массовое атеистическое общество. Смута создала для этого все условия. Но осталось малое стадо, Церковь верных, и это тоже народ. Точнее, только здесь и сохранился народ, который пошел по пути исповедничества, мученичества. Одно другого не исключает. Но стоять в стороне тогда было невозможно.
Этот подход мало того, что ошибочен. Он привносит ложное представление о народе, принижает и умаляет его. Получается, что огромный народ, который создал одну из мировых цивилизаций, стоит в стороне, когда горстка интеллигентов мордует его веру, его пастырей и вообще решает за него его судьбу. Такой народ ни за что сам не отвечает. Он не причастен к своему падению. И, следовательно, восстание (в смысле, возрождение) для него тоже невозможно.
Так в чем же причины гонений?
Каковы же на самом деле причины гонений на Церковь, и почему народ принял в них активное участие? Тут надо указать на несколько вещей. О первой я уже сказал. Это смута — наша хроническая национальная болезнь. Причем болезнь эта не социальная, не экономическая… В начале XX века, когда эта болезнь обострилась до крайности, экономическое положение России было на редкость благополучным, страна демонстрировала впечатляющие успехи в хозяйстве и разнообразных отраслях материального производства. Эдакий русский парадокс — дела идут хорошо, но русский мир обречен. Он стоит на пороге самоуничтожения, и все, по крайней мере, многие это понимают. «Россия на краю пропасти. Каждая минута дорога. Все это чувствуют и задают вопросы: что делать? Ответа нет», — записал историк Ключевский весной 1898 года.
А в 1902 году всё уже началось (не в 1905, не в 1917, нет, — в 1902!). В этом году в деревне зафиксированы первые так называемые «грабижки». Крестьянство начинает изгонять помещиков, открыто поднимается на «белую кость», грабит и разоряет помещичьи усадьбы. К 1905 году Смута становится явлением национального масштаба — горят и подвергаются разгрому сотни, тысячи усадеб.
Что могло этому помешать, что могло удержать стихию разрушения от необратимых последствий? По большому счёту, только духовное просвещение народа. Однако по этому пути Россия не пошла. Этот путь был отвергнут как разрушительный(!), как посягающий на основы народной веры. Такова была позиция главы духовного ведомства обер-прокурора Синода К. Победоносцева.
Что же представляла собой «народная вера» во второй половине ХIХ века, точнее, каковы были её издержки? Тут достаточно вспомнить так называемые «запойные дни», в которые превращались в деревне все великие и двунадесятые христианские праздники. Об этом бедствии знали все, его отмечали в своих записках сельские священники, о нём писали писатели. «Завтра после обедни, зелено вино в ратоборство со святою водою вступает… Много всякого греха будет», — написал об этой проблеме один хороший русский писатель.
Противостоять этим тяжелым обстоятельствам мог только очень сильный человек. Имеющий поистине необыкновенный дар — живую личную веру. До революции такие священники, конечно же, были, и в деревне, и в городе. Они вопреки всему учили, проповедовали, наставляли… Можно вспомнить известного пастыря отца Георгия Коссова из Орловской губернии, у которого окормлялась огромная паства, который в глухом селе построил каменный храм, школу, приют, больницу. Увы, таких пастырей, было, конечно, немного, единицы.
И тут приходится говорить ещё об одной церковной проблеме, — о месте священника в крестьянском мире, о его статусе, в том числе и чисто материальном. В большинстве случаев это просто нищий человек, целиком и полностью зависимый от общины, от мира. Рассказ Чехова «Кошмар», герой которого, униженный голодный священник, думающий только о еде, — не выдумка писателя. Так это и было в большинстве русских сел, где к священнику привычно относились не столько как к пастырю, сколько как к требоисполнителю. При таких обстоятельствах религиозный срыв русского крестьянства был практически неизбежен.
И, наконец, последнее, — об отношении народа к государству, к его институтам, к бюрократии. Судя по всему, в новое время простой народ плохо представлял себе имперские идеалы и задачи. Патриотическое сознание крестьянина видело в государстве, точнее, в царстве хранителя народной жизни, а к царю относилось религиозно, как к помазаннику Божию. За царя, царство и землю Русскую солдат, вчерашний крестьянин, идя в бой, готов был жертвовать своей жизнью. Когда к началу ХХ века этот комплекс благоговейных чувств распался, дала трещину солдатская верность. Русско-японская и особенно Первая мировая война обнаружила очевидный упадок национального духа.
Таковы были последствия во многом неудачной европеизации XVIII века. Глубочайший культурный раскол отделил народ от элиты и власти. Это не проявление классового сознания, на чём настаивали большевики, Дело именно в культуре, в отсутствии общей почвы для единодушия. Власть предержащие относились к другому, чуждому, европеизированному миру, непонятному простым людям. Попытки преодолеть этот трагический раскол предпринимались, но проблема осталась нерешённой.
Федор Гайда говорит о традиционной для Православия включенности Церкви в имперскую жизнь. Эта тема привычно будоражит интеллигентское сознание. Народ же относился к этому спокойно, точнее — никак. Протест появлялся только в ответ на попытку оцерковления жизни. А так в русской истории поставил вопрос только один человек — Патриарх Никон. Но вот что интересно — даже тогда, в эпоху церковного раскола русский человек предпочёл остаться с государством, царством. Он всегда, несмотря ни на что, считал это государство своим. Нес колоссальное бремя русской государственности, все тяготы государственной, военной службы. Иначе Россия не имела бы пространство в одну шестую часть суши.
Создание Империи, несомненно, гипертрофировало отношения государства и Церкви. Издержки Синодального периода всем хорошо известны. Наверное, если бы Церковь занимала иное место в русской жизни, процесс секуляризации, развивавшийся с ХVII века, не приобрёл бы столь уродливые формы. Наверное, на культурный раскол следовало обратить самое пристальное внимание как минимум ещё в начале ХIХ века. Наверное, нужно было активнее подхватить пушкинский опыт национального самопознания и найти «другую мысль» и «другую формулу» для истории России.
Всё так! Только это ни на минуту не снимает ни с народа, ни с каждого христианина бремя личной ответственности. После всех катаклизмов ХХ века от России осталось очень мало. И одновременно — бесконечно много. У нас есть тысячи, может быть, десятки тысяч исповедников и новомучеников. Они, возвысившись до Голгофы, одолели все наши национальные беды и пороки. Одолели Смуту. И остались христианами в аду богоборческой советской эпохи.
От нас же требуется как минимум только одно: не затемнять этот подвиг незрелыми историческими штудиями.
Записал Леонид Виноградов