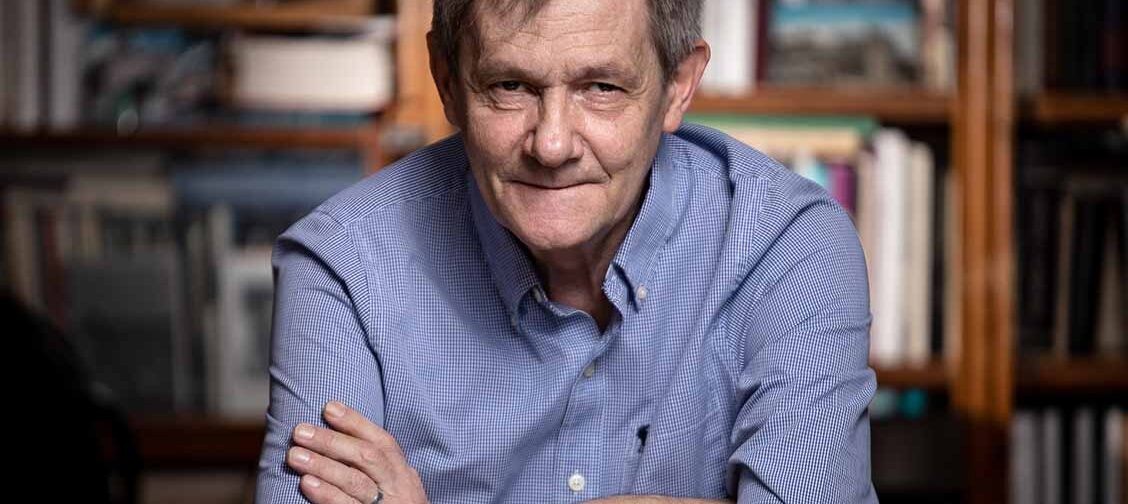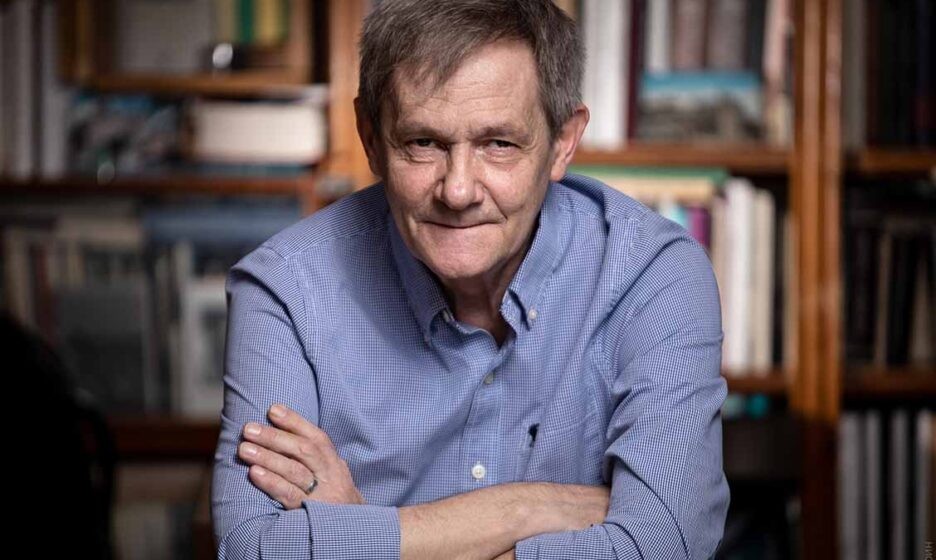
Константин Михайлович Поливанов — литературовед, профессор Высшей школы экономики, руководитель магистерской программы «Современная филология в преподавании литературы в школе», преподаватель литературы в школе № 1500. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, защитил докторскую диссертацию на тему «“Доктор Живаго” как исторический роман» в Тартуском университете.
Как провоцировать детей на вдумчивое чтение
— Вы работаете в одном из самых престижных университетов страны. Вот сидит несчастный школьник с родителями перед компьютером, смотрит проходные баллы и думает: «В такие вузы вообще реально поступить, если ты не гений и не миллионер?»
— Видимо, не очень (смеется). Нет, ну как вам сказать… Есть люди, которые действительно сдают ЕГЭ на 298 баллов. Есть путь через олимпиаду школьников, которую мы сами проводим, и соответствующую Всероссийскую, победителей которой мы тоже принимаем без конкурса. Цена платного образования безумно высока, но здесь существует взаимная хитрость: ВШЭ предоставляет значительную скидку, и на первом курсе получить ее довольно легко, а дальше уже сложнее. Это все равно дорого, но уже не миллионы.
На мой взгляд, победители олимпиад не гении, а просто люди, которые к 11-му классу действительно готовы вдумчиво заниматься своим предметом. Сочинение призеров — это не что-то умопомрачительное, а то, чего, вообще говоря, ждешь от почти любого выпускника в 11-м классе. Литература и русский — это не сложные ЕГЭ. Русский легко сдается на 95. Литература… в литературе существует, увы, некоторый дисбаланс объективности и субъективности.
— Как человек, который два раза сдавал литературу, я это понимаю. И не могу сказать, что во второй раз я была готова гораздо лучше, чем в первый.
— Много лет я работал на наших подготовительных курсах, и всегда те, кто получал меньше баллов, чем хотелось бы, присылали мне сканы своих работ и просили проконсультировать, чтобы подать апелляцию. Был такой довольно выразительный пример. Среди работ, оцененных очень низко, что-то вроде 68 баллов, на мой взгляд, две претендовали почти на 100. Я с коллегами написал подробный разбор. Обе девушки подали апелляцию в разных местах Москвы. Одна поднялась под 90, а другой не изменили ни балла. Лотерея в какой-то степени… Вообще говоря, жизнь тоже состоит из лотерей.

Константин Поливанов
— Чтобы подготовиться к ЕГЭ, нужен хороший учебник. Вы написали свой. Чем плохи предыдущие 100500?
— Понимаете, по поводу учебника у меня как раз большие сомнения в том, что он особенно нужен. Настоящий учитель литературы преподает без учебника. Да, разумеется, когда школьник пропустил неделю-две, ему надо каким-то образом наверстать материал. И лучше иметь хороший учебник, чем плохой. Когда мы с моей коллегой Евгенией Семеновной Абелюк принялись его писать, нам казалось, что другие авторы просто не очень умеют это делать.
— Структура у вас не новая. Сначала краткий очерк эпохи и литературного процесса, потом биография автора, творческий путь и анализ произведений. Выходит, важен авторский взгляд на текст. Я права?
— Разумеется. Но это анализ не только авторский и даже не только построенный на опыте сугубо современной филологии. Он сочетает подходы к текстам от XIX века до наших дней. Наша установка с первых шагов — стараться не давать готовых ответов (хотя они в каком-то количестве должны присутствовать в любом учебнике), а показывать пути для размышления и сопоставления. Такого, по-моему, и сейчас почти нет. За последние три-четыре года я не особо слежу за ситуацией, но не думаю, что принципиально что-то изменилось.
Понимаете, у учителя никогда не бывает много времени. Поэтому учебник — вещь, которая нужна больше для учителя, чем для школьника.
Он помогает быстро что-то освежить в памяти или узнать то, чего раньше не знал. А дальше все равно любой урок — это все-таки импровизация. Ты не знаешь, куда заведет мысль. Мое ощущение, что у нас получилось сделать учебник, который не столько дает готовые ответы, сколько провоцирует на абсолютно самостоятельное мышление.
— А расскажите про такие провокации на уроке.
— Кто-то начинает буквально с 5-го класса провоцировать детей, чтобы они, исходя из отдельных слов и строчек, выдавали сперва эмоциональное восприятие, а потом на это накручивали общее содержание, общее устройство. Думаю, что мне это тоже иногда удается.
Я заставляю вспоминать тексты, которые они читали прежде, где можно найти параллели. Очень важно наслаивать материал, как при катании снежного кома. Мы с вами сегодня обсудили «Онегина», а дальше будем до 11-го класса по разным поводам про него вспоминать, зайдет ли речь про Блока, Пастернака или Солженицына. Мне кажется, то, чему я все-таки умею научить, — это чтение текста через такую многослойную призму.
— Многослойная призма — это хорошо, когда все в классе читают. Но вот четыре тома «Войны и мира», «Преступление и наказание» и дальше по списку. Вы говорили, что если принуждать ребенка к чтению, то неизбежно рушатся эмоциональные связи между ним и учителем. Как их сохранить и при этом ненавязчиво заставить прочитать роман?
— Ну как… Разумеется, навязчиво! Но это должно строиться на доверии к учителю.
Я начал преподавать в школе в 1993 году. И когда мне говорили, что современные школьники ничего не читают и не знают, я был склонен не соглашаться, но это было вызвано рядом специфических обстоятельств. Во-первых, я пришел не в стандартную школу, а в лицей на Воробьевых горах, куда поступали дети, которые хотели заниматься литературой.

Во-вторых, они проходили через совершенно замечательный курс «пропедевтики». В 8-м классе моя коллега их серьезнейшим образом дрессировала по древнерусской литературе. После этого преподавать в 9–11-м классах было легко: у меня возникало ощущение, что даже и «Войну и мир» в конечном итоге читают почти все.
К тому же, пока мы читали с ними небольшие вещи — тексты XVIII века, а потом «Капитанскую дочку», «Онегина», «Героя нашего времени», стихи, — я бы сказал, что у них появлялось ко мне некоторое доверие. Они знали, что если прочтут за лето «Войну и мир», то им будет интересно на моих уроках. А вот несколько лет назад была ситуация, когда я начал вести литературу в двух 10-х классах: в одном я работал с 9-го, а другой был свеженабранный, и большая его часть к «Войне и миру» не прикасалась. Удалось ли мне их спровоцировать с этим текстом всерьез познакомиться? Да, удалось. Ну да, это требует…
— Я поняла, «не читки требует с актера».
— Точно! Попытки честно одолеть по крайней мере первый том предприняли практически все. И как это ни грустно, можно ведь и на примере первого тома, если он действительно прочитан, многое увидеть.
Татьяна все знает про Онегина и без соцсетей
— Учителя на уроках литературы пытаются детям говорить про литературоведение, а они часто в ответ — про жизнь. Например, какая Наташа Ростова дура или как Татьяна Ларина могла влюбиться в Онегина, не видя его посты в соцсетях. У вас такое бывает? Что делаете?
— Здесь нужно задуматься, чем занимается учитель с детьми с 5-го класса. Простой пример. Сегодняшнему читателю, тем более неподготовленному, совершенно непонятно, в чем проблемы Анны Карениной, Вронского и ее мужа. Но есть очень простой способ. Надо вовремя читать «Дубровского»! Это короткая, увлекательная, ясная вещь. И после того, как вы прочитаете — ну только действительно прочитаете, а не посмотрите наискосок краткое содержание, — у вас не возникнет идей о том, что все должно быть так же, как в наши дни.
Да, в соцсетях ничего про Онегина нельзя было посмотреть. Но, вообще говоря, социальные сети вполне заменяли слухи. Татьяна что пишет? «Но говорят, вы нелюдим…» Она про него много чего знает без всяких соцсетей! Поэтому главное, что должен школьник делать на уроках литературы, — задавать вопросы по тексту.
— Вот когда вы так выкладываетесь, рассказываете на уроках одно-второе-третье, а потом выпускники лицея, допустим, поступают не на филологию. Вас это не огорчает?
— Я бы сказал, что меня немножко огорчает, когда мои студенты выбирают филологию и вдруг начинают заниматься чем-то совсем далеким от моих интересов. А когда идут на другие специальности, огорчает только то, что в последнем классе у них практически нет времени на литературу, но это факт современной жизни. Я бы так сказал: меня это вообще не огорчало, пока баллы ЕГЭ не стали требоваться такие заоблачные.
Теперь у меня глубокое убеждение, что школьник в 11-м классе, если он не собирается сдавать ЕГЭ по литературе, с неизбежностью литературой пренебрегает — ему нужно выжать максимум по другим предметам.
Поэтому с десятиклассниками всегда гораздо живее получается вести урок, здесь еще можно заинтересовать.
— Как преподаватель, который работает и со школьниками, и со студентами, можете сказать, с кем вам проще и почему?
— Вы знаете, это очень разные вещи. С кем-то из студентов получается уже гораздо больше, чем со школьниками, в силу их профессиональной подготовки. Но все-таки в школе есть возможность говорить о произведениях гораздо подробнее. До 11-го класса я себе позволяю вообще ни на что не оглядываться.
Например, мы можем потратить один урок на Салтыкова-Щедрина и быстро, почти что в лекционном жанре провести «Грозу», если у нас получился длинным диалог о «Преступлении и наказании». В университете этой возможности ты лишен. Выпустить студентов-филологов, которые ничего не слышали о каком-то произведении, — это все-таки безответственность.

— Можно ли научить человека преподавать?
— Думаю, что нет. Наверное, всякие удобные средства, которые помогают оценивать ответы, расшевеливать интерактивность, так или иначе работают: вооружить человека и знаниями, и умениями общаться с аудиторией можно. А дальше все-таки либо получается, либо нет.
Я помню, как лет 17 тому назад мы с Сергеем Владимировичем Волковым были на коллегии министерства, где обсуждался очередной стандарт по литературному образованию. Он поднялся и сказал: «А что мы будем с вами разговаривать? Вы нас все равно не поймете. Здесь сидят те, у кого в школе не получилось».
«Что это за барство?»
— Как вышло, что вы, сын крупного советского физика, стали филологом?
— Мой отец выбирал себе профессию в 1949 году. Это мрачнейший период советской истории вообще: степень несвободы любого гуманитарного знания на тот момент была гораздо больше, чем даже в конце 30-х. Да, тогда же в филологию пришли люди, составившие потом славу этой науки, — Гаспаров, Аверинцев, Чудаков, Зализняк, Иванов, Топоров. Большинство из них, если не все, на тот момент резкого неприятия режима не испытывали. Но это, разумеется, не значит, что они были верными сталинистами и были готовы писать доносы на соседей.
У моего отца враждебность этой идеологии была ощутима, поэтому он выбрал не историю и не литературу, а точные науки. Но дальше на протяжении многих лет его интересы часто были связаны с сугубо гуманитарными вещами, он участвовал в подготовке первого относительно полного собрания стихотворений Пастернака в 1965-м. Он, например, опубликовал свои воспоминания о Надежде Мандельштам, о Пастернаке, написал о нем статью. Отчасти этим были спровоцированы и мои собственные интересы. Хотя, наверное, в большей степени меня привлекла научная филологическая жизнь моей тети и ее мужа.

— Поливановы — древний род, который уходит корнями в XIV век. Дворянское происхождение как-то отзывается в крови?
— Ну бросьте, какое дворянское происхождение (смеется)! Расскажу семейный анекдот. Моя прабабушка выговаривала отцу и дяде за то, что они бросают на пол конфетные бумажки: «Что это такое, что это за барство? Вот ваш дед был настоящий демократ». Понимаете, вот не знаю. Наверное, это существенно для моих общих представлений об устройстве истории. Да, интересно, когда род возводится к татарскому воину XIV века, перешедшему на службу к Дмитрию Донскому. Но это очень типовая основа дворянских родословных, они все восходят или к литовцам, или к татарам.
Мне более интересна даже не дворянская линия. Вот в Нижнем Новгороде есть знаменитая Чкаловская лестница, ее построил троюродный брат моего деда — известнейший архитектор, которому принадлежит половина зданий в Нижнем Новгороде 30–40-х годов. Причем дед про него толком ничего не знал, это выяснилось только сейчас.
— А правда, что Густав Шпет, ваш прадед, преподавал в гимназии, где училась будущая Ахматова? Сохранились какие-то семейные воспоминания?
— Семейных воспоминаний не сохранилось, зато есть воспоминание одноклассницы Ахматовой. Шпет спросил, где в современной поэзии для отвлеченных предметов подбираются материальные конкретные метафоры, а Ахматова ему процитировала Брюсова: «Столетия — фонарики! о, сколько вас во тьме».
— Вы и с Борисом Пастернаком в родстве. Ваша двоюродная тетя — жена Евгения Борисовича. То, что вы исследуете «Доктора Живаго» и вообще занимаетесь литературой ХХ века, — это семейный долг? Чем вам дорог именно этот период?
— Нет, здесь много разных причин. В университете я вообще учился на лингвистике, но мои склонности, видимо, были направлены к более филологическим вещам, поэтому диплом и все курсовые я писал у Никиты Ильича Толстого по материалам, которые извлекал из древнерусских книг.

А дальше сразу после университета я попал в учреждение, которое не могло мне выдать отношение в рукописный отдел Ленинской библиотеки. Я спросил, а кто бы мог. «Ну вот сходи в “Энциклопедию”». Я пошел и там познакомился с Константином Михайловичем Черным, редактором отдела ХХ века словаря «Русские писатели», он сказал: «А не хотите попробовать что-нибудь написать для нас?»
И я этим серьезно увлекся. А дальше, когда стало возможным публиковать гораздо больше разных материалов, тяжело заболел Евгений Борисович, и на год с лишним фактически из публикационной активности выпал не только он, но и ухаживавшая за ним Елена Владимировна, его жена. Они меня попросили подготовить сначала одну публикацию, потом другую, потом я участвовал в издании пятитомника Бориса Пастернака. А дальше получилось, что Пастернак превратился в главный предмет моих занятий.
Удалиться от жизни и носить дрова
— На лекциях по литературе ХХ века в каком ключе вы рассказываете студентам о революции 1917 года? Как вы вообще к ней относитесь?
— Это трагическая катастрофа, несомненно. Страшный разлом, который, наверное, все-таки был неизбежен. В особенности после того, как Россия вступила в войну 1914 года, страна была переполнена вооруженными дезертирами с фронта. Большевики сделали все, что можно было сделать для усиления самых анархических начал, а дальше сумели это обуздать и выстроить железное государство. Поэтому, конечно, величайшая катастрофа, как и любая подобная революция. И через сто с лишним лет не можем вполне прийти в себя.

— Вы говорили, что ваши исследования «Доктора Живаго» странным образом не теряют своей актуальности сегодня. Почему?
— Я думаю, что Живаго обладает — говоря примитивным языком — определенной позицией относительно участия в окружающих его событиях, которые совершенно явно перекликаются с событиями наших дней. Да, у нас нет войны, но общественного противостояния и радикализации его точек более чем достаточно. Одним из уроков этого романа может быть как раз сомнение в возможности искать правду в радикальных решениях как с одной, так и с другой стороны.
Еще важно то, как Живаго восхищенно переживает исторический слом, который буквально через несколько месяцев оборачивается сначала сверхтрудностями, а дальше приводит к разочарованию. Нет, я, наверное, не могу сказать, что всем нужно маргинализироваться, как Живаго, ни в чем не участвовать и носить дрова. Но то, что такой путь внутри социальной жизни тоже есть, полезно себе представлять.
— Тогда хочу задать вам тот же вопрос, который задает Толстой в вашей любимой «Войне и мире». Кто управляет историей: личность или народ?
— Ну подождите, Толстой не задает вопрос, а прямо отвечает, что никакая личность историю определить не может. И он осознанно выбрал эпоху Наполеона, потому что про любую другую с ним бы еще могли согласиться.
Ну уж Наполеон-то точно вершил историю! А нет!
Толстой вот изо всех сил от первой до последней страницы доказывает, что Наполеон просто человек в сером сюртуке.
— Да с Толстым ясно все. А вы как считаете?
— Думаю, что в конечном итоге он прав. Наиболее прямолинейно и в то же время метафорически это выражено во сне Пьера с капельками, которые сливаются — и каждая стремится отразить Бога. Мне кажется, что это и есть закон устройства человеческой истории, Толстой действительно его понимает.

— Раз уж заговорили про романы-эпопеи… Вы не любите «Тихий Дон» и считаете, что читать его в школе не обязательно. Ваш коллега Лев Соболев разрешает читать этот роман в кратком содержании. А Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов. — Примеч. ред.) говорит, что первые два тома — не очень, зато последние — мощные. Вы все меня запутали. Что не так с «Тихим Доном»?
— Вероника, у меня твердое ощущение, что как раз третий и четвертый тома просто никуда не годятся! Понимаете, кроме всего прочего 30-е годы для Шолохова были очень страшными. Он делал все, что мог, для помощи людям вокруг, ему многое удавалось. А дальше, простите, он просто страшно пил — думаю, на фоне того ужаса, в который он пытался вмешиваться. Скорее всего, это на него повлияло. А может быть, он просто очень торопился. Или над первым томом много работали редакторы, а над последними — нет.
— Начало «Тихого Дона» воспринимается как живой текст.
— Вот именно, там яркая казацкая жизнь. Мне не очень нравится, но тем не менее. В третьем и четвертом томах все перепутано! И это нестыковки не толстовского уровня. Любому писателю, создавшему такого размера произведение, не удастся избежать ошибок, но здесь это просто производит впечатление неряшливости.
Собственно, моя главная претензия к включению «Тихого Дона» в школьную программу состоит в другом.
В 11-м классе рассчитывать на то, что кто-то, кроме сдающих ЕГЭ, прочтет этот роман, просто неразумно. Уж если они «Войну и мир» не прочитали, то какой тут «Тихий Дон»?
Я не любитель этой книги, в том числе и ее яркости — в ней проглядывает некоторая неумелость. Хотя по большому счету вторая половина «Тихого Дона» важна. Не то чтобы до Шолохова никто этого не увидел, но Шолохов это показал прямо, однозначно и страшно: гражданская война — время, когда ты оказываешься не на той стороне, которой симпатизируешь. Григорий по всему должен быть с красными, однако он не просто выброшен красными к белым, у белых он становится жестоким человеком. Этот ужас гражданской войны — прямой результат революции, что одинаково понимали и Булгаков, и Шолохов, и Пастернак.
Отец читал стихи на похоронах Пастернака
— Что вы думаете о Нобелевских премиях Пастернака и Шолохова?
— Мне трудно быть объективным, отказавшись от идеологизированности этой оценки. Пастернак выдвигался на премию с 1946 года. К 58-му году, когда они оказались соперниками, Шолохов выдвигался в третий раз. Первый был сугубо номенклатурным. Сергеев-Ценский обратился в ЦК с вопросом, кого выдвинуть, ему сказали: «Выдвигай Шолохова». Но дальше его выдвигали сами шведы, и в этом есть большая логика.

Я бы сказал, что Швеция — страна победившего социализма. Шведские пенсионеры получают пенсию, на которую могут путешествовать по всему миру, шведские налоги одни из самых больших, но на эти налоги устроена вся социальная сфера, и это результат ровно того, что социалистические партии играли там очень большую роль, начиная с 40-х годов. А из-за железного занавеса им казалось, что СССР — это источник социализма и справедливости.
— То есть здесь только политика?
— И да, и нет. Шолохова переводили на скандинавские языки. Кажется, и «Тихий Дон» распространялся не только через советское посольство. Хотя оно изо всех сил поддерживало популярность Шолохова, государство специально выделяло деньги на его турне по Скандинавии, отправляло распоряжения прославлять Шолохова через дружественных журналистов.
— А в случае с Пастернаком?
— Вот тут вопрос. То, что слава романа оказалась решающей при выборе кандидатуры Пастернака, думаю, верно. Слава заключается не только в том, что «Доктор Живаго» политизирован. Он как раз мало политизирован. Когда роман впервые напечатали через тридцать лет в СССР, все удивились, почему его называли антисоветским. У людей очень короткая память, они просто забыли, что тогда не могло быть никаких разговоров о религиозных сюжетах.
Политические сюжеты из «Живаго» можно вырезать, а без религиозных, простите, от романа ничего не останется.
Думаю, не случайно Пастернак отдает его одновременно и в Польшу, и в Болгарию, и в Италию. Он обращается не только к русскому, но и к европейскому читателю. В Европе его прочли, в Италии роман действительно стал событием культурной жизни. Как вам сказать, это политическое обстоятельство? Нет, в общем, обстоятельство восприятия Пастернака аудиторией за пределами его страны. Это не значит, что у Шолохова такого не было, но советские инстанции в одном случае прикладывали много дополнительных усилий, а в другом категорически препятствовали.

— Вот воспоминание о похоронах Пастернака. «Чтец Голубенцев читает “О, если б знал, что так бывает…”. И другой, незнакомый мне, совсем юный и искренний голос читает до сих пор не напечатанного, но широко известного “Гамлета”. Трудно сделать выбор лучше». Это был ваш отец. Он рассказывал вам о том дне?
— Для него это не было каким-то демонстративным поступком. Для моего отца и многих людей его поколения «Доктор Живаго» стал некоторым учебником жизни и противостояния, источником обретения свободы. Для него не было никаких сомнений, идти или нет на похороны Пастернака.
А в ситуации, когда начинают создавать истерическую атмосферу и вот-вот дело дойдет до провокации или столкновения, нужно читать стихи. Что же еще делать над могилой поэта?
— А вы бы пошли на похороны Пастернака?
— Да, наверное.
— Михаил Леонович Гаспаров надеялся дожить до смерти, не перечитав «Доктора Живаго». Как вы думаете, почему?
— Михаил Леонович успел в жизни очень много, он был человеком фантастически продуктивным. К тому же он обладал очень хорошей памятью. Думаю, что ему хватило одного раза.
Но как-то на конференции, где выступала одна из самых интересных исследовательниц «Живаго», он внимательно слушал ее доклад. Более того, когда в институте мировой литературы в конце 80-х годов решили издавать академические собрания Мандельштама и Пастернака, их возглавил Гаспаров. За десять с лишним лет Пастернак стал для него очень важным поэтом.
Когда Михаил Леонович лежал в реанимации в своей последней больнице, у него рядом с кроватью на тумбочке я увидел стихи Пастернака и американскую книжку про «Сестру мою жизнь».

— Почему именно вы курируете подготовку посмертного собрания сочинений Гаспарова?
— Я думаю, Ирина Дмитриевна Прохорова решила, что у меня есть необходимые дипломатические умения, у членов редколлегии и у вдовы Михаила Леоновича Алевтины Михайловны Зотовой были далеко не во всем совпадавшие представления, как должно быть построено собрание сочинений. Мне, похоже, удается всех убеждать и находить согласованные решения.
— Первый том уже вышел, когда ждать остальные? Какие трудности есть?
— Единственные трудности могут быть, если мы впадем в тяжелый период кризиса, но пока что все идет достаточно хорошо. Второй том должен быть к концу мая – началу июня, третий точно выйдет до конца года. А всего их шесть. Первые два посвящены античности, третий — работам по русской поэзии, четвертый — по стиховедению, в пятом томе будут переводы, в последнем — интервью и «Записи и выписки».
Как вести себя, если оказался в заключении
— Ученики называют вас Котом. Вы знаете об этом?
— Ну кто же не знает! Это мое детское имя, унаследованное от деда, который тоже был Константином Михайловичем и которого друзья до старости называли Котом. А дальше кто-то из друзей меня так называл, и это с неизбежностью услышали школьники.
— Вы напоминаете им Харрисона Форда в «Индиане Джонс»: «Ему бы еще шляпу, и вообще не отличишь». Как думаете сами, вы на какого героя похожи и почему?
— Вот чего не знаю, того не знаю. Я избирательный кинозритель, в отличие от большинства своих ровесников не смотрю сериалы. Мои киновкусы в общем сформированы французскими комедиями 60–70-х годов, их и сейчас могу раз в полгода с удовольствием пересматривать.

— Смотреть не смотрите, а в «Жизни и судьбе» вместе с Маковецким, Балуевым и другими звездами снялись. Как вы там оказались?
— Даша Урсуляк была моей ученицей. Ее отец, когда меня увидел на наших лицейских мероприятиях, решил, что я ему подхожу в качестве типажа. Интересно было попробовать хотя бы и в крохотной роли в кино сняться, тем более сыграть арестованного поэта.
— Ваш герой в фильме читает стихотворение: «Из чего твой панцирь, черепаха? — /Я спросил и получил ответ: / — Он из мной накопленного страха — / Ничего прочнее в мире нет!» Что это значит?
— Знаете, занимаясь историей русской литературы ХХ века, невозможно не представлять себе, как бы ты вел себя, если бы оказался в заключении. Я думаю, что для людей этого времени страх был определяющим на много лет и на много поколений способом восприятия жизни.
— Тогда чего или кого, на ваш взгляд, в жизни стоит бояться?
— Если хотите, я в этом смысле фаталист. Не то чтобы с утра до вечера об этом думаю, но я разделяю представление, что ни один волос не упадет с головы без Божьей воли.
— Вы занимаетесь самым христианским романом ХХ века. «Доктор Живаго» — это, по сути, размышление Пастернака над вопросами жизни и смерти. Как вы для себя на них отвечаете?
— Я не строго церковный человек. Может быть, по легкомыслию. В церкви бываю редко, но церковь для меня — место важное, значимое.
— Значит, после смерти есть жизнь?
— А как может быть иначе?
Фото: Сергей Щедрин