«Лучшая операция — та, которую ты не сделал». Нейрохирург Матвей Лившиц

Упавшие с кровати и с большой высоты
— В ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года вы оперировали семимесячную девочку, которая упала с кровати и получила гематому. Скоро Новый год, уже составляются графики дежурств. Зимние каникулы как в больнице обычно проходят?
— Буднично — на рабочем месте в максимальной боевой готовности. Это день, ничем не отличающийся от остальных. Дежурящие в Новый год приносят с собой не обычную еду, а что-то покрасивее и повкуснее, но встретить Новый год — это не самоцель. Если забили куранты, но в этот момент звонят, условно, из реанимации и говорят, что поступил тяжелый ребенок, никто не будет спокойно доедать еду, любой врач пойдет к пациенту. Дома тоже к этому относятся спокойно. Наверное, моих близких: жену, детей, родителей — не радует, когда я в новогоднюю ночь на работе, но они знают, что с этим ничего поделать невозможно, это не предмет для конфликта.

Матвей Лившиц
— Падения у детей — обычная история, нередко они приводят к травмам головы, но не часто сопровождаются переломом черепа и формированием гематомы, как было у этого ребенка. Как таким детям помогают врачи? Есть ли шанс с подобной травмой выжить и не стать инвалидом?
— Большая часть детей выживает, инвалидами они становятся редко. Если диагноз поставили правильно, вовремя сделали операцию, большинство таких детей справляются с тяжелой черепно-мозговой травмой и возвращаются к обычной жизни и развитию.
— Даже с переломом черепа?
— Если не пострадал мозг, то да. Перелом черепа чуть-чуть утяжеляет сам диагноз, но мы объясняем родителям, что это не показатель того, что развитие нарушится. Прогноз зависит от травмы мозга. Если мозг пострадал тяжело, а такие ситуации тоже возможны, тогда прогноз будет плохой.
— 25-30 лет назад все было так же или именно благодаря современным технологиям и умениям врачи выводят пациентов из столь сложных ситуаций?
— Современные технологии делают результаты лечения более прогнозируемыми и улучшают исход любого заболевания. В целом, нейрохирургия травматических гематом головного мозга — одна из самых «пожилых» тем в нейрохирургии, наиболее разработанных.
Если все сделано вовремя и правильно, то обычно у детей есть шансы на полное восстановление.
Если вы такого ребенка встретите потом на улице, он внешне ничем вам в глаза не бросится. Но значение имеют возраст ребенка, объем гематомы, механизм получения травмы. Одно дело внутричерепная гематома у младенца, который упал с высоты 30 сантиметров: он, в основном, страдает от того, что сгустки крови, которые скопились между костями черепа и мозгом, давят на него. Другое дело, если гематома возникла у ребенка, упавшего со второго или третьего этажа.
Помимо гематомы на мозг еще воздействует сам факт падения с такой высоты. Травма с высоты 30 сантиметров не относится к разряду высокоэнергетических, есть такое понятие в медицине. При ДТП или падении с большой высоты уже другие закономерности. Этим во многом и определяется прогноз. Это будут совершенно разные пациенты — упавший с кровати и упавший с большой высоты.

— Центр детского инсульта при Морозовской больнице стал первым подобным центром в стране. Почему возникают инсульты у детей? Как часто? Какой прогноз по полному восстановлению?
— Инсульты делятся на два типа — ишемические, ими по большей степени занимаются неврологи. Они возникают из-за пороков развития сосудов головного мозга, несовершенства свертывания крови и текучих свойств крови. Полное восстановление зависит от возраста, обширности ишемического поражения. В целом, если брать большие статистические данные, которые публикуются в медицинской печати, до 60% детей, переживших ишемический инсульт, остаются инвалидизированными пациентами. Часть мозга у них так и не кровоснабжается.
Геморрагических инсультов (кровоизлияний в головной мозг) несколько меньше, чем ишемических инсультов.
Обычно они возникают из-за пороков развития в строении сосудов, участвующих в кровоснабжении головного мозга. Это ведущая причина, до 55-60% случаев связано с ними.
Еще 20% возникает из-за патологии свертывающей и противосвертывающей системы крови. У больных гемофилией кровоизлияний в головной мозг в 200 раз больше, чем у пациентов без гемофилии.
Есть пациенты, которые получают химиотерапию из-за злокачественных заболеваний. На фоне химиотерапии тоже могут снижаться различные факторы свертываемости крови, развивается ситуация, при которой может произойти кровоизлияние в головной мозг. Часть соматических болезней и какая-то часть заболеваний, которую мы пока выявить не смогли, тоже приводят к кровоизлиянию. У 10-15% детей причину развития кровоизлияний выявить не удается.

— В ваш центр инсульта могут попасть только москвичи?
— Мы стараемся никому не отказывать, хотя наша больница муниципальная. Кровоизлияние может произойти у ребенка, который находится в данный момент в Москве, но он не всегда москвич. Его по скорой или родители самотеком везут к нам. Когда кровоизлияние у ребенка случилось в каком-то отдаленном регионе России, с нами доктора выходят на связь, мы проводим ряд заочных или телемедицинских консультаций.
— Почему центр детского инсульта так важен?
— Потому что кто-то этой тяжелой и сложной патологией должен заниматься. В нашей больнице сегодня наилучшее, самое продвинутое оснащение, есть реаниматологи, неврологи, нейрохирурги, гематологи, эндокринологи, кардиологи, педиатры, врачи лабораторной диагностики, рентгенэндоваскулярные хирурги — все специалисты, которые могут помочь ребенку с инсультом. После выписки ребенку расписывают наблюдение, контрольные обследования, дают рекомендации, как предотвратить развитие эпилепсии, как с ней бороться, если она возникнет, и так далее.

Хирургией по эпилепсии
— Какие патологии головного мозга у детей наиболее распространены?
— Черепно-мозговые травмы, гидроцефалия, опухоли центральной нервной системы.
— Стало ли их больше?
— Патологий не стало больше, но улучшилась диагностика, их чаще выявляют, врачи стали более настороженны. Ведь до 70-х годов прошлого века не было компьютерной томографии — это открытие 1974 года. А до этого всю нейрохирургическую патологию определяли с помощью молоточка, потом ситуация кардинально поменялась.
— Что такое хирургия эпилепсии? Разве можно так лечить эту болезнь?
— Не только можно, но и нужно. Жаль, что часть пациентов об этом методе не знает, относится к нему, возможно, настороженно.
Часть людей, страдающих эпилепсией, никогда, ни в какой комбинации не ответят на медикаментозное лечение.
Ребенок будет принимать два, три, четыре препарата, но у него все равно будут возникать судороги.
— Но на хирургию он ответит?
— Если правильно провести диагностику. В нашей больнице целую лабораторию для этого создали. Отбор таких пациентов — в приоритете, но это очень тонкая и нередко долгая работа, с участием неврологов, эпилептологов, врачей-электрофизиологов, врачей лучевой диагностики. Когда все данные по пациенту совпадают — и клинические, и нейрофизиологические, и данные лучевой диагностики, и, если ребенок не чувствителен к приему противосудорожных препаратов, ставится вопрос о хирургии.
Потому что есть генетические формы эпилепсии. Тогда в голове у пациента много эпилептогенных очагов, неправильные разряды формируются в разных полушариях, разных зонах головного мозга. Тогда хирургия невозможна. Когда это одна зона, которую можно удалить или разрушить, тогда в операции есть смысл.
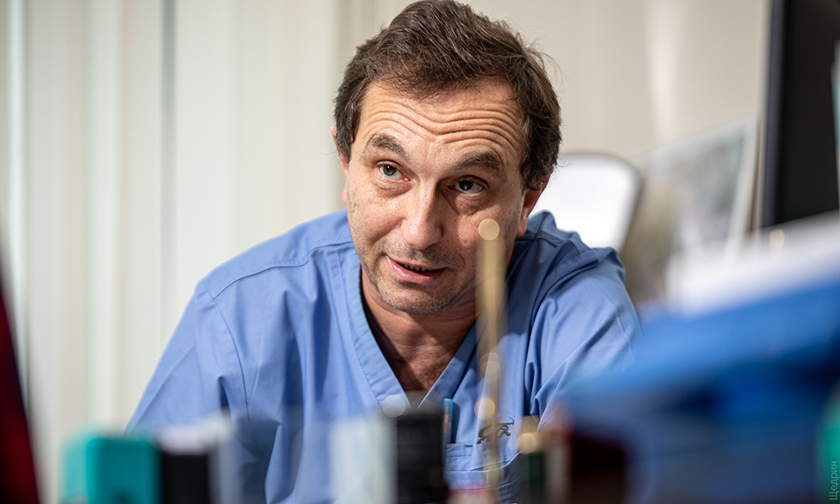
Смысл операции в том, чтобы или удалить полностью зону мозга, в которой начинаются судорожные разряды, или отсечь ее от остального мозга, чтобы этот судорожный разряд не передавался дальше на здоровый мозг.
Правильно отобранные для такой хирургии пациенты имеют очень хорошие результаты. У них уходят судороги, им не надо спустя некоторое время после операции пить лекарства.
Эти дети начинают догонять в развитии сверстников, потому что ежедневные судороги, особенно повторяющиеся многократно в течение суток, разрушали их до неузнаваемости.
Поэтому чем раньше такую операцию делают, тем лучше.
— Вы работаете с опухолями, сосудистыми заболеваниями головного мозга, кровоизлияниями, гидроцефалией и пороками развития центральной нервной системы. А встречались ли вам редчайшие в мировой практике патологии?
— Да. Например, в этом году у нас был ребенок с аневризмой внутренней сонной артерии, которая локализовалась в так называемом экстракраниальном отделе внутренней сонной артерии. Таких случаев у детей в литературе описано всего шесть, наш седьмой. Он пришел к нам уже с явлениями ишемического инсульта и нарушением кровотока по внутренней сонной артерии выше уровня аневризмы. Нам удалось эту аневризму полностью из кровотока выключить. И мы сделали так, что по этому сосуду, на котором эта аневризма располагалась, кровь больше не течет.

От сложных диагнозов к простым
— Случились ли в последние десятилетия такие открытия, что врачам хотелось кричать: «Ура! Эврика!»?
— В 1994 году на стажировке в Германии я впервые увидел нейронавигационную станцию. Тогда большинство нейрохирургов и даже наших преподавателей считали, что этот прибор очень еще далек от совершенства. И цифровые технологии не будут развиваться так быстро, чтобы можно было совместить цифровую модель головы пациента с реальной головой. Но это стало реальностью.
— В чем смысл нейронавигации?
— По данным КТ мы строим виртуальную модель, а во время операции совмещаем ее с настоящей головой пациента. У нас есть специальные устройства, которые позволяют проверить, правильно ли мы совместили настоящую голову с моделью. В 1994 году мы считали, что эта технология придет в реальную медицину еще очень нескоро. В 2009 году в Морозовской больнице уже был первый нейронавигационный прибор.
Аппараты КТ и МРТ сделали медицину принципиально другой. Это как токарь одну и ту же деталь может сделать вручную напильником, а может — на цифровом станке.
В нашей специальности происходит то же самое — цифровые технологии позволяют максимально бережно выполнять движения во время операций, мониторить зоны мозга. Это, конечно, влияет на качество послеоперационного периода и на качество жизни детей после выписки.
— А на продолжительность операции?
— Продолжительность операции — не самоцель. Внедрение технологий, с одной стороны, удлиняет операцию — пока вы все оборудование подготовите… Но уже во время самой операции безопасность выше, чем раньше. Сегодня безопасность анестезии очень высока, и фактически анестезиологи могут обеспечивать медикаментозное и анестезиологическое сопровождение столько, сколько это нужно хирургу. От этого зависит и качество послеоперационного периода.
— Поговорим об опухолях в голове. По сравнению с тем, что было 20-30 лет назад, смертность насколько уменьшилась?
— В десятки раз. Даже при очень сложных локализациях опухоли почти всех детей удается выходить после операции и химиотерапии, передать на лучевую терапию. Провести весь протокол лечения удается практически у всех детей. Другое дело, далеко не все опухоли чувствительны к лечению и у части детей после лечения возникают рецидивы. Но идет постоянный поиск новых средств, большая часть поиска сегодня сосредоточена именно в молекулярно-генетических характеристиках опухолей. Сегодня, кроме химиопрепаратов, у наших онкологов есть таргетные препараты — это новый класс лекарств, которые тоже призваны не допускать деления опухолевых клеток.

— Что действительно влияет на здоровье мозга и сосудов у детей и подростков?
— Если мы говорим о детях с врожденными пороками развития центральной нервной системы, то это сбои внутриутробного развития. Сосудистые заболевания головного мозга у детей чаще имеют врожденную причину. Здесь какую-то профилактику предложить трудно. Иногда сосудистые проблемы возникают из-за травм, и тут мы как родители можем обеспечить детям безопасную среду.
— Как распознать эти проблемы, на что обратить внимание?
— Как правило, это изменение поведения — беспокойство или вялость. У маленьких детей — опережающий рост окружности головы, головная боль, рвота, неожиданно появившееся косоглазие или жалобы на то, что ребенок плохо двигает головой, у него болит шея, голову клонит к одному плечу. Изменение осанки, походки, речи, почерка. На мой взгляд, когда родители ребенка или сам ребенок приходят с какими-то, может быть, неожиданными или вполне рутинными жалобами, надо начинать двигаться от самых сложных диагнозов в сторону простых. Часто в жизни бывает наоборот — мы как родители и доктора все время даем простые объяснения.
Существует ли хирургический Божий дар?
— За эти годы как изменился ваш график, из чего состоит ваш рабочий день сегодня?
— Из того же, что и состоял всегда: обход, операции, работа с докторами, обсуждение пациентов, консультации в других отделениях, работа с документами. Ничего не меняется. Утренний обход начинается в 7:45, а заканчивается рабочий день по необходимости, во сколько надо, во столько и заканчиваем.
Если есть пациенты, которыми надо заниматься, значит, ими надо заниматься, хотя на работу приходит дежурный доктор.
Считаю, что если кто-то из коллег нуждается в помощи, ему нельзя отказать.
— Как бы ты себя ни чувствовал?
— Я себя всегда хорошо чувствую, люблю свою работу, я ей ни одного дня не тяготился, мне комфортно.
— Кто и зачем сегодня приходит работать в медицину?
— Романтики. В нашем отделении нет докторов, которые бы пришли в медицину не осознанно, за которых решили родители. Медицина — это затратно, но интересно. Вокруг нас все больше аппаратуры, которую надо осваивать и которая дает очень хороший результат.
— Что вас привело именно в эту область медицины?
— Я когда поступал в медицинский, уже хотел быть хирургом. Много книг в детстве читал, в том числе и посвященных хирургам, например, роман Федора Углова «Сердце хирурга». Но каким хирургом я буду и какую специализацию выберу, я не представлял тогда еще. Но мне предложили прийти работать дежурантом по нейрохирургии, когда я заканчивал ординатуру по детской хирургии. Тогда заместителем главного врача по хирургии был Георгий Максимович Воронюк. Так я оказался в нейрохирургическом отделении Морозовской больницы.

Потом меня отправили на курсы повышения квалификации, и 2 января 1990 года у меня было первое дежурство по нейрохирургии.
— Как глубоко нейрохирург может проникнуть в голову? Есть какой-то предел?
— Хирургу недоступен ствол головного мозга. При многих патологических процессах ствола головного мозга он фактически остается вне возможностей хирургии. Хотя есть исключения — участок посередине за затылочной костью. А ствол — средоточие всех жизненно важных функций, это кровообращение, дыхание, глотание, сознание. Но пока хирургия там очень ограничена, при строго определенных заболеваниях: опухолях, каверномах и их формах. А есть зоны мозга, куда нейрохирург не стремится вообще.
— Что вы почувствовали, когда впервые увидели головной мозг?
— Я же увидел его впервые, еще будучи студентом. Когда вы изучаете анатомию головного мозга, вам приносят препарат, что называется, на подносе, вы его препарируете, рассматриваете, вместе с педагогом изучаете его анатомические отделы.
Для меня анатомия началась, когда я учился в восьмом классе, ходил в анатомический музей, занимался в кружке при 2-м медицинском институте и знал, что меня ожидает.
Мозг живого человека ничем не отличается, за исключением того, что через небольшое отверстие в черепе вы видите пульсирующие сосуды.
— Что для вас значит фраза «хирург от Бога»? Правда ли, что это дар?
— Вряд ли дар, для хирурга важны хорошее знание анатомии, усидчивость, желание учиться и узнавать новое из разных источников. Для всех органов, в том числе для головного и спинного мозга, знание анатомии имеет решающее значение — надо понимать, куда вы вмешиваетесь, зачем вы вмешиваетесь, какие у вас рядом сосуды, функционально значимые зоны.
— Почему тогда из двух хирургов, владеющих анатомией, один становится выдающимся, а второй всю жизнь ведет заурядную профессиональную жизнь?
— Допустим, есть пианист Иванов (условно), а есть пианист Рихтер. Между пианистом Ивановым и пианистом Рихтером огромное расстояние. Как и в любом деле, связанном с мануальными навыками, в хирургии важно владение руками. Есть хирурги, у которых руки двигаются лучше, точнее, а есть более «неуклюжие» доктора.

У нас в отделении сложилась идеальная, на мой взгляд, ситуация: работают доктора от 20 до 60 лет. Сопровождение молодого доктора более опытным врачом имеет значение, так было, есть и будет всегда. Если у молодого хирурга самостоятельно или вместе с более старшим коллегой получилось один раз, второй раз, третий раз, двадцатый, у него появляется некая смелость в принятии решений во время операции, уверенность в собственных мануальных навыках.
Молодые ребята стремятся на специальные курсы, где можно отрабатывать эти навыки. На курсах хирург работает с операционным микроскопом, ультразвуковым деструктором, хорошим аспиратором. После теоретических объяснений перед ним ставят задачу сделать на головном мозге то и это.
Это все отрабатывается, как в тренировках, в спорте, в любом деле, в котором нужен навык.
Важна не только теоретическая работа головой.
— То есть Божьего дара хирургического не существует?
— Я так не утверждаю, у кого-то есть больше способностей, у кого-то меньше. И Рихтер, и условный Иванов ходят в одну и ту же музыкальную школу, но в классе есть дети, которые остаются играть на любительском уровне, а есть те, кто идет дальше. Это зависит от желания, воли, семьи. Как пел Высоцкий, «мне помогли подняться по крутой спортивной лестнице мой коллектив, мой тренер и моя семья». Но есть очень талантливые люди, их имена вписаны золотыми буквами в историю мировой и отечественной нейрохирургии.
— Без каких качеств не состоится нейрохирург?
— Любой, мне кажется, кто поставит перед собой такую цель, кто не боится медицинской работы, может стать, я не вижу препятствий.
— Я не смогу.
— Это вам сейчас так кажется, потому что вы эту профессию не выбрали. А если бы вы выбрали медицину в 15-16 лет, посвятили ей себя, это стало бы возможно. Не боги горшки обжигают. Возвращаясь к нашему сравнению, пианистов масштаба Рихтера сколько сотен в мире? А нейрохирургов значительно больше.

— Через сколько лет работы вы смогли назвать себя профессионалом?
— На следующий день после моего первого дежурства по нейрохирургии я думал, что я уже очень даже «ничего». Потом пришло осознание того, что лучшая операция — та, которую нейрохирург не сделал. Чем в большем количестве неприятных ситуаций побывал, чем больше знаешь об осложнениях и побочных эффектах, тем больше ты начинаешь задумываться о том, что, как и почему планируешь сделать. И как это объяснить родителям, как их подготовить к возможным исходам заболевания и к подходам, как мы попытаемся ребенка от этого заболевания избавить.
— Самая сложная часть работы — это постановка диагноза и решение задач или операция?
— Работа с родителями детей. Чтобы они поняли и приняли заболевание своего ребенка и мыслили в той парадигме, что им предлагают врачи. Все остальное несложно: если вы заранее готовитесь к операции, можно все просчитать, подготовиться к ней технически, инструментально, мануально.
Есть операции, которые выполняются по стандартам. Но есть редкие заболевания, общепризнанных подходов к их хирургическому лечению нет.
Врачу надо думать и составлять индивидуальный план лечения. И отталкиваться он будет от той аппаратуры, которой владеет, от своих мануальных навыков. Врач должен понимать, на какие риски готов пойти. И все возможные осложнения должен озвучить и родителю, и самому пациенту, потому что у нас и дети старше 15 лет согласие на операцию подписывают.
— Как вы справляетесь с такой эмоциональной нагрузкой?
— Я сам себя не анализирую, как справляюсь. Приходят родители ребенка, садятся и говорят: «Нам надо поговорить». — «Давайте поговорим». Мне кажется, что в душе родителей наступает большее или меньшее спокойствие, когда они понимают, что врач никуда не торопится, не ограничивает время разговора. Есть родители, которым достаточно побеседовать пять минут, они все поняли и готовы к принятию решения. А есть родители, которые будут один и тот же вопрос задавать многократно.

Самый главный и большой страх нейрохирурга всегда один
— Александр Коновалов, один из лучших нейрохирургов мира, говорил: «Сейчас нет никакой проблемы поставить диагноз». Вы согласны с этим или нет?
— Я бы, при всем уважении к Александру Николаевичу, поспорил с ним, хотя я многократный слушатель его лекций, присутствовал на его операциях, видел его непосредственно в операционной, когда бывал в институте Бурденко. Проблема такая остается все равно, иначе мы не совершенствовали бы свое диагностическое оборудование. Все время появляются и новые классы заболеваний. Допустим, по данным МРТ нейрохирург ставит пациенту опухоль головного мозга. Но у патоморфологов могут возникнуть большие сложности — из каких клеток опухоль состоит, какие у нее характеристики? Иногда бывает, что пациент страдает каким-то заболеванием, но понять его природу врач может не до конца.
— Было, что по снимкам увидели одно, начали оперировать, оказалось другое?
— Были такие пациенты. В Москве ежегодно проходит съезд педиатров «Трудный диагноз». На нем разбираются интересные и крайне редкие случаи. В мире проходит не один конгресс, посвященный редким осложнениям в различных хирургических специальностях, в том числе в нейрохирургии. Там не принимают доклады, где у пациентов все хорошо, там разбираются, почему, как и от чего возникли осложнения. В произведении Генри Марша «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии» многое описано из того, что, наверное, не все рискнули бы опубликовать.
— Что вы отвечаете на вопрос родителя или же самого ребенка: «Доктор, это действительно необходимо?»
— Уверенно отвечаю, что необходимо. Мне кажется, родителям будет еще более волнительно, если доктор примется колебаться.
Когда решение принято, доктор должен быть уверен, а если есть сомнения, ими надо поделиться до принятия решения.
Бывают ситуации, когда родители должны быть посвящены в разные сценарии. Далеко не все заболевания требуют поспешных действий, иногда можно взять тайм-аут.
Наша больница чем хороша? Мы работаем по графику 7/24/365. Мы всем родителям внушаем мысль: если ситуация поменяется, они всегда могут приехать и обратиться к нам за помощью и в экстренном, и в плановом порядке. Мы налаживаем взаимодействие максимально, не закрываемся от них искусственно — ни я, ни мои коллеги.
— Как вы любите расслабляться? Где черпаете силы?
— Я люблю: детей, жену, родителей. Общение с ними, с друзьями и коллегами. Я от работы не устаю, чтобы мне нужно было от нее отдыхать. Я для себя такую формулу вывел: если работа вас морально не высушивает, каждый рабочий день приносит удовлетворение, вам не надо будет каких-то специальных практик, чтобы расслабиться, отключиться. В моей профессиональной судьбе так. Может быть, у кого-то по-другому, я не претендую на универсальность.

— Вы — лауреат премии правительства Москвы по медицине за 2019 год. Насколько вам лично важны награды и такое признание?
— Если бы я сказал, что мне это неважно, я бы слукавил. Каждому человеку, занимающемуся ответственным трудом, приятна оценка результатов его работы, его достижений, я не исключение. Это не самоцель — обязательно всем понравиться и добиться премии, но я был искренне ей рад. На премию мы подавались коллективно, когда нашему Центру детского инсульта было пять лет.
Открытие центра поддержала и администрация больницы, и правительство Москвы. А инициировали его мы, доктора, мы видели, как дети от инсультов страдают.
За пять лет центр окреп, эта деятельность стала понятна и ощутима в городе.
— Самый главный и большой страх нейрохирурга?
— Он всегда один. Нейрохирургия опасна тем, что после операции у ребенка может обнаружиться новый неврологический дефицит. Он может быть связан и с расположением патологической зоны, и с тем, что пришлось ребенка спасать от его заболевания. То есть устранив одну проблему, мы получили другую. Не хочется терять детей, не хочется, чтобы они не ощущали радости жизни и были ограничены в своих физических возможностях.
— На что хирург не имеет права?
— Не интересоваться, не развиваться, не прислушиваться, не впитывать в себя новые идеи, быть сторонником только одного какого-то метода лечения, который, возможно, сегодня не применяется. Не упорствовать в ереси, так бы я сказал. Надо слушать, слышать и прислушиваться и к критичным каким-то замечаниям в свой адрес.

Хирургия — постоянный процесс, мне кажется. Поэтому хирург должен интересоваться вообще всем новым — не только тем, что в самой медицине, но и тем, что рядом с ней. Нам в студенчестве рассказывали про врачей энциклопедических знаний, преподаватели говорили нам, что мы должны быть одновременно медиками, художниками, мыслителями, философами. Это может облегчить общение с родителями пациентов: ты сумеешь переключить разговор, снять напряжение.
— Менялись ли ваши ценности на протяжении жизни?
— Принципиально — нет. Семья, дом, друзья, уважение к коллегам, к людям, которые рядом с тобой, неважно, знакомые или не знакомые. Сострадание, потому что медицина — это сострадание. Нельзя каждый раз умирать и рождаться с каждым пациентом, их много, но родители ребенка, пришедшие на беседу, не должны видеть во враче безразличие. Чтобы родитель, уходя из кабинета хирурга, знал: для его ребенка врачи сделают все, что знают и умеют.
Фото: Сергей Щедрин

