
Это интервью невозможно без личного предисловия: с профессором Михаилом Каабаком меня связывает, пожалуй, самая трудная история в профессии. 11 лет назад, весной 2005 года по телеканалу «Россия» показали фильм Аркадия Мамонтова «Белые одежды», фактически поставивший крест на трупной трансплантации в нашей стране. Неаргументированные перегибы, заведомо обвинительный тон и некомпетентность фильма лишила людей, ожидавших пересадки в России, надежды на будущее. А врачей (как фигурировавших в фильме, так и не попавших в кадр) — надежды на все: профессию, возможность помогать, исполнять клятву Гиппократа в той ее части, где говорится «делай все, от тебя зависящее».
Над жертвами расследования журналиста Мамонтова, докторами двадцатой московской больницы, начался суд (забегая вперед, скажу, что спустя несколько лет врачи все же были оправданы, некоторым из них это стоило здоровья, а кому-то, как академику Шумакову, вставшему на их защиту — жизни, так быстро оборвавшейся). Именно тогда, в 2005-м, потрясенная и материалом, сделанным Мамонтовым, и его последствиями, я решила, что сделаю для НТВ, где тогда работала, фильм о том, что же такое на самом деле трупная трансплантация. И почему ни одна цивилизованная страна в мире не сможет без нее двигаться вперед и развивать свою медицину.
Так я пришла в кабинет профессора, заведующего отделением пересадки почки Российского научного центра хирургии Михаила Каабака. Стоит ли объяснять, каково Каабаку после «Белых одежд» было разговаривать с любым незнакомым журналистом? В общем, он меня выгнал. Один раз, другой. Я пришла в третий. Мы проговорили часа три. Каабак вздохнул и сказал: «Я тебе поверил. Можешь снимать в отделении что хочешь и как хочешь. В общем, работай».
И я стала снимать фильм «Жизнь взаймы» о трансплантации в мире и в России. Когда съемки почти закончились, обстоятельства сложились так, что у врачей и пациентов, которых мы снимали, появился редчайший тогда донор. Первая группа крови — это значит, подходит практически всем. Первой в очереди пациенткой Михаила Каабака была Женя Меркурьева из Петербурга. Внучка артиста Меркурьева, умница и невероятно стойкий боец. Я встречала ее вместе со съемочной группой в аэропорту, везла в отделение, провожала на операцию.
Профессор пересаживал ей почку и поджелудочную железу. Это было необходимо, чтобы снять Женю с тяжелого гемодиализа, вернуть в полноценную жизнь, подарить шанс. На четвертый день после операции Женя умерла: сердце не выдержало. Слишком долго ждала. Слишком трудный диагноз.
Остальные пациенты, те, кому были сделаны пересадки от того же самого донора с первой группой крови: сердце, печень, другая почка — все они выжили, все было хорошо. А Жени не стало.
Эфир фильма был назначен через три дня. Телевизионное начальство подбадривало: смерть в прямом эфире, редкая журналистская удача. Я ревела — так случилось впервые в моей работе. Все доктора, решившиеся принимать участие в фильме, в один голос умоляли: не упоминать об эпизоде с Женей Меркурьевой. Иначе трансплантация в стране будет окончательно загублена.
Надо было принимать решение: рассказывать или нет. Я позвонила профессору Каабаку. Что делать? Михаил Михайлович сказал: «Я поверил тебе в самом начале, так что делай, что хочешь. Но помни, если ты решишь рассказать правду, она должна быть очень искренней и понятной, иначе все впустую». На размышление была ночь. Я решила рассказывать. Именно потому, что фигура умолчания вызывает у зрителя сомнения и вопросы: в фильме было девять историй про трансплантацию со счастливым исходом. А в жизни, увы, так не бывает.
Получив разрешение мамы Жени, я решила рассказать о том, что на самом деле произошло. И попросила профессора Каабака дать интервью. На Каабаке не было лица: тяжелейшая операция, бессонные ночи и потеря пациента… Но он согласился. Рассказывая о том, что случилось с Женей, Каабак не смог сдержать слез. Он старался, как мог, понятно объяснить, что произошло, но было видно, с каким трудом ему дается каждое слово. Ни до, ни после этого интервью я не видела докторов в такой драматической ситуации. И до сих пор не могу себе представить, какого мужества ему стоило рассказать все это перед камерой.
Фильм вышел в эфир на НТВ в программе «Профессия — репортер» в ноябре 2005 года.
После фильма мы подружились с Михаилом Михайловичем. Дружим до сих пор. Иногда, бывая в Москве, прихожу в РНЦХ в гости. В его кабинет, как и прежде, без стука входят пациенты. После работы он, как и раньше, подолгу сидит, составляя единственную в стране статистику по пациентам с пересаженными почками. А вместо отпуска проводит школы детской трансплантации в регионах, обучая региональных врачей.
Не так давно в Подмосковье прошла седьмая Международная детская школа. Там с российскими докторами встречались и делились опытом профессора мировой величины, состоящие в международной ассоциации педиатров-трансплантологов. Каабак, кстати, один из немногих врачей в России, который тоже состоит в этой ассоциации. И, как может, пытается привести отечественную трансплантацию в соответствие с международными правилами и нормами. Хотя иногда в сердцах бросает: «О каких международных правилах может идти речь, если наши люди до сих пор шарахаются от трансплантологов как от чумы. И в этом есть заслуга самих трансплантологов: наше профессиональное сообщество непрозрачно». Потом, правда, берет себя в руки: «Значит, надо опять все рассказывать с самого начала. Столько раз, сколько потребуется».
— Если можно, я сразу спрошу о том, о чем спросил бы вас любой среднестатистический россиянин, будь у него такая возможность…
— Бегают ли трансплантологи по улицам со скальпелем и охотятся ли за почками сограждан?
— Да.
— Нет.
— Что — нет?
— Не бегают.
— Это недостаточно подробный ответ для обывателя. Потому что он-то как раз уверен, что бегают. И еще — что где-то есть «черный рынок» этих самых почек. И бесконечно возникает тема: один человек очень плохо жил, но продал свою почку и стал жить лучше.
— Да. Иногда воодушевленные такими сообщениями граждане даже звонят мне и предлагают свою почку. И я из раза в раз объясняю, что торговля органами — уголовно наказуемое преступление во всем мире.
Ответственно заявляю, никакого мирового черного рынка доноров не существует: это невозможно! Я уже не говорю о том, что для пересадки нужны определенные параметры органа, которые заранее нельзя предугадать, но существуют, скажем так, технические сложности, сопряженные с насильственным забором почки у живого человека и передачей донору. Слушайте, ну это правда невозможно, уголовно наказуемо и чрезвычайно сложно, даже если очень захотеть.

Михаил Каабак. Фото: Радио Свобода
— Но люди действительно верят, что можно продать! И верят, что кто-то охотится за их органами.
— Это все дикость какая-то средневековая: охотятся, вырезают, покупают… Это, конечно, от недостатка просвещения в нашем обществе такие мысли возникают. Есть совершенно другая сторона вопроса, о которой стоит поговорить: теоретически врачи-трансплантологи во всем мире не заинтересованы в том, чтобы пациенты, например, с инсультами получали своевременное качественное лечение, потому что гибель такого пациента — шанс получить органы для другого пациента, за которого ответственен как раз трансплантолог. Это очень тонкий момент, и он есть.
На практике от него существует совершенно четкая и понятная защита: трансплантологов нельзя близко подпускать к потенциальным донорам. То есть никогда. Даже на пушечный выстрел. Только к их органам, если все уже случилось. Поэтому пациентов, допустим, с инсультами лечат в одном месте, а в совершенно другом месте работают трансплантологи, которые пересаживают, например, почки пациентам с хронической почечной недостаточностью. Там — лечат, здесь — пересаживают.
В одном месте одни врачи диагностируют смерть, а дальше органы изымают и они поступают к трансплантологам для дальнейшей работы. И в эту картину мира совершенно не вписывается живой здоровый человек, который ходит по улице и на которого надо нападать, убивать и чего-то там изымать. Чушь какая-то.
— Хорошо. А откуда тогда берется этот эпос про трансплантологов с длинными ножами?
— От неграмотности. И отсутствия доверия к врачам. Я вам скажу так, единственная манипуляция, которая возможна с органами и за которую бесконечно кого-то судят на Западе, называется «манипуляция с листом ожидания». Это когда кого-то подвигают вверх в этом листе за счет кого-то другого, кто съезжает вниз.
— В России это тоже есть?
— В России никого не судят, у нас все такие «белые и пушистые».
— Никто не нарушает закон?
— Официально никаких разбирательств не происходит.
— Что это значит?
— Что никаких разбирательств не происходит.
— Полный порядок?
— Впервые полный порядок с распределением трупных органов между клиниками, в которых проводят трансплантации, и пациентами, которые ждут пересадки, попытался навести нынешний московский мэр Собянин в лице своего вице-мэра Печатникова. Может, это даже и его, Печатникова, инициатива была.
— А что значит «полный порядок»?
— Кто дольше ждет, тот быстрее получает.
— А раньше как было?
— По совместимости, что является фактором неочевидным. И работало все по системе «кому хочу, тому и пересаживаю». И эта система, увы, оказалась в Москве, в России гораздо сильнее той, что принята на Западе. Никакого порядка, к большому сожалению, навести не удалось.
Приведу пример: в эти выходные (речь идет о последних выходных сентября 2016 года. — Прим. ред.) в Москве было четыре трупные трансплантации. Органы получили взрослые люди, стоявшие в листе ожидания от месяца до трех. В моем отделении один трехлетний мальчик ждет почку больше полутора лет. Ему орган не предлагали.
— Почему?
— Я же сказал, так работает система: кому хочу — тому даю. Управы какой-то законной на эту систему нет. Все держится на личных отношениях и кулуарных договоренностях. Никакого механизма контроля за соблюдением международных правил очередности у нас, у специалистов, нет. То есть мы не знаем, как они выполняются и кто их контролирует. Может, Печатников контролирует, а может быть, и нет. Не знаю.
— А кто контролем должен заниматься?
— Это дело профессионального сообщества. Оно должно выработать порядок распределения трупных органов. Но профессионального сообщества в трансплантологии у нас тоже как такового нет. Значит, требуется окрик сверху: «Кончайте заниматься фигней. Нарисуйте порядок так, чтобы все было по-честному».
— Кто должен кричать? [Министр здравоохранения России Вероника] Скворцова? [Президент России Владимир] Путин?
— Так быть не должно. Но, наверное, ручное управление — самое действенное в нашем случае. Потому что пока никакие другие методы не сработали.
— А вы пробовали?
— Еще как. Боролись, боремся, будем бороться.
Мои пациенты, ну вот те, которые ждут органы — дети. У меня нет права не бороться. И я хожу на все эти ток-шоу о трансплантации и там часто встречаю совершенно других, взрослых, пациентов с пересаженным сердцем, почкой, печенью.
Ну, сердце с печенью — Бог с ним, там действительно люди не могут ждать. Но вот передо мной сидит здоровенный мужик, 40-50 лет, здоровый, крепкий дядька, говорит, что он страшно мучился, ожидая почку 3 месяца. А я знаю детей, которые по полтора года ждали! И некоторые — не дождались. Но этого вопроса для «позитивных» передач как бы не существует, в профессиональном сообществе его не поднимают.
Как-то так устроен наш мир трансплантационный: дети, которые годами ждут и, наконец, получают свой шанс, — их единицы. А самая массовая трансплантационная популяция — это взрослый дядя или взрослая тетя, которые страшно мучились, ожидая почку в течение двух или даже четырех месяцев.
— Как это получается?
— Назовем это недобросовестностью в распределении трупных органов и отсутствием консолидированного профессионального сообщества, способного принимать решения, вырабатывать стандарты и контролировать их исполнение.
— То есть без Путина никак не разобраться с этим?
— Да, опять «условный Путин» или «условный Собянин», до которых кто-то должен достучаться, докричаться, донести информацию.
— А сами почему не пробуете?
— Знаете, мы пока в очереди на прием будем сидеть, у нас все больные помрут, а «захода» без очереди у нас нет. Остается одно: говорить. Кричать на всех углах. Выносить, к неудовольствию коллег, «сор из избы». Если мы хотим воздействовать на принятие решений, если мы хотим вести с обществом разговор, надо общество информировать. И, может, тогда, по цепочке информированности, дойдет что-то и до людей, которые смогут за профессиональное сообщество принять какие-то ключевые решения, выводящие трансплантацию в России из «серой» зоны в нормальную.
— В России уже появились психологические бригады, работающие с родственниками пациента, который уходит, чтобы объяснить им, как важно подписать согласие на донорство и как эти органы могут спасти чью-то жизнь?
— Шутите? Я не уверен, что в скором времени до этого дойдет. У нас никто ни с кем старается лишний раз не разговаривать. Хотя это такая же работа, как и все другие. У нас врачи считают, что говорить с пациентом — это ниже их достоинства. А профсообщества не считают нужным требовать введения этой специальности. Все молчком, по старинке, по привычке.
Вот самый громкий пример, который, попав к журналистам, конечно, был до обычных граждан донесен в довольно-таки искаженном виде. В одной из областных приволжских столиц у матери забрали сына, и он без ее ведома стал донором. Отмечу, мама сидела рядом с ним, умирающим, на табуреточке. Но его забрали, отвезли на какие-то исследования, а вернули уже без органов. И все объяснили уже потом, задним числом. Но мама-то сидела в реанимации до самого конца, то есть сослаться на то, что ее не было, что не с кем было разговаривать, нельзя.
Многолетние суды, разбирательства не внесли никакой ясности в произошедшее. В итоге дело дошло до Верховного суда. Врачей оправдали, разумеется, потому что по закону они могут изымать органы, если учреждение на момент смерти не поставлено в известность о том, что донор был против… Но вот же мама перед вами сидела на табуреточке, с ней-то вы почему не поговорили?!

Фото ИТАР-ТАСС/ Донат Сорокин
— Почему?
— Потому что не посчитали это нужным. И вот, оправдав их, Верховный суд сделал одно очень важное дело. Вместе с приговором он дал комментарий о том, что надо менять и совершенствовать саму систему констатации смерти, условий, которые необходимо соблюсти, чтобы признать человека донором.
— Давайте по порядку. Как вообще считается, что человек умер, кто это фиксирует? На основе чего может быть принято решение, что вот этот пациент — он мертв, он может стать донором?
— Для того, чтобы констатировать смерть мозга, нужен осмотр группы врачей с интервалом в 6 часов. Если мозг умер, а сердце бьется, то смерть может быть констатирована.
— Что должно произойти дальше?
— В норме, врачи должны начать разговаривать с родственниками. Но на это у нашего здравоохранения нет ресурсов, а у врачей — привычки: они стесняются, боятся, не умеют разговаривать. Ну и, действительно, это не их работа — в мире этим занимаются специально обученные люди.
— Хорошо. Но есть же системы, при которых работает презумпция согласия. Например, получая водительское удостоверение, я ставлю где-то галочку о том, что хотела бы в случае внезапной смерти стать донором.
— Разумеется, золотой стандарт — это когда человек сам изъявляет свою волю в отношении того, хочет он быть донором или нет. Потому что мало кому можно (и хочется) доверить решать такие важные вопросы, как донорство органов, за себя. Поэтому на Западе, где какие-то формальные вещи уже решены заранее, смысл беседы врачей с родственниками сводится не к тому, чтобы попросить у них разрешения, а к тому, чтобы выяснить, а как относился умерший к подобной возможности? Вот он как хотел бы, чтобы с ним поступили? Был ли он добрым? Был ли он злым? Помогал ли он людям или нет, был ли эгоистом? Вот, мы хотим выполнить его волю, мы хотим, чтобы с ним произошло то, что он сам хотел бы, если бы мы могли его спросить.
В этом смысл беседы с родственниками. А их подпись на разрешении — это формальность. И мы приходим к самому главному, к волеизъявлению. Здесь, увы, не может быть очевидно хорошего решения, здесь может быть только приемлемое решение. Водительские права — не панацея.
— Чем плохи водительские права?
— Много чем. В частности, если верить опросам общественного мнения, люди хотят, чтобы волеизъявление было в закрытых регистрах, чтобы никто об этом заранее не узнал.
— Опять боятся?
— Имеют право.
— Ну, можно, наверное, не в самих правах, а в какой-то бумаге, которая заполняется при получении прав?
— А как быть с человеком, у которого нет водительского удостоверения? Он хочет волеизъявиться, но машину не водит. А право сообщить свою волю, распорядиться органами должно быть у всех. Когда такую бумагу предлагают заполнить при получении прав, государство, как правило, хочет убить двух зайцев: чтобы люди аккуратнее водили машины и чтобы нуждающиеся были обеспечены органами.
— Это замкнутый круг.
— Да. Но мы, опять же из опросов, знаем, что половина людей хочет быть донорами, половина не хочет. И я в этом смысле, скорее, голосую за интернет-регистр. Например, заходишь на сайт госуслуг, ставишь галочку, — всё.
— Ну, о такой возможности не все могут знать.
— А надо рассказывать. Смотрите, сейчас, по закону, изъятие органов можно делать, либо если есть положительное волеизъявление, либо если нет никакого волеизъявления. Разумеется, введя интернет-регистр, мы потеряем какое-то количество доноров из «неопределившихся», но зато мы будем работать прозрачно. Мы сможем все понятно объяснять людям, информировать их. И они постепенно станут нам больше верить. Наладится контакт.
— Тяжелые времена, которые наступили после фильма Мамонтова для вашей профессии, кончились?
— И да, и нет. Если говорить о положительной стороне, то можно сказать, что жизни, годы, здоровье положены не зря: мы публично реабилитированы. Ни на одном из врачей, который обвинялся в том фильме, нет страшных преступлений. Три суда, три апелляции, вмешательство Верховного суда. И — вот, пожалуйста, торжество справедливости.

Pics.ru
— Чувствуете удовлетворение?
— Скорее, недоумение. Ведь они, правоохранители, действительно верили, что что-то найдут. Не просто копали — рыли! Громко, в сопровождении прессы. Но ничего не нашли. И как раз об этом — о результате своего разбирательства — забыли рассказать обществу. Никто из людей, не погруженных в наши проблемы, не знает о том, что никакого общества «черных трансплантологов» нет, что дело врачей 20-й больницы было сфабриковано. То есть вот на те «Белые одежды» они нашли дрессированных людей, а на «Белые одежды-2» решили не напрягаться, не искать.
В общем, так вышло, что реабилитация — это дело тех, кому она нужна, то есть наше.
— Часто жалеете, что стали доктором?
— Мы вообще еще не начали даже говорить о моей профессиональной деятельности.
— Ну вот я это и имею в виду. Ведь вы, наверное, не собирались заниматься никаким таким «общественным мнением», информированием, профессиональным сообществом. Денег, наверное, не планировали искать на лекарства, реабилитацию или госпитализацию в иностранные клиники для своих пациентов. А я знаю, вы и этим занимаетесь…
— Иными словами, вопрос в том, хотел бы я проводить 20 часов в день в операционной и больше ни о чем не думать, быть винтиком в высокотехнологичной системе? Думаете, так работают врачи, скажем, в Америке?
— Да.
— Нет. Я знаю, как живут мои коллеги за рубежом. Не могу сказать, что все именно так: гладко, спокойно, размеренно. Нет. Трансплантация, она везде в мире — непростая штука, которая зависит от огромной команды, а не от «ловкости рук» одного человека. Трансплантация, ее результаты не могут быть массовыми. А у нас это в последнее время стало прямо какой-то целью.
— В смысле?
— Например, наш Институт трансплантации в который раз бьет все рекорды по количеству трансплантаций сердца, сделанных в одном учреждении за год. Предполагается, что мы должны гордиться тем, что делаем пересадок больше всех в мире.
— А выживаемость какая?
— А вот это и есть главный вопрос. Почему на Западе трансплантации дробятся по медицинским клиникам; их стараются делать понемногу, но везде, по всей, например, Америке? Почему упомянутый нами академик Шумаков говорил о том, что от хирургии зависит 10 процентов успеха этого сложного процесса? Так вот, по неофициальным данным, тридцать процентов пациентов — участников этого массового соревнования, — умирает еще до выписки, а еще шестьдесят — в течение первого года. Хороший рекорд, да?
Среднее количество трансплантаций сердца для нормальной европейской клиники — 10-15 в год. А у нас — сто и даже больше. Ответ на вопрос «почему» лежит в финансовой плоскости. Ресурсы, которые государство выделяет на саму трансплантацию — колоссальные. А на все, что после нее — ничтожные. Вот и ответ. Я все понимаю: амбиции, желание идти вперед… Но «набивать руку» на пациентах нельзя. Это неприемлемо.

Фото: www.globallookpress.com
— Еще раз спрошу: часто жалеете, что стали врачом? Вам удалось получить от жизни то удовлетворение, которое может принести профессия?
— Да, конечно. Это такое постоянное чувство. Есть еще и острые, яркие, пронзительные ощущения, которые случаются раз в несколько лет. Но их хватает для того, чтобы подпитывать всю жизнь. То есть, действительно, именно в этой профессии с тобой случаются истории, когда ты оказался решающим человеком на пути у конкретных людей, у твоих пациентов. И это запоминается, это подпитывает очень долго.
— Но бывает же и наоборот.
— Бывает и наоборот. И это тоже всегда очень врезается в память.
— Как с Женей Меркурьевой?
— Да. Такое помнишь всю жизнь. Но, с другой стороны, это стимул идти вперед. Узнавать что-то новое, что, возможно, позволит помочь твоим следующим пациентам.
— Теперь вы чаще пересаживаете поджелудочные железы? Женя, если я не ошибаюсь, была одной из первых пациенток в России с такой пересадкой.
— Мы продолжаем пересаживать поджелудочные железы, мы не перестали это делать. Но пересаживаем мы их, к счастью, мало. Это по-прежнему очень тяжелые операции, они тяжело идут.
— Вы верите, что однажды наука шагнет так далеко, что донорские органы не будут требоваться для пересадки? Органы будут выращивать искусственные. И это, в том числе, отменит все очереди и все сложные этические вопросы.
— Ой, это было бы шикарно, просто замечательно! Но при нашей с вами жизни я бы на это не рассчитывал. Наша отрасль, скорее всего, будет развиваться в сторону биотехнологий не в плане выращивания органов, а в плане управления иммунитетом. Это — ближняя перспектива. Она может войти в медицинскую практику спустя два или три профессиональных поколения.
— Как это перевести на пациентский язык?
— Лет через тридцать мы будем вместо «циклоспоринов» вводить пациентам их собственные клетки, которые из организма взяты, в специальных приборах видоизменены и возвращены, чтобы бороться с тем или иным недугом. Клетка вместо таблетки, вот как это я про себя называю. И это сейчас самая реальная история, о которой можно мечтать: попытка манипулировать иммунитетом посредством воздействия на клетки снаружи, потому что таблетками мы воздействуем на них изнутри, портя при этом печень, желудок и почки.
Биотехнологии развиваются сейчас такими темпами и в таком направлении, что чем больше мы знаем про механизм развития болезни, тем лучше понимаем, какие именно клетки ломаются, эту болезнь провоцируя. И, если грубо говорить, мы сможем эти клетки достать, починить и вернуть пациенту обратно.
— Но ждать сорок лет для многих из нас довольно затруднительно.
— Разумеется, все могло бы развиваться быстрее. Но, увы, эти перемены связаны с перераспределением финансов в медицине. Те, кто сейчас на коне, понимают, что потеряют свое первенство. Они, как могут, процессы тормозят.
— Заговор фармкомпаний?
— Не заговор фармкомпаний. А чистый бизнес. Ничего личного.
— Теперь много и часто говорят о необходимости реформы нашего здравоохранения. При этом, кажется, всем говорящим более-менее ясно, что большую, глобальную реформу страна не потянет. Что, прежде всего, надо в системе здравоохранения поменять для того, чтобы мы…
— Премьер-министра.
— …шли со всеми в ногу? Я сейчас не говорю о том, чтобы мы сделали какой-то вдруг невероятный рывок, просто хотя бы не отставали.
— Да ничего не сделаешь. Ответ на почти все возможные вопросы один: бюджет. Огромная разница в бюджете между нами и так называемыми «развитыми странами». Например, вся хваленая в определенных кругах реформа американского здравоохранения исчисляется двумя российскими бюджетами. Не на здравоохранение, а вообще — бюджетами всей страны.
И при том довольно скромном финансировании, которое мы имеем, у нас лучшее здравоохранение, которое можно было бы себе представить.
Как вы предлагаете экономить? Чиновников убрать? Негуманно. Им же нужно чем-то кормиться. Их уберешь из медицины — они тут же придут куда-то в другое место. А здесь хотя бы мы их уже знаем, управу на них умеем находить. Если сваливается на голову какой-то проблемный, в бюрократическом плане, пациент, мы знаем, куда бежать, кого просить, кому звонить, у кого для него выбивать квоту. Мы научились ориентироваться в этом чиновничьем мире так, чтобы выгрызать из них для себя возможность делать свою работу.
— На какие удивительные вещи уходит ваша жизнь: на выбивание квот!
— В том числе.
— А речи не идет о том, чтобы как-то от этих квот избавиться вообще? Это же чудовищная система, введенная еще [бывшим министром здравоохранения России Михаилом] Зурабовым.
— Не согласен. Мне система квот нравится. Их пытались исказить, но, слава Богу, не очень получается. Квоты создают конкурентную среду. Конкуренция — это здорово, это то, что нужно нашей медицине. Ведь что было до квот? Я помню времена, когда людей заставляли платить за трансплантации какие-то немыслимые по тем временам деньги. И трансплантацию мало кто мог себе позволить. Мы делали эти платные трансплантации, даже не подозревая, что делаем что-то ужасное. А это действительно ужасно — делать трансплантации за деньги.
— Особенно в стране, где в Конституции написано про бесплатную медицину.
— Да. До квот кто-то должен был за пациента заплатить: область, завод, колхоз или он сам — кто-то должен был заплатить за трансплантацию. Страховой медицины тогда не было, а бюджет нашего учреждения бесплатной трансплантации не предусматривал. Что дала квота? Квота дала фиксированное количество денег, которые приходят в институт вот за эту операцию. И это создает конкурентную среду.
— Между кем и кем?
— Между медицинскими учреждениями. Конкурируйте за пациентов.
— Только мы постоянно слышим не об этом, а о том, что квот нет, койко-мест нет.
— Да. Но вам должно быть не хуже меня известно, что как только поднимается шум, квота почему-то сразу находится. И это вопрос, уже никак не связанный с самим понятием «квота». Это скорее об искусственно созданном некоторыми заинтересованными лицами порочном круге распределения квот. То есть в самих квотах нет ничего сложного: механизм работает. Но на нем сидят какие-то паразиты и кормятся за счет тех, кто не может ждать и кому нужна помощь.
— Но, видимо, что-то не то есть в самом механизме. Вот смотрите, квоты же планируются заранее. Как заранее можно знать, сколько людей заболеет и чем?
— В этом как раз нет ничего сложного. Есть статистика, есть эпидемиология. Все можно планировать. Положа руку на сердце, я скажу так: поменять систему квот уже нельзя. Надо научиться с ней нормально работать.
— Но все время ведутся разговоры о необходимости перемен в здравоохранении. Что требуется менять в первую очередь?
— Систему, по которой в России работают профессиональные сообщества. В том числе и сообщество трансплантологов. Вот вы спрашивали, о чем я мечтаю профессионально. Так вот, профессионально я мечтаю изменить устав общества трансплантологов.
— Каким образом?
— Чтобы его глава выполнял свои функции два года. И потом его бы сменял другой глава. Чтобы не было подряд никаких сроков.
— Как это скажется на вашей судьбе?
— Я буду уверен, что профессиональные интересы сообщества будет представлять человек, заинтересованный в развитии медицины и оказании помощи нуждающимся пациентам, а не в собственной важности, непогрешимости и оттачивании мастерства, в том числе и мастерства интриги.
У нас во всех профессиональных сообществах «патриархи» сидят срок за сроком, несменяемые, необсуждаемые, неизбираемые никакими демократическими процедурами. И это делает зону, в которой мы работаем, мертвой и ставит крест на нормальном развитии трансплантологии в России.
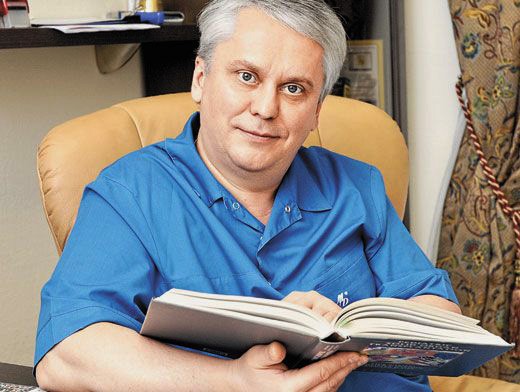
Михаил Каабак. Фото Эдуарда Кудрявицкого aif.ru
— Почему?
— Да потому, что вообще все хорошее развивается там, где есть конкурентная среда. Когда уничтожается конкурентная среда, то происходит загнивание и застой. Мы все это видели много раз на протяжении истории нашей страны, некоторых других стран. Для того, чтобы конкурентную среду создать, нам нужны дебаты внутри профессионального сообщества, нужны сменяемые лидеры.
В нашей ситуации лидер профессионального сообщества бессменен и назначается Минздравом. Поэтому, сами понимаете, конкурентной среды нет. И никакие указания и действия не обсуждаются: нам сказано считать трансплантации, мы будем их считать. Нам сказано не считать результаты трансплантаций (смерти, осложнения), мы не будем их считать. А это — путь в никуда. Потому что не важен сам факт блестяще проведенной пересадки, важен ее результат: жизнь. Долгая, качественная, достойная.
— Думали ли вы, что вот этим всем вам придется забивать себе голову, когда шли в медицинский?
— Если честно, я в медицинский пошел совсем не потому, что страстно мечтал стать врачом.
— А почему?
— Стечение обстоятельств. Мама все время повторяла: «С такой фамилией, с такой национальностью и с таким характером, как у тебя, рано или поздно все равно посадят. Как твоих дедушек и прадедушек. А в тюрьме уважают две специальности: врач и строитель. Надо выбрать». Медицинский был ближе. И я пошел туда.
— И сколько раз жалели?
— Да нисколько. Я, наоборот, с каждым годом понимаю, какое невероятное счастье мне даровано. Понимаете, профессия хирурга, хирурга-трансплантолога — это поразительная привилегия. Привилегия давать человеку второй шанс! Мы же занимается ровным счетом тем, что обманываем смерть. Она человека приговаривает, а мы как бы говорим: «Ээээ, нет, погоди! У нас есть еще средство!» И пересаживаем человеку новый орган взамен того, который, не работая, мог бы убить. И продлеваем жизнь. Как можно не дорожить такой профессией?
— В обществе есть пиетет к профессии «врач»?
— Нет. Такого нет. Может, раньше было. Но это было замешано, скорее, на страхе. В советское время больница была и спасением, и, во многом, испытанием человека на прочность. Сейчас в чем-то все лучше. В чем-то сложнее. Например, у нас есть глобальнейшая проблема, связанная с тем, что бóльшая часть врачей, особенно врачей региональных, не видит никакого смысла в том, чтобы, с одной стороны, делать тяжелым, много месяцев или даже лет проведшим на диализе пациентам, пересадку, а с другой, — возвращать этим детям качество жизни.
— То есть как?
— Ну как: они говорят, что, быть может, лучше дать умереть спокойно вот этому вот страдающему ребеночку, а родителям приобрести другого ребенка каким-то образом. Ну чего, говорят, их пересаживать? Они мучиться только будут. Кто-то из них глухой, кто-то слепой, у кого-то судороги. Врачи полагают, что лучше каким-нибудь нормальным детишкам, крепеньким пересаживать почки. Так нарушается право пациента на спасение. Так нарушаются врачебные принципы, этика. Да все что угодно нарушается!
— И что потом?
— Потом этот ребенок попадает к нам, в Москву. Мы делаем пересадку, выхаживаем. А потом решаем проблемы, связанные с тем, что ребенок очень долго ждал донорский орган. Вот, например, у нас был совершенно прекрасный мальчишка, Егор Бостан. Он так долго и так мучительно ждал трансплантации, что в какой-то момент у него, как мы предполагаем, случился инсульт, который привел к потере зрения. Он внезапно ослеп, представляете?
Его мама, Алла, рассказывала, как однажды в комнате Егор вдруг заплакал от страха, потому что перестал видеть — все вокруг стало темно. А ему три года! На компьютерной томографии большая зона ишемии в затылочной коре. Это инсульт. Через полгода после этой драматической истории мы ему сделали трансплантацию; зрение чуть-чуть восстановилось. Он стал видеть буквы размером с ладонь. Такой маленький мальчишка, а ходил в огромных очках…
Дальше — самое интересное. Никто в нашей стране не захотел браться за Егора, не захотел хотя бы попробовать сделать так, чтобы он стал видеть. Все разводили руками: «У него же пересадка почки была, он тяжелый пациент, мы не рискнем!» Пришлось искать кого-то за границей, кто за большие благотворительные деньги попытался вернуть Егору зрение.
— Вы сами искали?
— Ну да. Это ж наш пациент.
— Нашли?
— Да. В итальянском госпитале «Бамбино Джезу» за него взялись. Там же, кстати, оперировали еще одну нашу девочку, Полину. Трансплантация почки три года назад в годовалом возрасте от умершего донора. Почка работает прекрасно, все хорошо. Но Полина не слышит. И все, что ей нужно, это кохлеарная имплантация. Высокотехнологичная процедура. В России прекрасно выполняется в разных местах. Квотируется даже! Все бесплатно, все здорово: импланты эти дорогущие, замечательные, полностью восстанавливающие слух. Но Полине нигде в России не делают эту имплантацию! Знаете, почему?
— Почему?
— У нее атопический дерматит, оказывается. И ей, говорят врачи, нельзя из-за этого дерматита делать операцию, давать наркоз, например. То есть почку ей можно пересадить, а сделать кохлеарную имплантацию невозможно! Но это же повод, это не причина. И вот тут мы упираемся в проблему мотивации.
— Не очень понятно: зачем человеку почти 11 лет учиться на врача, чтобы потом не делать то, что он умеет.
— Причины есть. У врачей, которые отказали Егору, Полине и еще доброму десятку детей, которых я знаю, нет мотивации реабилитировать ребенка, вернуть ему качество жизни и саму эту жизнь в полном объеме. У них есть задача «оказать услугу», получить деньги, потратить эти деньги на услугу. Закрыть случай. Все!
Я это знаю, потому что наше руководство ведь тоже перед нами такие задачи ставит: не надо брать сложных пациентов, надо брать попроще, нужно, чтобы побольше было оказанных услуг, чтобы квота выполнялась, чтобы не залеживались.
Выходит, что клиникам, исходя из существующего положения вещей, не выгодно, чтобы пациент после трансплантации поправлялся, получал реабилитацию, вставал на ноги и вообще как-то жил.
— А как это сказывается на трансплантации?
— Мы попали в ловушку: диализ в регионах развивается с большим опережением по отношению к трансплантации. Раньше дети в терминальной стадии почечной недостаточности погибали с вероятностью 100 процентов, если не успели уехать в Москву, а сейчас по месту жительства им сохраняют жизнь с помощью диализа. Сохраняют достаточно успешно, но совершенно не думают о перспективах дальнейшей трансплантации.

Фото: supportforspecialneeds.com
— Почему? Предполагается, что ребенок будет пожизненно привязан к диализу?
— Ребенок не может выжить, вырасти и жить полноценной жизнью, будучи «привязанным», как вы говорите, к диализу. Вот смотрите, несколько месяцев назад к нам попал мальчик Вася. Он из Новосибирска. Ему третий год. Он на диализе с рождения. Родители от него отказались, он сирота. И он лежал в новосибирском медучреждении на диализе.
Первый год он провел на перитониальном диализе с постоянными перитонитами, что привело к склерозу брюшной полости, к невозможности продолжить перитониальный диализ. На следующий год врачи назначили ему гемодиализ со здоровенными катетерами. Это привело к тромбозам всех крупных сосудов. И, когда возможности для гемодиализа, по мнению новосибирских врачей, были исчерпаны, диализ Васе был прекращен.
После этого все сели, сложили руки и стали дожидаться его смерти. И смерть эта неизбежно бы произошла, если бы самым невероятным образом в жизни Васи не появились приемные родители. Эти люди его, по сути, спасли. Еще не будучи его законными родителями, но уже собираясь в Новосибирск на встречу с Васей, они случайно узнали о том, что ребенку был прекращен диализ, а доктора, по сути, дожидаются его смерти. И тогда эти будущие мама и папа подняли шум.
Мы, соответственно, помогли им этот шум развить. В итоге ребенок оказался в Москве, где в больнице Святого Владимира ему нашли одну из последних возможностей продолжить гемодиализ. И мы будем со временем пересаживать ему почку, очевидно, от умершего донора.
— Сколько времени это займет?
— Несколько месяцев. Сейчас он пока что интенсивно вакцинируется. Дело в том, что доктора, полагая, что такие, как Вася, дети не жильцы, не видят необходимости делать им прививки. Ничего глупее не придумаешь, чем маленькому ребенку, который не перенес то множество инфекций, которые переносят все наши дети, формируя таким образом собственный иммунитет, пересадить органы и дать иммуносупрессию. Его погубит любая тяжелая инфекция, потому что он ожидаемо переживет ее гораздо сложнее, чем его обычные сверстники с обычным состоянием здоровья.
Чем меньше ребенок, тем меньше сформирован иммунитет, тем больше его нужно вакцинировать. Но, видимо, лечащие доктора Васи не предполагали для него «дальнейшей» жизни. И не вакцинировали. Мы с таким часто сталкиваемся. Если напрямую говорить — в том, чтобы этот ребенок выжил, дожил до трансплантации и жил после нее, фактически никто не заинтересован.
— Что значит «никто»? Вы сейчас о ком говорите? Врачи? Родители ребенка? Государство?
— Во многом всему виной влияние монетарных стимулов на действия врачей. Трансплантация для регионов — чистый убыток. Ведь оплачивается только сама трансплантация. Но лечение и медицинское сопровождение ребенка после трансплантации не покрывается программой обязательного медицинского страхования, в отличие от диализа, который такой программой неплохо финансируется. Поэтому всякая трансплантация — это убыток.
Фактически у нас трансплантация приравнивается к смерти с точки зрения мотивации врачей. Со смертью, которая приходит свыше, врачам надо бороться. И с трансплантацией, получается, тоже.
— Как?
— Либо своими действиями не подразумевать такого развития событий для ребенка, как трансплантация, либо своими руками урезать доходы, отправляя ребенка на трансплантацию, после которой они получат этого же непростого ребенка обратно в свое распоряжение и вынуждены будут заниматься его медицинским сопровождением практически бесплатно, потому что программ рефинансирования расходов, связанных с медицинским сопровождением таких детей, не существует.
— То есть государство оплачивает только операцию. И дальше — все?
— Именно так. С точки зрения системы финансирования, идеальная ситуация — когда трансплантация проведена, операция закончена. И в этот момент — больного не стало. Чтобы не травмировать никого, скажу: он испарился. Все будут только счастливы! Такова особенность развития российского здравоохранения на сегодня.
— Как вы работаете над тем, чтобы его улучшить?
— Смотрите, мы делаем приблизительно 10% трансплантаций от потребности в них по стране. Потребность мы оцениваем, экстраполируя западные регистры на российское население. Детям до трех лет мы пересаживаем почку около 10 раз в год.
— А остальные 90 процентов? С ними что происходит?
— Я думаю, что половина детей с тяжелой почечной недостаточностью получает диализ по месту жительства.
— А другая половина?
— А другая половина не выдерживает. То есть диализ до смерти. Без каких-то серьезных размышлений и подготовки к трансплантации. А потом — все. Менять эту ситуацию, наверно, можно. Но для этого надо, прежде всего, разобраться с заинтересованностью врачей на местах.
— Сценарий, в котором ребенку пересаживают почку и он возвращается в нормальную жизнь, все еще требует каких-то дополнительных разъяснений?
— Такого сценария во многих регионах просто не существует. И наша задача — мотивировать врачей участвовать в таком сценарии. Или просто поверить в его исполнимость. Но даже это непросто. Мы не можем изменить менталитет людей одномоментно. Но возникла идея, что врачам, тем самым врачам из регионов, нужно показывать хорошие примеры. Показывать, что того, кого они привыкли заочно хоронить, можно выходить, довести до трансплантации, провести эту трансплантацию и потом реабилитировать настолько, чтобы со спокойным сердцем отпустить в здоровую жизнь.
Из этой простой идеи семь лет назад родилась Международная школа детских трансплантологов. Мы бесплатно собираем региональных врачей. Привозим мировых светил, которые рассказывают им о международном опыте, дают статистику, делятся опытом…
— К вам должны очереди стоять, чтобы попасть на эту школу.
— Ну, не так бодро все идет, конечно, как вы себе представляете. Но это — огромная работа, которую невозможно провернуть разом: за год или даже за пять лет. И мы действуем поступательно. Привозим докторов, в которых верим, надеваем на них наушники, даем хороший перевод, чтобы слушать топовых лекторов из Европы и Америки, которые, в основном, рассказывают, как это можно делать в нормальном мире, как это все может получаться.
— Работает?
— В очень многих регионах существуют хорошо мотивированные специалисты, которые этим детям отдают свою душу, время и силы. Им нужны знания, опыт и, главное, вера, что все получится. Поэтому у Школы две цели: первая — мотивировать людей, вторая — дать им образование, дать знания.

pochka.org
— Школа — это государственный проект?
— Нет. Это личная инициатива. Школа не является частью системы российского здравоохранения. Но мне кажется, что она совершенно необходима для того, чтобы врачи не теряли ориентиров. Особенно в условиях, когда государственные системы финансирования и программы создания медицинских технологий пробуксовывают и не позволяют с государственных позиций стимулировать развитие программ трансплантации и обеспечения качества жизни пациентам, пережившим трансплантацию. Нам остается уповать только на энтузиазм врачей и всячески его стимулировать и развивать.
— Какие-то ощутимые результаты работы школы уже есть?
— Пожалуй, да. Дети, за которых мы боремся, раньше в регионах просто умирали без всякого диализа. Сейчас хотя бы их на диализ берут. Пока проблема в том, что по какой-то причине докторам кажется — трансплантацию сделать невозможно. Может быть, лет через пять мы с вами встретимся и я с гордостью скажу, что трансплантацию уже делают даже на местах, на местах детям пересаживают почки. И в тех случаях, когда врачам кажется, что это невозможно, я надеюсь, наша школа покажет, что иногда трансплантацию можно сделать в невозможных случаях.
И тут зарубежный опыт — бесценен: как они ведут регистр, как слаженно, командно работают, чтобы довести ребенка до пересадки и реабилитировать после нее, как они трясутся над каждой человеческой жизнью, а не над какими-то общими показателями, которыми можно впечатлять чиновников, но за которыми стоят смерти, не попавшие в статистический отчет.
— А вам-то самому зачем все это надо? Вы — заведующий отделением, один из успешнейших и уважаемых в стране врачей. У вас очередь из пациентов. Вас приглашают на всякие международные конференции делиться опытом. Вы вполне можете сказать: мы тут, в России, в РНЦХ сами с усами. Не нужно нам ничего развивать, не надо нам никаких заграничных учителей. Это будет в русле современных тенденций.
— Понимаете, медицина — такая область, которая не может быть эффективной в отдельно взятом отделении, в отдельно взятом месте. Современная медицина вообще не может развиваться в условиях изоляционизма. Ежедневно становятся известными результаты кучи исследований, чужой опыт, который можно применять у себя. То есть у нас нет, слава Богу, железного занавеса: бери, учись, двигайся вперед. И мы стараемся придерживаться этой политики полной прозрачности, участвуем в западных регистрах, а они — интенсивно потребляют нашу информацию.
Но только это, увы, касается каких-то отдельных людей, а не профессионального сообщества в целом. И это тянет нас назад. Потому что на застой обречены те части профессионального сообщества (слава Богу, оно не монолитно как гранит, как это было раньше), которые сами себя обрекли на изоляцию. Я мечтаю о том, что наступят времена, когда ничто — ни чьи-то личные амбиции, ни устройство системы, ни принципы монетарных поощрений — не будет помехой для выполнения наших прямых профессиональных обязанностей: спасать детей.
— Верите, что такое время наступит?
— Надо сделать все, чтобы наступило. Знаете, в конце концов, это же редкий подарок, привилегия даже — возможность спасти кого-то. Нельзя допускать даже в мыслях, что по каким-то внешним причинам этой привилегией вдруг можно перестать пользоваться.

