
«Конечно, помогут!» — деловито ответит церковная матрона-свечница. — «Вот был такой пьяница, Вонифатий, а потом стал мучеником. Он помогает. Тебе надо заказать ему молебен — батюшка по пятницам служит. А по субботам — иконе Неупивамая Чаша и Нечаянная Радость, попеременно».
* * *
Рим начала четвертого века. Это уже почти провинция. Нет здесь императорского величия — Диоклетиан перенес столицу в Никомидию. «Захолустье, до которого нет дела, вот что случилось с великим Римом!» — вздыхают патриции. — «И что за нравы! Виданное ли дело раньше — патрицианке сожительствовать с рабом?» — вторят кумушки-матроны, их жены. Для римской традиции — традиции языческой — невозможно и отвратительно видеть благородную римлянку, избравшую раба. А христиан в Риме мало. Рим — языческая глубинка.
«Да, — порой недоумеваем и мы, — почему Аглаида и Вонифатий не поженились, не покаялись, не обвенчались? Зачем городить такой огород — привозить мощи мучеников, надеясь на прощении грехов (странная логика!), если можно вступить в законный брак?»
В том-то и дело, что нельзя. Невозможно.
Нельзя по римскому закону было Аглаиде, дочери патриция, вступить в законный брак с рабом. Даже если она отпустит его на свободу. Они не могли пожениться. В этом и была их трагедия, которая часто ускользает от нас, привыкших видеть в античной распущенности подобие распущенности современной.
«Что мне этот штамп в паспорте?» — говорят сейчас люди, живущие, как они считают, в «гражданском браке».
Аглаида и Вонифатий многое, если не все, отдали бы за этот «штамп» — за право называться мужем и женой перед законом. Но это было абсолютно невозможно. Dura lex, sed lex. Закон суров, но это закон. Римское общество его блюло, не принимая в расчет искренности чувств и благородства человека, рожденного рабом.
Однако Аглаида не обращала внимания на закон. Она имела свободу — и могла позволить себе эпатировать нравы своих соседок-матрон. «У нас все равно захолустье, — смеялась она, — кому какое дело, кого я люблю? Да, люблю раба и варвара — и он любит меня! А вы-то любите своих патрицианских мужей, ханжи?»
То — не Греции разум, не Рима закон,
По-славянски и сразу — все ставить на кон.
…Горечь рабства зальется пьянящим вином,
И хозяйка смеется, пируя с рабом:
«От славянских просторов, от скифских степей
Необузданный норов летящих коней!»
 Жизнь человека тогда была коротка — многие умирали, едва перешагнув тридцатилетний рубеж, а многие и не доживали до него. Осенние простуды и летние несварения желудка уносили ежегодно сотни жертв. Жизнь раба была еще короче — еще не старый мудрец Сенека с отвращением оттолкнул своего ровесника, детского товарища по забавам, с трудом узнав его в старом, беззубом, отвратительном старике. Carpe diem! Лови день! Наслаждайся жизнью!
Жизнь человека тогда была коротка — многие умирали, едва перешагнув тридцатилетний рубеж, а многие и не доживали до него. Осенние простуды и летние несварения желудка уносили ежегодно сотни жертв. Жизнь раба была еще короче — еще не старый мудрец Сенека с отвращением оттолкнул своего ровесника, детского товарища по забавам, с трудом узнав его в старом, беззубом, отвратительном старике. Carpe diem! Лови день! Наслаждайся жизнью!
«Надежды долгие отрежь. Пока мы говорим, уходит завистливое время: лови момент, как можно меньше верь будущему» — писал благородный римлянин, Гораций, в своих одах.
Откуда был родом раб Вонифатий, неизвестно. Скорее всего, ребенком он был продан в рабство, и с трудом мог припомнить своих отца и мать, и свою страну, и свой язык, и свое настоящее имя — будь то готское или славянское. У него появилась имя-кличка — «хорошо делает», Бонифациус. Да, рабам не давали благородные имена — Гай или Тит. Так называли римлян. А раба можно назвать «полезный» (Онисим»), или в насмешку — «замаранный» («Ардалион»), или просто по стране, которая была его родиной — «сириец» (Сир). Или вот, неплохое имя — Бонифациус, пришедшее в русские святцы через византийское греческое произношение как Вонифатий (или даже Фонифатий — совсем чудно).
Хоть и мало было в Риме христиан, но все же они были. И Вонифатий с Аглаидой им сочувствовали. Только они не могли стать христианами — для этого надо было разорвать «беззаконное сожительство». Для нас это просто — получить штамп в паспорте и, пожалуйста, в любом храме обвенчают. А как быть, когда закон римский? Ни христианский епископ, ни любой другой христианин не нашел бы иного выхода для Вонифатия и Аглаиды, как прервать беззаконие — разъехаться и не видеть друг друга. Так, после долгих колебаний, отослал от себя римлянин Августин свою горячо любимую жену-неровню, оставив себе их общего сына. Это была трагедия, но иных решений античный Рим не знал. Dura lex, sed lex. Закон суров, но это закон. И если государственный закон считает нечто недопустимым, то и христиане следуют ему.
Поэтому Вонифатий не мог обвенчаться с Аглаидой «без штампа в паспорте» — у знакомого батюшки, как практиковалось у русских неофитов девяностых годов двадцатого века.
Вход на христианское собрание блудникам Аглаиде и Вонифатию был заказан. Навсегда. Потому что рабу не дано стать патрицием. А закон нерушим.
 Безвыходная ситуация. Вонифатий, сочувствовавший и гонимым христианам, и вообще несчастным людям, добрый и, как думала Аглаида, безответственный, казалось, смирился — ну не берут нас в христиане, и не берут. И выпивал неразведенного водою вина, потому что горе надо было как-то залить. Аглаида волновалась — ее папа-патриций и его друзья на пирах всегда пили разведенное водою вино. «Пьяница! — в сердцах кричала она незаконному мужу, за которого при всем их обоюдном желании не могла выйти законно замуж. — Пьяница! Долей воды! Не хлещи ты его неразбавленным!»
Безвыходная ситуация. Вонифатий, сочувствовавший и гонимым христианам, и вообще несчастным людям, добрый и, как думала Аглаида, безответственный, казалось, смирился — ну не берут нас в христиане, и не берут. И выпивал неразведенного водою вина, потому что горе надо было как-то залить. Аглаида волновалась — ее папа-патриций и его друзья на пирах всегда пили разведенное водою вино. «Пьяница! — в сердцах кричала она незаконному мужу, за которого при всем их обоюдном желании не могла выйти законно замуж. — Пьяница! Долей воды! Не хлещи ты его неразбавленным!»
«Пусть патриции разбавляют! — с деланным равнодушием отвечал Вонифатий. — Мне и такое сойдет!»
Конечно, им, античным людям, не приходило в голову, что можно пить спирт «Рояль», самогонку, бормотуху, «красную шапочку», настойку боярышника и — по страшной, непоправимой ошибке — метиловый спирт. Пьяница в античности — это тот, кто пьет неразбавленное вино.
Но как заглянуть в душу римского раба — вполне успешного в своей рабской жизни — сочувствовавшего христианам в начале четвертого века? В житии написано — он много молился…
…Отчаяние. Когда не на что больше надеяться.
Это чувство было знакомо безымянному иконописцу, подписавшего безымянную фигуру «человека некоего грешника» перед иконой Богородицы «Нечаянная Радость» именем «Фонифатий».
* * *
…Он сидит в лодке, воздев руки в жесте призывающего Проповедника — зачем вышел ты из лодки, Петр, называя себя человеком грешным? Для грешных пришел Я, Сын Мариин, не для праведных.
Весь мир — Его лодка, Его ковчег, корзинка Нового Моисея, которого нашла юная и мудрая царская дочь, неизвестная Мария. И корзина из тростника стала спасительным ковчегом Нового Ноя, стала новым миром и Царством Новым — ибо — посмотри! — руками пробитыми, перстами окровавленными творит Он все новое.
 Видишь?
Видишь?
Крылья голубки
прорвали навек
окоём.
Слышишь?
Имя Его
призывают вдвоём
и втроём.
Он пролился
росой на траву,
на пустыню дождём,
Он свободен —
Он стал посреде,
прободенный копьём.
Видишь?
Он одолел,
и восшел,
и воссел со Отцом.
Целование мира —
о Нём.
И вознесенный, Живой и пронзенный, Он всех привлекает к Себе.
Вокруг — тьма. Жизнь — только в Лодке его, где парус живет Духом Его, наполняющим Собою Мать Его, пронизывающим светом Своим Лик Ее — начало нового творения, ибо — посмотри! — Он творит все новое.
Закланный Агнец, творящий новое, не хочет смерти грешника — прииди, друже Петре — хоть ты не верен, Бог твой, Иисус Христос, пребывает верен — отречься не может Он от Себя, и от Той, от которой взаймы взял плоть, ибо — посмотри! — творит Он все новое.
Нет ничего в мире надежного, чему можно сказать «аминь!», и ничего не останется в мире, когда придет Аминь, Свидетель верный, с язвами гвоздинными на руках, воздевающий в дни сии руки за каждой Евхаристией за всех и за вся.
Когда совьется небо, останется только Лодка, чьи паруса полны Духа.
Взойди же, друже, в нее. Я назвал тебя другом, потому что сказал тебе все и отдал жизнь за жизнь твою, за живую лодку, что приплыла для тебя и ждет…
* * *
Вонифатий был молод, но не инфантилен, как большинство современных юношей его возраста — которые только-только начинают свою взрослую полу-самостоятельную жизнь в двадцать три года, снимая квартиру для себя и своей девушки за папо-мамины деньги. «Он еще совсем ребенок!» — всплескивает его мама руками, утирая глаза от умиления. О, Вонифатий был вовсе не ребенок в свои юные — по нашим меркам — годы. У Аглаиды тоже не было умиляющейся мамы или мамы, которая помогла бы советом.
Аглаида очень переживала, что они с Вонифатием не могут стать христианами, не расставшись. Но, быть может, поможет чудо? Женская религиозность сильнее мужской — и требует активных действий. Мощи мученика — разве это не источник чудес? Ведь раньше молились героям — а теперь новые герои, христианские мученики, творят чудеса — все про это знают.
Может быть, христианский мученик-герой совершит чудо — вот такое, маленькое—маленькое, совсем небольшое, чтобы Аглаиду и Вонифатия приняли в христиане без «штампа в паспорте»? Или, вдруг, Вонифатия сделают патрицием… или хотя бы всадником. Невероятно? Но она и молилась о чуде! Тогда она сможет выйти за него замуж, и никто — ни матроны, ни христиане — их не осудят.
Поедешь ли, Вонифатий? Да, поеду. Конечно, Аглаида. Только зря ты надеешься, что тебя крестят… Да ладно, не плачь, не сердись — я же согласился. Привезу тебе тело мученика, положишь в усыпальницу, будешь там молиться — только не реви.
Вонифатий организовал поездку со знанием дела. Рабы уважали его — он был не бесхребетным добряком, из которого можно вить веревки, а настоящим хозяином. Ну, почти настоящим.
У ворот он обернулся — в последний раз! — и спросил:
— А вдруг меня привезут вместо мощей? Положишь меня в твою усыпальницу? Уж больно там красиво этот греческий художник мозаику из рыб да павлинов выложил. Я бы с удовольствием там полежал!
Аглаида схватилась за голову.
— Как ты можешь? Вонифатий, как ты можешь?! Да ты понимаешь, зачем ты едешь? Никакого у тебя благоговения! Никакой религиозности! Ты прямо как атеист-эпикуреец! Не напейся там в усмерть, эпикуреец мой!
И она все-таки его поцеловала. В последний раз. На прощание. Она его любила. И он ее тоже. Просто нельзя было им пожениться. Dura lex, sed lex. Закон суров, но это закон.
По закону им с Аглаидой нельзя ко Христу. Без закона — нельзя тем более. Но, быть может, есть дверь, которая открыта ко Христу вопреки всякой безнадежности? Ведь он долго молился Христу, раб Вонифатий. Ведь Он сказал — «стучащему отверзется». И Вонифатий стучал.
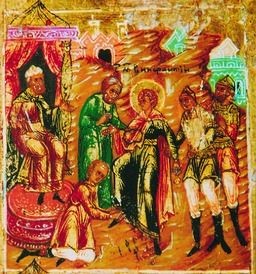 И дверь открылась. Дверь, ведущая в его сердце. И вошел Христос, и назвал его Своим, и позвал его с Собой. Тот, кто коснулся тайны мартирии, подобен Христу — он свободен от закона.
И дверь открылась. Дверь, ведущая в его сердце. И вошел Христос, и назвал его Своим, и позвал его с Собой. Тот, кто коснулся тайны мартирии, подобен Христу — он свободен от закона.
Он не стал делиться с со-рабами — и они думали, он пьянствует.
А он пил новое вино, то, что нельзя влить в ветхие мехи. И с ним вместе пил Христос.
«От славянских просторов, от скифских степей
Необузданный норов летящих коней!»
Их влечет, собирает, зовет испокон
Тайна Крестная гробных Христовых пелён.
«Со мной страдает Тот, за Кого страдаю я», — так выразила невыразимую тайну мученичества слабая и неграмотная рабыня-христианка, потрясшая своим мужеством видавших виды солдат.
…Так раб Вонифатий стал христианином и вернулся к Аглаиде. И она, в светлых ризах — не брачных, но крещальных — положила его в приготовленную усыпальницу — туда, где пили из чаши два павлина — символы воскресения. Чудо пришло. Ничего не изменилось — но изменилось все.
Прост, как радость, ваш покой,
днем, закату незнакомым,
над горою, солнце, стой,
и молчи, луна, над долом.
Звук, пронзенный тишиной —
пентатоники свирели
вдалеке — напев живой,
якорь, паруса и реи.

