

Ольга Савельева. Фото: Анна Данилова
Врач, которая вела мою первую беременность, была очень пугливая. Говорила постоянно: «Лучше перестраховаться» — и профилактически меня госпитализировала. Если честно, я с удовольствием ложилась в больницу: столько актуальной информации из беременных первоисточников я ни в одном журнале не прочту.
Мне нравилось, что в отделении патологии, куда меня отправляли в регулярную ссылку, лежали женщины от самого раннего срока беременности до самого позднего, и можно было сравнивать животы, диагнозы и судьбы. В моей палате стояло пять кроватей. Могло бы влезть шесть, но в углу был стол, где пациенткам полагалось обедать.
В тот заход мы лежали вчетвером и очень дружили. Три Светы и я. Целыми днями мы болтали без устали, просто не могли наговориться — настолько совпали темпераментами. У нас у всех были начальные сроки беременности и пустяковые поводы для госпитализации (в том плане, что мы ответственно относились ко всем процедурам, но не могли не понимать, что белок в моче — это не смертельно).
Вечерами к нам заглядывала медсестричка и говорила: «Пора выключать свет, и я сейчас не про лампочки». Мы хохотали.
Во вторник я вернулась с планового УЗИ и увидела, что пятая кровать занята новой пациенткой. Там располагалась хмурая женщина с внушительным животом — месяцев на шесть. От обеда она отказалась. Потом от ужина. Лежала, отвернувшись к стене.
Атмосфера в палате стала грозовой и тягостной. Беззаботно болтать, как раньше, не получалось. Хотелось говорить шепотом, а смех звучал как-то неуместно и кощунственно.
Мой муж умудрился передать мне передачку в неприемное время. Там были фрукты и моя любимая подушка с розовыми рюшками: муж хотел, чтобы мне было уютно в своей кровати, даже если она больничная. Я стала угощать фруктами своих однопалаточниц. К новой женщине тоже подошла, протянула персики, сказала:
— Вы не обедали, поешьте…
И тут она вдруг разрыдалась. Громко и протяжно. Чужая забота срезонировала в истерику.
Мы позвали медсестру, та принесла успокоительное.
Поздно вечером Надя (так звали женщину) рассказала нам свою историю. Собственно, истории никакой и не было. Всю историю можно было уместить в три-пять слов. Просто ее, беременную, избил гражданский муж. И куда ей теперь — не понятно. Выйдет из больницы — и некуда. К старенькой маме в покосившуюся хибарку на краю деревни, на краю страны? Где ни врача, ни учителя, только спившиеся односельчане? С младенцем? А других вариантов нет.
Той ночью мы впятером сидели на Надиной кровати и обещали ей, что все наладится. Что мы найдем варианты. Поможем снять квартиру. Придумаем работу. Света сказала, что слышала о кризисном центре для беременных, оставшихся без средств к существованию.
Мы гладили Надю по плечам и по голове, шептали ей: «Главное, что с ребенком все в порядке», — а она плакала и говорила: «Девочки, что бы я без вас делала!»
Когда она вышла умыться, мы со Светами успели обсудить, что хуже гада, чем мужик, поднимающий руку на беременную женщину, невозможно придумать.
Я в ту ночь долго не могла заснуть. Меня потрясла ее история. Я часто пытаюсь поставить себя на место другого человека, чтобы понять мотивы его поведения, но представить себя на месте Нади я категорически не могла: сердце начинало учащенно биться, когда я представляла, как кто-то замахивается на мой живот. А представить в роли «кого-то» любимого мужа не могла тем более.
Утром я проснулась рано и случайно подглядела, как Надя переодевается. У нее на животе, слева, была огромная синяя гематома.
Я ужаснулась и не смогла отвести взгляд. Надя порывисто отвернулась. И я тоже. Нам обеим было стыдно, только по разным причинам. На утреннем обходе врач осмотрел внимательно Надин живот и спросил сочувственно:
— Вы заявление на него написали?
Мы все поняли, о ком речь.
— Нет, — сказала Надя. — Не хочу ни с кем воевать.
Когда врач вышел, одна из Свет спросила у Нади:
— Ты уверена, что не хочешь его наказать?
— Уверена. Я во многом сама виновата, — ответила Надя.
— Сама себя ударила ногой в беременный живот? — не выдержала я.
— Он не бил меня в живот, он толкнул, и я сама налетела на спинку кровати…
Мне показалось, что Надя его защищает, но это было так невероятно, что я убедила себя, что мне именно показалось. Какая разница: толкнул или ударил. Это в любом случае насилие.
На следующий день мы отыскали телефон кризисного центра для беременных женщин, оставшихся без средств к существованию, звонили туда, диктовали паспортные данные Нади, описывали ситуацию и необходимую помощь. Заявку у нас приняли, обещали рассмотреть и разработать индивидуальную программу реабилитации для Нади (поиск работы, жилья и так далее).
Все это время сама Надя безучастно лежала на кровати. И в тот день, и дальше. За полторы недели она умудрилась, почти не вставая, похудеть на семь кило. Оказывается, стресс весит примерно килограмм живого веса в день. Ее синяк на животе стал желтым, она мазала его какой-то мазью на основе облепихи, которую подарила Света.
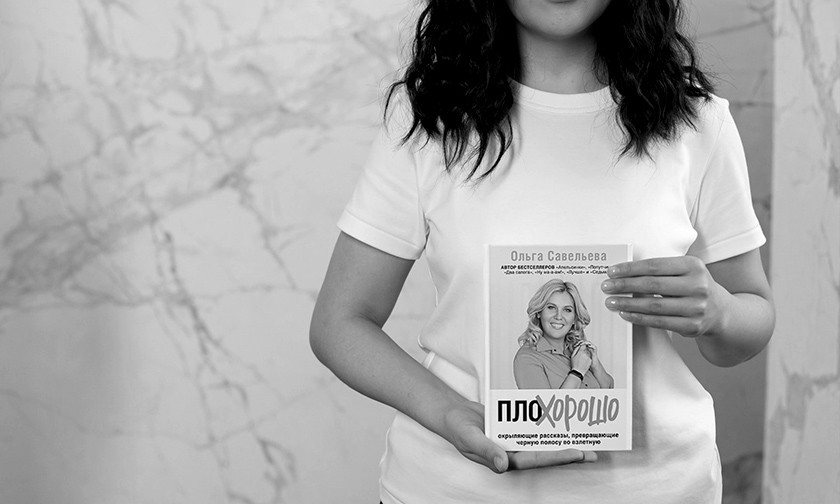
В среду, спустя десять дней, я надолго ушла из палаты: собирать документы на выписку и выяснять бюрократические подробности, почему нельзя уйти на выходные. Очень хотелось скорее домой. Когда вернулась, увидела, что на Надиной кровати сидит небритый мужчина, а самой Нади нет.
— А где Надя? — спросила я.
— Ушла воду в банку наливать, для цветов, — мужчина кивнул на астры.
— Ясно, — кивнула я.
Тут вернулась Надя, а одна из Свет из коридора заглянула в палату, схватила меня за руку и утянула в коридор.
— Это он, — зашептали Светы.
— Кто «он»? — не поняла я.
— Муж. Надин…
У меня вытянулось лицо.
— Наверное, их нельзя оставлять одних, — сказала я испуганно. — А вдруг он опять?..
В моем понимании человек, который однажды ударил беременную женщину, живет очень напряженно: у него все время чешутся кулаки, а он их упорно чешет, пытаясь остановить самого себя от очередного удара.
— Ну, мы рядом. Тут. Если что. Над душой стоять тоже не вариант. Им же надо про все поговорить. Про вещи, про развод… — неуверенно предположила Света.
Мы честно простояли полчаса в коридоре, а потом решили одну из Свет отправить на разведку. Было как-то тревожно.
—Девочки, да заходите все, что вы как не родные, — крикнула Надя в робко приоткрытую Светой дверь.
Надю было не узнать. Разрумянилась, волосы прибрала, халат кокетливо подвязала, талию отметила. Какое-то воплощение стокгольмского синдрома, в котором жертва пытается понравиться террористу.
— Это девочки мои, я тебе про них говорила, — смущенно лопотала Надя, и было непонятно: это она нас смущается или его. — Три Светы и Оля, представляешь?
Она неестественно засмеялась. Всем было ужасно неловко.
— Девочки, хотите зефир? — Надя кивнула на белый сливочный зефир на тумбочке.
Я такой обожаю. Особенно мягкий и свежий. Но от Надиного мужа я не хотела зефира. Я хотела, чтобы он ушел. И больше никогда не приходил. Ни в нашу палату, ни в Надину жизнь. Он, будто услышав, стал торопливо собираться.
На прощание они обнялись и поцеловались. У нас на глазах. А потом Надя пошла его провожать до лифта: дальше нас не пускали. И было непонятно, почему они не обнимались там, у лифта.
Надя вернулась в палату через пять минут. В воздухе было разлито такое тугое молчание, что даже ходить сложно: приходится преодолевать физически ощутимое осуждение.
— Ты его поцеловала, — хмуро произнесла вслух Света наши общие мысли.
— Да. И что?
— Целуют тех, кого простили, — пояснила Света.
— Мы помирились, если вы об этом, — ответила Надя с вызовом.
В палате висела грозная тишина.
— Помирились с человеком, который ударил тебя, беременную? — уточнила Света.
— Помирились с человеком, от которого я беременна, — пояснила Надя и добавила как-то зло: — Жалею, что рассказала вам.
— Это называется созависимость, — вынесла вердикт Света.
— Это называется безвыходность, — вздохнула вторая Света.
— Это безответственность! — возмутилась я.
— Это называется любовь, — отрезала Надя. Мы молчали. Не знали, как реагировать.
Муж Нади был нашим врагом десять дней. Нашим общим врагом. Мы за эти дни целый план спасения разработали, где у каждого была своя зона действий и много важных подпунктов.
Но все это оказалось никому не нужно, ведь выяснилось, что букет жухлых лохматых астр — вполне достаточное извинение за гематому на беременном животе.
— В конце концов, это не ваше дело! — громко сказала Надя, не глядя на нас.
«Это было нашим делом, пока не было его», — подумала я, но вслух говорить не стала.
— А ты не боишься, что он опять это сделает? Ударит? — спросила Света.
— Он не ударил, а толкнул. И это было состояние аффекта.
— А если оно повторится, это состояние аффекта?
— Оно повторится у меня, если я останусь одна, — зло сказала Надя. — Вот вы тут планы спасения разрабатываете, в чип-и-дейлов играете. Для вас это приключение, будто играете в куклы или в морской бой. А для меня это моя жизнь. Это я, беременная, должна пойти к чужим людям и упасть им в ноги. А вы по домам к мужьям под мышку пойдете. Не надо судить людей со своих колоколен, они разные у всех. С ваших теплых колоколен моей не видно совсем. И ваш план — это как наивный рисунок ребенка фломастерами на ватмане: тут пиф-паф! — убьем злодея, тут бумс! — прилетела фея и превратила золушку в принцессу. Айда на нашу планету, девочки. Тут все гораздо сложнее. Тут живые люди живут, неидеальные. И не судите их за то, что в их кроватках нет подушечек с розовыми рюшами…
Я зарделась. Почему-то решила, что это камень исключительно в мой огород. Ночью я опять не могла заснуть. Мысленно рассуждала, что я вот лежу на сохранении ребенка в городской больнице. Анализы не идеальны, и я готова на все, чтобы малыш родился здоровым. Это мой способ его защитить и сохранить — прогнать белок и лейкоциты.
А кто-то готов лечь в кровать с человеком, который может ударить. Женщину и ребенка. Это опаснее плохих анализов, но человек осознанно делает этот выбор. Почему? А на другой чаше его весов — истерзанная, растоптанная гордость, зависимость от благосклонности чужих людей или, что еще хуже, заброшенная хибарка на краю деревни с покосившейся печкой, и полное бесперспективье. И я со своей розовой подушечкой и нарядным мужем, передающим персики во внеурочное время, не вправе никого судить. Особенно ее.

Фото: jooinn.com
Я сходила в душ. Вернулась. На тумбочке стояла больничная тарелочка, а на ней — зефир. Надя угостила. Она выглядела отстраненной и виноватой. Я не хотела обижать Надю. Точнее, хотела. У меня было чувство, будто Надя обидела меня. Будто я инвестировала свое время, эмоции и ресурсы в ее судьбу, а ей не пригодилось.
С другой стороны, она не просила меня ни о чем. Никого из нас не просила. Просто имела несчастье попасть в нашу сердобольную палату и имела неосторожность расплакаться при нас. Дальше — это все была наша инициатива.
Я увидела, что зефир лежит у всех нас, и у каждой Светы тоже. И никто из нас к нему не притронулся. Но, по сути, предъявить Наде нам нечего — только свои несбывшиеся роли великих спасительниц. Я не адвокат ее неродившегося ребенка, который живет в животе, покрытом гематомой. Надо просто взять и откусить этот чертов зефир. И сказать:
— Какой вкусный и свежий зефир!
Это будет означать: «Надя, прости, что лезем в твою жизнь. И причиняем счастье».
Мне нравится одна знаменитая мысль: «В семье двух психологов фраза „этот кофе ужасен” означает лишь то, что кофе очень плох». Очень часто в семьях бывает так, что человек говорит: «Какой ужасный кофе!» — но при этом ненавидит не сам кофе, а человека, который его сварил.
Я смотрю на Надю, и мне хочется сказать ей: «Какие ужасные цветы, эти астры, Надя!», и в этот момент я буду ненавидеть не цветы, а того, кто их принес. Зефир тоже принес он, но подарила Надя. Я не знаю, как поступить.
Надя смотрит в окно. Уже час стоит и смотрит. Наверное, она плачет, но нам не видно. Наверное, надо ее обнять, но так сложно переступить через лохматые астры.
— Я получила урок, девочки. Теперь нужна работа над ошибками, — вдруг говорит Надя кому-то в окне. — Я не дура. Все это, когда случилось… Я как-то поняла, что я не жена, а бесприданница. И что со мной вот так можно. А если что, то всегда есть астры. А со мной так нельзя. И астры — это просто астры. Для души нет крема с облепихой, а там тоже синяк. И он не пройдет. Он оставит рубец навсегда. Я дам шанс. Не ему, как он просит, а себе. Попробую простить. Вдруг это все, правда, как страшный сон. А если нет…
Надя замолчала. Голос ее дрожал.
— А если что, у тебя есть мы, а у нас есть план, — сказала Света, подошла и обняла Надю.
— Может, он и дурацкий, но он хотя бы есть, — сказала вторая Света.
— Я лично его придушу, если что, и букет этот первоклассника знаешь куда засуну? — сказала третья Света, и мы все засмеялись.
— Девочки, что бы я без вас делала, — вздохнула Надя.
Я откусываю кусок зефира. Он свежий и мягкий, я такой люблю.
— Какой вкусный зефир, Надя, — говорю я громко. — Спасибо.
Эта фраза означает, что жизнь очень сложная. И что с моей колокольни видно, что Наде нужна поддержка, а не советы, а это, как выяснилось, не одно и то же. И что я очень люблю зефир.


