Он перевел «1984» и «Над кукушкиным гнездом». Переводчик Виктор Голышев

«Невозможно объяснить, почему перевод хорош»
— Вы берете в руки переводной текст и понимаете сразу, хороший ли это перевод, даже не видя оригинала?
— Я вообще мало чужого читаю — пока переводишь, свое надоедает. Разве что дарят, но дарят мне люди, которые хорошо переводят. Как понять, что перевод хорош, — этого не объяснишь. Есть, конечно, какие-то формальные вещи — фраза неблагозвучна, слишком длинная, плохо устроена. Но дело даже не в них. Как понимаешь, что Тургенев — хорош? Или вот пейзаж за окном. Это какие-то нутряные дела.
— А вдруг по-русски хорошо, но в оригинале совсем не то?
— Смысловую невнятность всегда почувствуешь. Даже если это гладко написано, то что-то не стыкуется. Но повторю, я мало читаю. Либо переводы студентов, либо мне дарит книжку приятель, и я ее прочту из вежливости. Вот «Великого Гэтсби» мне подарил [переводчик] Сергей Таск, я его прочел. Этих переводов несколько, первый делала Калашникова, а Таск, по-моему, уже третий. Не могут найти наследников и заказывают новые переводы, хотя и старые были хороши. Это технический вопрос.
— Вы работаете со студентами. Есть ощущение, что переводу невозможно научить?
— Научить можно каким-то мелочам, но довольно быстро становится ясно, кто сможет, а кто нет.

— Каким мелочам? Что порядок слов — это всегда подлежащее, сказуемое, дополнение?
— Ой, мне тут прислали правку к роману, который я недавно переводил. Там живого места нет, мне все поправили на прямой порядок слов. Невозможно читать, засыпаешь на третьей странице. В отличие от английского, по-русски строгого порядка слов нет.
Человек учится по ходу дела, если у него есть вкус на фразу, нюх. А из мелочей — ну, например, лучше избегать случайных аллитераций. Вообще все состоит из мелочей, ничего капитального. И ты вполне можешь их освоить сам, сокращая время на это несчастное обучение.
«В языке размещаешься со временем»
— Я была уверена, что у вас филологическое образование, но вы окончили МФТИ (Московский физико-технический институт. — Примеч. ред.). Как вы учились переводу?
— По книжкам.
— Все читают книжки, не все переводчиками становятся. Что случилось?
— А совершенно непонятно, что случилось.
Я был в академическом отпуске, сидел дома и переводил техническую литературу. А потом мой приятель, Эрик Наппельбаум, сказал: «У меня тут рассказы писателя Сэлинджера».
Мы еще даже не знали, как правильно фамилия произносится — Сэлинджер или Салингер. Книгу ему преподавательница дала, с которой он когда-то английским занимался. Мы поделили рассказ пополам и за два дня перевели. Потом еще неделю друг друга правили и смеялись. Это занятие мне подошло.
— Откуда вы так хорошо знали английский?
— Я его до сих пор не очень хорошо знаю. Как и русский — возьмешь словарь Даля, две трети слов незнакомых.
— Это же не вопрос количества слов, а что-то другое.
— Конечно, ты в языке размещаешься со временем. Когда я читаю книгу, я не перевожу ее про себя. Бывает даже, что английское слово знаешь, а русское вспомнить не можешь. Начинаешь думать по-английски.
Английский я учил в школе, плюс ко мне еще частным образом ходила англичанка, мы занимались лет пять. В институте у нас тоже был сильный английский — попалась такая преподавательница, что даже мне приходилось заниматься, хотя я знал язык лучше других.

— Так вот вы перевели рассказ Сэлинджера — какой?
— «Лучший день банановой рыбы», который потом в переводе Райт назывался «Хорошо ловится рыбка-бананка».
— «A perfect day for banana-fish» — у вас ближе к оригиналу, но именно название Ковалевой-Райт стало классическим. Вам оно нравится?
— Нет, не нравится, хотя никакой катастрофы тут нет. Просто там же не про это. Рыбка помирает, герой совершает самоубийство. До этого он разговаривает с ребенком, но без всякого сюсюканья. Откуда бананка-то?
Но Райт перевела и «Над пропастью во ржи», которую подростки до сих пор читают. Все, что пошло от нее, стало классикой, в том числе и рассказы, хотя не все переводила она.
Мы носили наш перевод по разным редакциям, но никто не хотел брать, потому что новых писателей опасались. Но в конце концов Борис Балтер отнес наш перевод в газету «Неделя», и там его напечатали. У Ковалевой-Райт перевод вышел одновременно с нашим или раньше.
— Деньги вам заплатили?
— Какие-то заплатили, но совершенно не было мысли, что этим можно зарабатывать. Позже, когда мне надоело работать в НИИ и я понял, что надо уходить, встал вопрос о деньгах.
Но поначалу перевод был хобби.
Раз в год переводишь рассказ, тратишь на это месяца три, потом ждешь, пока его кто-нибудь напечатает. Напечатали — можно один раз сводить приятелей в ресторан.
Либо сходить одному, тогда на несколько раз хватало. Ходил не для шика, а просто поесть. Потому что жил в Москве один, отец с мачехой жили в Тарусе.
— Вы сказали, что не переводили уже пять месяцев. Это много?
— У меня был только один такой период в жизни, при советской власти. Не было работы, я начал фотографировать. Купил сыну аппарат «Смена» и от нечего делать решил попробовать сам. Потом бросил, поскольку сам проявляешь, сам печатаешь, большая волынка.
«Если можно читать по-русски, я всегда читаю по-русски»
— Есть какие-то переводы и тексты, которые с нами с детства. Со мной, например, «Алиса» в переводе Демуровой, «Карлсон» в переводе Лунгиной, «Большие надежды» в переводе Лорие.
— О, я тоже люблю «Большие надежды». Когда я прочел эту книжку — в старшей школе или уже в институте — то подумал: «Как хорошо написано!» И впервые задумался про перевод. Я навсегда остался почитателем этой книги.

— Чем лучше перевод, тем меньше знают фамилию переводчика. Разве это справедливо?
— Так мир устроен. Мы знаем, что «Алису в Стране чудес» перевела Нина Демурова, потому что имеем какое-то отношение к литературе. А в принципе, я думаю, что дети не знают этого.
— Кстати о детях. Сейчас считается, что детей нужно учить на русской литературе. Но лучшие детские книжки пишутся на иностранных языках, те же Роальд Даль или Джоан Роулинг. Как вы думаете, первый текст, который человек читает, должен быть на родном языке?
— Мне кажется, да. «Дядя Степа» Михалкова, Маршак, Чуковский. Человек еще свой собственный язык плохо знает, пусть его учит.
— А как же «Карлсон», «Винни Пух» и «Алиса»? Мне, например, читали «Винни Пуха», когда я еще сама читать не умела. Это неправильно было?
— Я думаю, что правильно то, как само собой происходит. А что вместо этого — «Военную тайну» Гайдара? Честно говоря, я этих книг сам не читал, потому что, когда я рос, переводной детской литературы почти не было. Читал уже взрослым, потому что все интеллигенты это читали.
— По-русски?
— Если можно читать по-русски, я всегда читаю по-русски.
«Когда я в 40 лет впервые приехал в Америку, меня там ничего не удивило»
— Когда вы переводили, у вас было ощущение, что вы работаете с мертвым языком? Шансов увидеть даже носителей этого языка было немного.
— Это у вас не много. А у меня вообще их не было.
— Вы переводили, не зная реалий чужой страны. Это же как ляпнуть можно.
— Мне кажется, я не ляпал. Если про Америку переводишь, то ты читал Марка Твена, О.Генри. После «Тома Сойера» страна не может быть чужой, как и после прочтения «Доктора Айболита». Это уже твоя страна.

— Да вы же сами сказали, что непонятно было, Сэлинджер он или Салингер. Как быть, когда просто не знаешь реалий?
— А фильмы на что? Я помню, первое время, когда американские фильмы показывали, всегда еще смотришь, как там жизнь устроена. Но с Сэлинджером никакой проблемы не было.
Когда я лет в 40 приехал в первый раз в Америку, в Нью-Йорк, меня ничего не удивляло. Ты же читал до этого «Одноэтажную Америку». Когда я поехал туда, мне было лет 40. Я много перевел к тому времени.
«Я не умнее вас, а только старше»
— Язык на слух понимали?
— Да и говорить мог, не то что сейчас. Потому что [разговорный язык] уходит без тренировки. Проблема была, когда я преподавал в Бостоне. Мальчиков я понимал, а вот девочек хуже, потому что, начиная говорить, они не заканчивали фразу. Нужно было очень напрягаться, чтобы понять, я сильно уставал за три часа.
— Вы не могли им сказать: «Заканчивайте фразу, пожалуйста»?
— Я им сразу сказал: «Я не умнее вас, только старше», поэтому замечаний никогда не делал. Тем более это курс creative writing, все будущие писатели. Конечно, не все ими становились, в Америке писательские факультеты есть в каждом университете. А у нас только Литинститут, а остальные как-то сами собой учатся.

— Многие из ваших студентов становятся переводчиками? Вы помните кого-то, кто остался в профессии?
— С моей бывшей студенткой Олесей Качановой, которая сейчас преподает, мы последние лет 6-7 переводили пополам. Она же работала редактором на переводе, который мы делали с еще одной моей выпускницей. Лучше переводить вдвоем, потому что в одиночку получается долго, а наши издатели покупают права на ограниченное количество лет. «Шоссе Линкольна» [автор — Амор Тоулз] — это последняя приличная книжка, которую мы перевели. Про четырех ребят, которые едут через полстраны, и из них в живых остаются двое. Увлекательный, по-моему, роуд-муви с мрачным концом, который рецензенты почему-то не упоминают.
«Первые переводы я запомнил, а потом началась фабрика»
— У вас есть ваши любимые переводы?
— Пока делаешь перевод, ты его и любишь. А чтобы там потом, со временем, подумать «плохо перевел» — такого со мной не было. Возможно, организм не позволяет себе в этом признаться. Хотя, конечно, первые книжки, которые я переводил, запомнились лучше. Потом началась фабрика.
— «Вся королевская рать» Роберта Пенна Уоррена — это лучшее, наверное?
— Я когда-то ее знал почти наизусть.
— Мы все ее знаем наизусть.
— Нет, я действительно знал почти каждое место наизусть. Сейчас уже не перечитываю.
— Знали, потому что любили английский текст?
— Я любил, ага. Он такой смачный.

— И вы смачно перевели. Тоже разошлось на цитаты. «Ты должен сделать добро из зла…
— … потому его больше не из чего сделать».
Но я своих старых переводов не читаю. С годами стало хуже.
— С годами утрачивается переводческая гибкость?
— Она сильно зависит от оригинала, поэтому лучше переводы не сравнивать. «Вся королевская рать» — очень хороший роман, но не всегда такие переводишь. А все же, пока переводишь, ты книжку любишь. По крайней мере, раньше так было, при советской власти. По заказу я не переводил ничего.
В последние годы не могу сказать, что я все книжки обожал. [Иэна] Макьюэна я много переводил, две книги мне очень понравились, остальные — ничего так, а еще от двух последних я отказался, и мне его больше не предлагают. А может быть, он права отозвал.
Но никогда не задаешь себе вопроса: «Эта маленькая повесть лучше или хуже, чем “Королевская рать”?» Занимаешься этой повестью — и все. И ее любишь.
— Конечно, невозможно жить с сознанием, что лучший перевод у тебя уже был, лучшая роль уже была, лучшую картину ты уже снял.
— Невозможно и не нужно. Зачем себе отравлять жизнь? Что есть, то есть. А сокрушаться о прошлом… Тогда и настоящего не будет, и прошлого не вернешь.
«Перевод всегда хуже, чем оригинал»
— А все-таки есть навык, который с возрастом либо утрачивается, либо, наоборот, наращивается?
— Раньше бывало, что фраза кажется тебе очень офигительной, и ты лезешь из кожи вон, чтобы ее перевести. А со временем ты раза три встретишь эту фразу в других произведениях. Не один в один, но синтаксически примерно так же устроенную, и с теми же словами. Чудно, да? Но я не могу ее второй раз так же перевести, готовым воспользоваться. И вот тут тяжело.

— Почему вы не можете ее перевести так же, если это та же фраза?
— Стыдно. Совесть не позволяет.
— Так не вы же ее написали!
— А я ее перевел.
— Но вы же не соавтор. Вы — посредник.
— Я не соавтор, безусловно. А все же мне это кажется нелояльностью по отношению к писателю.
— Выходит, вы немножко улучшаете писателя?
— Стараюсь выкарабкаться приличным образом, не улучшая. Об улучшении речи нет. Перевод всегда хуже, чем оригинал, потому что книжка ста тысячами нитей привязана к их [авторов] жизни. Когда ты ее переносишь сюда, много этих ниток обрывается — в том числе что-то, касающееся бытовых вещей.
Допустим, в 60-м году мы не знали, что такое Кока-Кола. Потом состоялась американская выставка, на которую привезли не Кока-Колу, впрочем, а Пепси-Колу. А ты, допустим, даже знаешь, что это за Кока-Кола, но что ты с этим знанием сделаешь? Даже если ты сам ее попробовал, читателям это ничего не говорит.
«Я купил себе учебник шофера 3-го класса»
— А еще было такое диковинное животное в старых советских переводах «биржевой маклер». Чем он занимается? Сейчас сказали бы «брокер».
— Если бы мне это попалось, я бы узнал, купил бы какой-нибудь там финансовый словарь или что-то в этом роде. Узнавать приходится довольно много.

С биржей я как-то не сталкивался, но переводил «Заблудившийся автобус» Джона Стейнбека, а он очень прочувствованно относится к реальному миру. Автобус, в котором они все едут, играет важную роль. Я купил себе учебник шофера 3-го класса. Дело не в том, что ты узнаешь новые слова, а в том, что они у тебя наполняются содержанием. Например, коробка скоростей — как она устроена? Задний мост — он у автобуса не такой, как у легковой машины. В общем, я изучал.
— Без каких словарей нельзя обойтись при переводе, и где было в советское время их найти?
— В советское время издавали словари, у меня еще от мамы остались словари — океанографический, справочник строителей. Специализированной справочной литературы вообще было много, и мы много перехватывали оттуда, когда нужно было переводить какую-то конкретику. Нужно тебе узнать, как устроено шоссе или железные дороги — берешь «Словарь дорожника» либо в магазине покупаешь. Их перестали издавать годов с 80-х, а теперь и не нужно, интернет есть.
— Зато не было словарей сленга или фразовых глаголов. Не понимаешь разговорного выражения — и не найдешь нигде.
— У меня два словаря сленга есть, причем из старых времен.
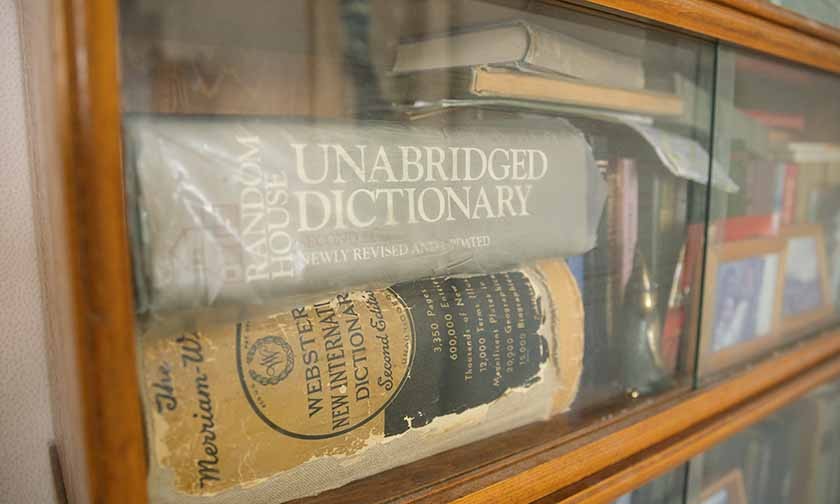
— Сленг устаревает моментально. Словарь есть, а того, что надо, в нем уже нет.
— Это просто означает, что ты должен был брать книгу в тех хронологических пределах, в которых у тебя есть справочная литература. Я бы не взялся переводить то, чего я не могу найти в бумажном словаре, скажем, до 70-го года выпуска. Позже к уже существующим пластам, которые никуда не деваются, прибавляется много новых. Словари вообще не сужаются, только расширяются.
Шпики, топтуны и филеры
— Когда я начинала учить английский, я решила посмотреть американский фильм по учебному каналу. Не поняла ничего вообще, в голове отпечаталось лишь одно странное слово: «чью уонэм». Спустя минут 30 я поняла, что это было «do you want them». У вас бывало такое с фильмами?
— Я фильмы тоже не понимаю, если они не 1950-х годов, когда актеры еще говорили нормально, без «чью уонэмов». Это была совершенно другая речь, а сейчас она очень сместилась в сторону языкового натурализма. Я предпочитаю дублированные фильмы. Это первое.
А второе — надо тренироваться и тогда начнешь понимать.
Однажды мне надо было синхронно переводить что-то про космос. Я две недели слушал радио и вместе с ним говорил.
Чтобы эта машинка заработала, нужно уметь слышать и одновременно говорить. Очень сложный навык. Но любая машинка рано или поздно заведется, если есть желание. Дети у меня все смотрят по-английски.
— У вас было когда-нибудь ощущение беспомощности перед текстом? Не получается — и все тут.
— Один раз я бросил, да. Это был Дэшил Хэммет, «Сто шесть тысяч за голову». И вот там как раз был сленг — совершенно понятный, но не имеющий аналогов по-русски. А надо эту краску оставить, она важная. Взялся и вижу, что получается какая-то блатная феня, а это невозможно. Через несколько лет все же перевел, уже понимая, чем можно пожертвовать для ясности. Нашел, как выкрутиться, чтобы это не было феней и в то же время не выглядело как обычная речь.
— Такие вещи иногда матом переводят, это всегда шокирует.
— Конечно. Слову f**** — не эквивалент наше слово.
— А как с ним быть? Черт?
— Рецепта нет. Конечно, лучше без «чертей» обойтись. Все зависит от того, насколько автор хочет надавить на это высказывание, насколько тяжелым оно должно быть. И тут возможна тысяча слов. Лучше найти то, которое будет самым неожиданным, тогда оно произведет впечатление больше, чем «черт».
Если тебя книжка тянет, если переводишь не через силу, то найдешь. Но с этим детективом я понял, что не надо за всем гнаться. Этот сленговый душок достигается по-русски не путем перевода каждого слова. Не тем, чтобы «сыщика» переводить «шпиком».
— Вы никогда не переводили «сыщика» «шпиком»? Спасибо вам за это! Еще было слово «филер», тоже непонятно что.
— Филер — это который идет по пятам, преследует? Когда я жил в проезде МХАТа, у нас под окном был топтун. Он топтался на месте, потому что начальник жил напротив. Топтунов легко отличить было, они всегда в сапогах и в галошах.

— Можно переводить с нескольких языков? Ваша мама, выдающаяся советская переводчица Елена Михайловна Голышева, переводила и с английского, и с французского.
— И правила переводы с немецкого, хотя плохо его знала. Да еще и в словарь не лазила, а я за каждым вторым словом лезу в словарь. Не знаю, как она [так умудрялась]. Во Франции она хоть пожила год-полтора, пока ее отец работал в торгпредстве, а английский учила один или два месяца с учительницей. Я-то учил двенадцать лет — и без толку.
Мама говорила: «Ты книжку начинаешь читать, встречаешь непонятное слово, а потом тебе еще три раза встретится — и ты поймешь». Она соображала хорошо. Я хуже соображаю.
— Это какая должна быть интуиция! Но когда ты доверяешь интуиции, очень легко ошибиться.
— Мы всегда можем ошибиться. А можем под машину попасть.
«Мало ли кому Бродский стихи посвящал»
— То знаменитое стихотворение Бродского, которое он вам посвятил, — вы его помните наизусть?
— Нет, конечно. Уоррен как-то сказал про своих студентов, что первые четыре строчки все помнят, а дальше не запоминают. Он очень огорчался. Но со мной то же самое получилось.
— Я как раз четыре строчки и помню. «Птица уже не влетает в форточку, девица, как зверь, защищает кофточку. Поскользнувшись о вишневую косточку, я не падаю, сила трения…» Как там дальше?
— Что-то такое «здравствуй, мое старение…» Нет, не помню.

У Виктора Голышева в Москве на Тишинке. 1970 г. Внизу – Иосиф Бродский и Виктор Голышев. Фото: Маша Слоним
— Это гениальный текст про старость, который Бродский вам посвятил, когда ему было 33 года, а вам 35. Почему?
— В этом возрасте начинаешь болеть. Зубы, язва, прочие неприятности. В 30 лет — уже вполне. А у Бродского вообще порок сердца был.
— Но в 35 лет вы себя не чувствовали старым уж точно. Почему он вам его посвятил?
— Это был подарок. Мало ли кому он что посвящал, таких человек сто было. Это необязательно связано с темой стихотворения. Просто захотел и все. Я никак специально к этому не отношусь.
— На вас это вообще не произвело никакого впечатления? И сейчас не производит?
— Так это он написал стихотворение, я-то при чем? «Крови медленное струение…» Всплывают какие-то строчки.
«Я сам себе не интересен»
— Это не такой текст, который вас догоняет по ходу жизни, потому что старость уже наступила? Может быть, в этих стихах сказано то, что вы тогда не понимали, а понимаете, чувствуете сейчас?
— Я знаю, что я чувствую, но это не в связи со стихотворением. Нет.
— А что вы чувствуете?
— Ничего хорошего. Все больше ограничиваются физические возможности, а уж про умственные я не говорю. Четверть мозгов осталась. Ну физически постепенно все убывает — не гребу на лодке, не плаваю, хотя раньше любил, не езжу на велосипеде. Негде, да и неохота. Так постепенно все отваливается.

— Что вам больше всего удовольствия доставляет?
— Никаких сильных чувств ни от книг, ни от чего не возникает. А может, и не было никогда…
Я не думаю про себя вообще. Только чтобы организм поддерживался в рабочем состоянии, мог кашу сварить или перевести что-нибудь. А так — я себе совершенно не интересен. Уже в 17 лет я постановил себе собой не интересоваться. Это было, когда я в институт поступил. Почему-то так связалось — может быть, раньше просто в голову не приходило.
— Почему вы не хотите думать о себе?
— Мороки меньше. А то получается: «Я же такой хороший, что же со мной так плохо поступили». Вечно жить с сознанием, что достоин большего, — зачем? Мир вокруг такой большой, а ты будешь всю жизнь ходить думать, что тебе там доплатили, здесь недодали.
— Зато, когда о себе не думаешь, то смерти не боишься.
— Этого я еще не знаю. Боюсь или не боюсь.
— Как себе представить, что тебя не будет в этом мире?
— Я очень легко себе это представляю. Ничего не изменится. В доме на одну зарплату станет меньше, да и та была не очень большая.
Фото: Жанна Фашаян

