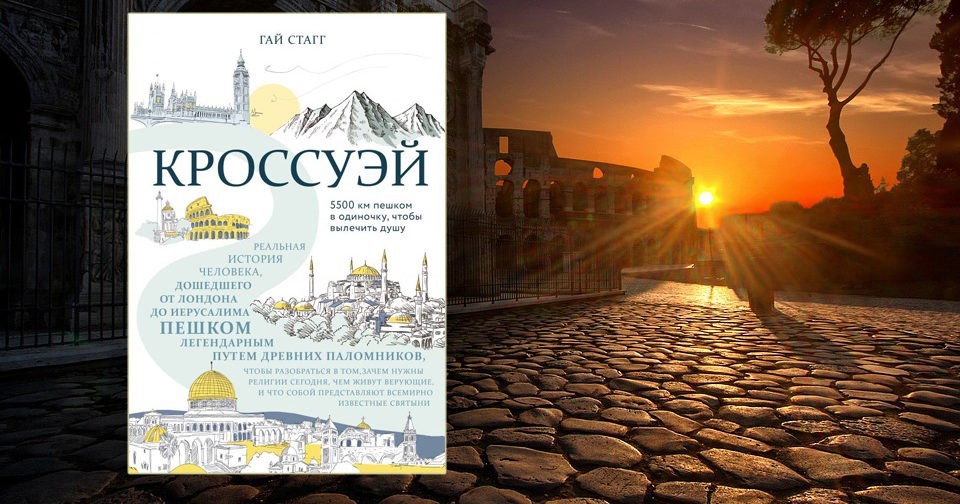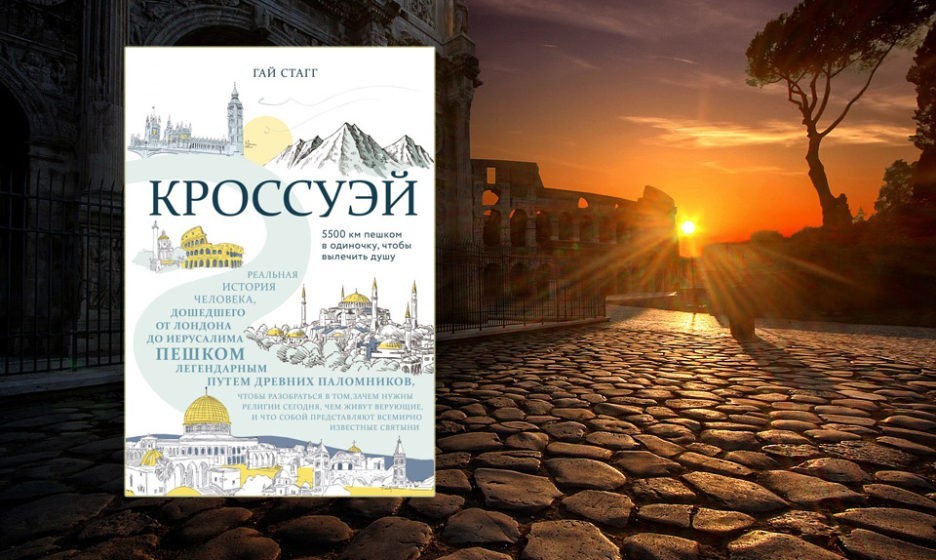
В первый день нового года, во вторник, Гай Стагг сделал свой первый шаг к Иерусалиму. На этот путь молодого человека толкнули депрессия, потеря ориентиров, нервный срыв и полное душевное смятение. Пройти 5500 километров от Лондона до Иерусалима по легендарному пути, древней дорогой франков, дорогой ангелов, дорогой римлян, — кто и зачем решится сегодня на такое?
Гай Стагг решился. И по итогам путешествия написал книгу-исследование современной религиозной жизни. Он прошел дорогой святых и странников. Ночевал в пристанищах пилигримов, аббатствах и монастырях, беседовал с Божьими людьми и случайными попутчиками, задавал вопросы и искал ответы.
Гай Стагг надеялся, что долгий поход исцелит его душу, даст понимание дальнейшего пути, направит в нужную сторону. Но помимо этого, паломник нашел и нечто большее — осознание места религии в современном мире и удивительные встречи.
Путешествие Гая Стагга уникально. Сегодня люди видят мир из окна автомобиля, самолета или поезда, а один простой англичанин не побоялся пройти пешком всю Францию, Швейцарию, альпийские деревушки, Афон и Турцию, Сирию и Египет. Мало кто решится повторить такой путь. Тем интереснее читать о приключениях того, кто не побоялся.
Отрывок 2. Афон
Мы плыли на пароме вдоль полуострова Халкидики, огибая его с востока. Полуостров тянулся на шестьдесят километров и завершался известковым пиком горы Афон. На верхней палубе бородатый русский с сыном кормили чаек с рук, трое мальчишек фотографировались со священником в потрепанной рясе, нищий старик раскладывал на черном сукне молитвенные четки — шесть евро штука, десять пара… Паломники как паломники, разве что женщин нет. Женщинам на Святой Горе появляться запрещали.
Слева проносился берег: тонкая полоска песка, сдавленная лесистыми холмами и ярко-зеленой водой. У кромки, рядом с пристанью из желтого бетона, стояли два маленьких домика. Я поискал взглядом монастырь, которому принадлежали постройки, но тот был скрыт среди холмов, и только когда мы подплыли к пристани, лодочник выкрикнул: «Зограф!»
Здесь было двадцать монастырей, примерно две тысячи монахов и больше никого — если не считать вечно изменчивой реки паломников. Перешеек соединял Афон с материком, но граница была на замке, и добраться до монастырских владений можно было лишь морем. На лодку пропускали, если у вас был трехдневный пропуск, заверенный тройной печатью монашеской республики. Я подал заявление еще перед тем, как покинул Англию, и только в Салониках понял, что близилась дата — пятница, 24 мая. Тут и подошли к концу мои пирушки. Я запаковал рюкзак, оплатил счет, двинул прямо через Халкидийский полуостров и прибыл на паромную пристань в Уранополис поздним вечером в четверг.
Утром, пока мы плыли вдоль побережья, я смотрел, как холмы становятся все круче и зарастают лесом. Их усеивали остатки отшельнических келий. Подростки присоединились к игре с чайками, а бородач тем временем сторговывал четки для сына.
А потом я увидел монастыри.
Первый походил на замок, увенчанный башенками, куполами и келейными корпусами, ярко-синий, словно детсад. «Дохиар!» — возгласил лодочник. Второй напоминал форт: каменные подножия и деревянные балконы тянулись вдоль пляжа. «Ксенофонт!» Третий выглядел как огромный белый дворец с позолоченными куполами и шпилями; его медная кровля покрылась тусклой зеленью. «Монастырь святого Пантелеимона!»
Лодка причалила, отец с сыном сошли. «Святой Пантелеимон! — прокричал лодочник. — Руссик!»
Руссик. Русский монастырь. В конце XIX века русские составляли треть всех монахов на Афонской Горе, и для многих монастырь святого Пантелеимона был родным домом. Здесь же одно время обретался самый печально известный гость: сибирский странник.
Пройдет больше десяти лет, и в мае 1907 года он издаст очерк о своем путешествии — «Житие опытного странника». Там он расскажет, как проходил в день по сорок-пятьдесят верст и как однажды прошел две с половиной тысячи верст от Киева до столицы Сибири, Тобольска, даже не сменив одежды. Напишет, что носил вериги, что молился с обнаженной грудью, облепленный гнусом, что за ним гнались волки и убийцы…
«Житие опытного странника» содержит немало разных занятных советов — например, о том, что в паломничество лучше идти на месяцы, а не на годы, и о том, что на морозе нужно молиться в шапке. Еще в книге говорится о злых духах, навевающих тоску и болезни. Много там и призывов к опасным подвигам и испытаниям. Но рассказчик говорит не только о трудностях — он вспоминает, как крестьяне делились с ним едой, как святые лечили его от бессонницы и хронического недержания мочи. Он относится к путешествию словно к школе — и восторгается всем, что видит. Его опыт отразил мой собственный — особенно когда он писал: «Это отрада мне послужила за все и про все. Ходил берегами, в природе находил утешение…»
Опытный странник был неграмотным. Дневник писали под его диктовку, и читать его очень непросто. А если немного сравнить книгу с жизнью самого автора, то в повествовании проявятся странные пробелы. Он сомневается в ценности монашеской жизни — но не признается, что сам жил в монастыре святого Пантелеимона до тех пор, пока с презрением не покинул обитель, увидев, как один брат со злостью обошелся с послушником. Он призывает к смирению перед лицом высшего духовенства и аристократии — но ничем не объясняет, как его странствия смогли настолько поразить епископа Казанского, что дали ему пропуск в высшие круги российского общества. Он даже упоминает об аудиенции у императора Николая II, но лишь вскользь касается необычайного исхода встречи. И тем не менее, вера в святость странника была такой, что ему доверили исцелить наследника престола от гемофилии.
Как бы там ни было, возвышение Распутина в глазах императорской семьи и при дворе Романовых обретает смысл лишь в том случае, если принять во внимание его паломническое прошлое. Странствия считались в русском православии святым призванием: русский простор требовал огромного числа странствующих проповедников. И именно те качества, которые никак не позволяли сибирскому монаху сблизиться с царской семьей — низкое происхождение, почти абсолютная неграмотность, грубые манеры, странные привычки, полное отсутствие церковного статуса — стали доказательством его набожности и благочестия.
Я ничего не знал о традиции созерцания, давшей рождение странникам, но она называлась «исихазм» — и появилась она на Афонской Горе. Наш паром близился к главному порту полуострова — блоку домов с красными крышами и с пристанью из булыжных свай. А я стал записывать вопросы в надежде, что узнаю об исихазме и переброшу мост через пропасть, отделившую меня от православной веры.
— Православие — это не философия, — сказал Джонни. — Это не теория. Это путь. Его нельзя объяснить. Его можно только почувствовать.
Ему было чуть за двадцать. Веснушчатый, с зачатками рыжей бороды. Определения он, скорее всего, учил наизусть: формулировки звучали жестко даже со скидкой на шотландский акцент.
Мы встретились в Карьесе, главной деревне Афона. Джонни склонился над картой местных тропок, а его приятель размечал маршрут. Туристов развозили на раздолбанных микроавтобусах, но многие предпочитали идти пешком. Двое друзей шли в Ивирон, на восточное побережье. Я шел туда же, но когда спросил, могу ли к ним присоединиться, они замялись. Может, смутились, встретив здесь земляка, ведь теперь их паломничество перестало быть тайной… Не знаю, так это было или нет, но они немного помолчали — и все же пригласили меня с собой.
Мы оставили Карьес, прошли мимо зарослей грецких орехов и лещины и вошли в лес. Здесь даже воздух отсвечивал зеленым. Солнечный свет лился сквозь листву и падал на землю ласковой изумрудной вуалью. Несколько ярких лучей, словно копья, пронизывали ветви, падали на расколотые камни и на сверкающие ручейки у ног.
Второго паломника звали Стефан. У него были массивные предплечья, тело в татуировках, и грудь у него была мощной, как пароходный кофр. Сперва я даже устрашился, да у него еще и лицо исказила гримаса, но потом он стал рассказывать мне о жене. Он объяснил, что был атеистом, пока не женился на киприотке, которая хотела воспитать детей в православной вере. Вскоре они стали вместе ходить в церковь.
— Я вообще не понимал, что там творится. Потом я просто бросил и повторял за остальными. И все начало проясняться. История, традиции, все эти странности — все это понятно только на службе.
— Вот такие обращенные лучше всего, — сказал Джонни. — Любое разумное решение — и все неправильно. Цель православия не в том, чтобы понять. Цель — это союз с Богом. Додуматься до такого ты не сможешь.
— А ты тоже обращенный?
— Я религиозный бродяга. Церковь Шотландии, Церковь Англии. Но как-то раз я зашел на православное богослужение — и мне показалось, будто я в раю.
Мы спускались к побережью. Мои спутники все продолжали болтать. Они были странной парой: двое моряков, служивших вместе в Портсмуте и Клайде, в Персидском заливе и на побережье Сомали. Но месяц назад Джонни вышел в отставку и осенью собирался уехать в штат Нью-Йорк учиться в православной семинарии.
Стефан ушел вместе с ним и тоже собирался учиться — на сантехника.
— А ты зачем на Святой Горе? — спросил Джонни.
— Хочу узнать об исихазме, — ответил я. — Я шел через Балканы, там много православных церквей. Но они какие-то мрачные. Внутри тускло. Службы долгие. Песни все эти. Чем дальше, тем я меньше понимаю. Я уже сомневаюсь, верно ли сделал, что вышел в путь.
— Никто на Афон просто так не приходит, — ответил Джонни.
Он начал рассказывать про отшельников, живших в самых дальних уголках Святой Горы. Зазвучали странные слова — теория, филокалия, нетварный фаворский свет… Видимо, он понял, что я уже не в теме, и сказал:
— Первый урок неофита: забудь все, что знал о христианстве.
— А второй? — спросил я.
— Умеренность, — откликнулся Стефан.
Наш путь выровнялся возле Ивирона и пошел вдоль огражденных террасами лоз и маленьких огородиков. На склонах, поросших цветами, гудели шмели. Большая часть полуострова оставалась дикой, но каждый монастырь располагался в возделанном кармашке. Ивирон, с трех сторон окруженный холмами, лежал далеко от моря.
Стенами ему служили каменные утесы, увенчанные двойными рядами келий цвета шафрана. За воротами, посреди двора, уставленного флагами, возвышалась алая церковь, кафоликон, а по краям снова виднелись шафранные кельи, паломнический корпус размером с особняк и ветхие останки крепости.
Прежде чем нам показали комнаты, Джонни вынул из рюкзака тонкую книжечку в мягком переплете под названием «Откровенные рассказы странника».
— Православие — это восточная религия. Для серьезных вещей тебе нужен наставник, — сказал он, протянув мне книгу. — Но если хочешь понять исихазм, можно начать вот с этого.
В моей келье был деревянный стол, деревянная кровать и деревянный стул с плетеным сиденьем. Балкон выходил на огородики, где трудилась пара монахов. Отложив инструменты, они отряхнули пыль с одежд и скрылись в здании. Больше я не слышал ничего, кроме шума цикад и шелеста моря, и вечер был тих и спокоен, словно медленный полет облаков.
Еще час я сидел на балконе и читал книгу Джонни. В ней рассказывалось о русском юноше, который решил воплотить в жизнь веление апостола Павла: «Непрестанно молитесь». Юноша становится странником, чтобы узнать, как это сделать, и старец учит его Иисусовой молитве — созерцательной технике, когда слова «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя!» повторяются так долго, что становятся инстинктивными. Это и есть сердечная молитва, главная практика исихазма.
Странник доводит молитву до совершенства и решает отправиться в Иерусалим. По дороге он встречает самых разных людей — одни делятся с ним историями, другие — религиозными идеями. Но его все время что-то останавливает, и ему так и не удается покинуть Россию. Но это не страшно — книга дает понять, что главным паломничеством было именно постижение молитвы.
Я вернулся внутрь, когда отгорел закат. День близился к концу, мир померк, утратив краски. Келья походила на любые другие, в каких я оставался, но было легко представить ее своей. Что еще мне нужно в мире? Зачем мне куда-то идти?
Может быть, «Откровенные рассказы странника» стали образцом для воспоминаний Распутина. В обеих книгах на рассказчиков нападают волки, им обоим помогают крестьяне, оба находят утешение в природе. Вступление к английскому изданию уверяло, что автор жил в середине XIX века и странствовал по России, пока не дошел до Афона. Его историю записал один монах в монастыре святого Пантелеимона — и она стала самой известной книгой по православной духовности. Здесь был и манифест исихазма, в котором говорилось, как простой паломник может постичь глубочайшие тайны веры.
Я пытался читать, но смысл слов ускользал, и внимание рассеивалось. Из книги я почерпнул немногое. Я просто не понимал, что значат все эти тайны. Но меня очаровал образ рассказчика-пилигрима. Его добровольная невинность казалась близкой, беспечной и в то же время полной надежды. Как Распутин в молодости, он шел, пытаясь понять, как ему жить. И ночью, лежа в кровати, я нашел отрывок, который Джонни подчеркнул, чтобы дать мне намек, куда идти.
Все и наружное представлялось мне в восхитительном виде, и все влекло к любви и благодарению Бога; люди, дерева, растения, животные, все было мне как родное, на всем я находил изображение имени Иисуса Христа. Иногда чувствовал такую легкость, как бы не имел тела, и не шел, а как бы отрадно плыл по воздуху… и при всех таковых утешениях желал, когда бы Бог дал поскорее умереть и изливаться в благодарности у подножия Его в мире духов.
В четыре утра меня разбудил глухой стук: молоток бил по деревянной балке. То был симандрон, звавший монахов на молитву. Я оделся, вышел из кельи и пошел вслед за паломниками в темную громаду кафоликона. В нефе было темно, лишь трепетали свечи и пламенела лампада, но из дверного проема я заметил массивную фигуру Стефана: он шел мимо икон, целовал одни и преклонял колени перед другими. Джонни пошел вслед за ним, повторяя каждый жест взмахом руки и росчерком запястья.
Я оставался рядом с ними большую часть службы, подражая каждый раз, когда они крестились — большой палец, указательный, средний, сжать в щепоть, сверху вниз, справа налево, раз, два, три…
Церкви я почти не видел — разве что очертания, выступавшие из мрака: ряд икон в серебряном окладе, выстроенный в нефе, и резной лиственный узор, украшавший иконостас. Монахи метались по сторонам, словно обрезки черной тафты: кто-то звонил в колокол, кто-то махал кадилом, кто-то занимал стасидии на хорах или скрывался в алтаре. И непрестанно, ни на мгновение не прерываясь, лился монотонный напев.
Веки отяжелели. Аромат благовоний навевал дрему. Боясь упасть в обморок, я вышел и обошел монастырь. Из ночной тьмы появился фонтан со сводом, следом за ним — колокольня с голым циферблатом, ряд невзрачных кипарисов и молельня с навесом из кованого железа.
Еще час я сидел в церковном притворе — узкой сводчатой галерее с рядами витражей. Солнце вершило свой круг, и сквозь оконные стекла на пол церкви падали яркие цветные полосы, постепенно спускаясь от апокалиптических фресок на пол, к хитросплетениям мраморных плит.
Я вслушивался в ход богослужения и улавливал переходы в псалмах, но не мог понять, когда утренние молитвы перешли в часы, а часы — в Божественную литургию. Когда я вернулся в церковь, над подсвечниками вились струйки серебристого дыма, а где-то невдалеке звучала медная трель колокольчиков. Один из братьев оборачивал иконостас золотой парчой, еще трое пели с хоров, но я не мог сказать, что они возглашали — апостольские послания, Евангелие, проповедь, литанию мира, молитвенную литанию, святой гимн, Херувимскую песнь…
К семи в зале стало тихо. Шорох прекратился, кашель умолк, и монахи застыли, прямые, как изваяния. Произнесли Символ веры и молитву Господню. Причащение. Благодарственный молебен. Отпуст.
Стефан вздохнул; на его лице отразилось облегчение — наконец-то закончилось!
Так начинался каждый день на Афоне. Я ночевал в разных монастырях — и по утрам просыпался под глухие удары симандрона.
Как-то раз я проспал и проснулся, увидев, что в корпусе уже никого, а снаружи разносится, будто дрожь земли: Кирие, элейсон, Кирие, элейсон, Ки-ри-э-лей-сон!
Я надеялся, что на богослужениях сумею задуматься и получить какое-то внезапное откровение. Но я слишком устал. Ум был вялым от скуки. Я убивал время играми: ранжировал бороды монахов по критериям густоты, белизны и длине усов — по шкале от единицы до десятки; угадывал национальность паломников по их облику: дорогие часы, липовые кроссовки, черные джинсы, песочные жакеты из рубчатого плиса… Пару раз я впадал в сон наяву, а однажды так долго смотрел на свечу, что потерял счет времени: уже не было ни скуки, ни игр, только капающий воск и свет, свет, свет… вечный, нескончаемый, бескрайний…
За долгие часы этих утренних служб узлы, стянувшие меня внутри, ослабели. Я не забыл, что случилось в Салониках — но здесь, на Афоне, я был даже рад этим воспоминаниям. То, чего я так боялся, наконец-то произошло. Я все время ждал этого с такой тревогой — а теперь страх ушел. Монастыри казались убежищем: здесь я не мог причинить себе вреда. Я чуть не захлебнулся в римской толпе, меня пугали греческие церкви, но здесь, среди этих паломников, никому неизвестный, я чувствовал радость. Я понял: не вера делала ценными эти утренние часы, но непрестанное и терпеливое свершение обряда. И я утешился этими днями — их неизменной рутиной, их четким распорядком…
Джонни объяснил мне, как живут монахи. Они вставали до рассвета, проводили по четыре часа в церкви, потом приходили на дневную службу и на вечерню, а еще час посвящали келейной молитве. В остальное время они убирали, стряпали, шили и возделывали землю. Ели они дважды в день, постились двести дней в году и ложились примерно в девять. Монастырские часы шли по византийскому времени: полночь начиналась на закате, а дни были привязаны к юлианскому календарю. Этот порядок не изменился и за тысячелетие, хвастливо заявлял Джонни, и казалось, эта дисциплина была частью соблазна.
— Они умерли для мира, — как-то сказал он мне, распахнув глаза и хлопая ресницами.
Я хотел спросить: а может, неофитов так влекли жесткие и суровые формы веры, ибо мягкие оставляли слишком много почвы для сомнений? И не променял ли он шило на мыло, когда сменил флот на семинарию? И что, если этот жесткий режим — всего лишь попытка спастись от иного страха, о котором никто не говорил ни слова? А может, вековые традиции православия дарили хоть какое-то утешение после долгих лет неопределенности и метаний?
Но этого я так и не узнал. Двое друзей покинули Ивирон и ушли на юг, а я направился на север вдоль побережья.