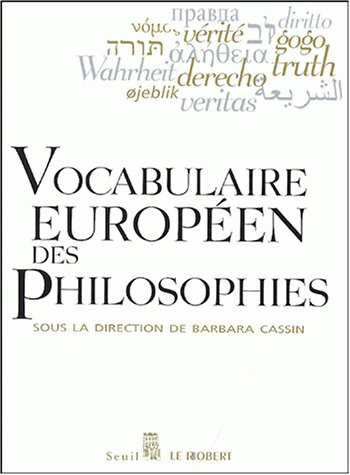26 апреля Институт мировой культуры МГУ провел круглый стол «Непереводимость в философии – непереводимость в культуре». Круглый стол предваряет будущую работу над русским изданием «Словаря европейских философий: словаря непереводимостей», впервые вышедшего в Париже в 1996 г.
Барбара Кассен, ученица Жана Бофре, первого пропагандиста философии Хайдеггера во Франции, один из ведущих французских интерпретаторов античной мысли, руководит изданием не только французской, но и английской, испанской, итальянской, арабской и других версий Словаря – этот проект захватывает всё больше языков и стран, и новые участники привносят свой опыт непереводимых на другие языки терминов и понятий.
Английское mind, немецкое Geist, русское духовность – хотя мы можем указать на многие поколения богословов и философов, оттачивавших и шлифовавших смысл каждого из таких слов, мы только интуитивно догадываемся, чем значение этого слова отличается от значений «сходных по смыслу» слов в других языках.
Самое молодое издание «Словаря европейских философий», украинское, готовит издательство «Дух и литера». Руководитель издательства Константин Сигов, к сожалению, не смог приехать в Москву, и украинских коллег представлял философ Олег Хома.
О. Хома рассказал о тех трудностях, с которыми приходится сталкиваться современным украинским переводчикам, желающим перевести на родной язык византийских богословов или даже европейских мыслителей: в советское время украинская школа философского перевода была уничтожена – поощряя «национальное начало» в искусстве, советская власть боялась даже намека на идеологический национализм.
Контроль над идейным содержанием в случае переводов обернулся контролем над формой: переводя Гегеля, украинские переводчики должны были равняться на русский перевод, и даже ставить слова в том же порядке. Только в последние годы в Украине стали выходить экспериментальные переводы: например, новый перевод Декарта не только обогатил украинскую терминологию, описывающую ум и его деятельность, но и своей вольностью и живостью позволил лучше прочувствовать связь философии Декарта с богословием Контрреформации.
Такой творческий перевод, направленный на понимание мысли переводимого автора как «большого целого», имеет почтенных предшественников. Например, Иван Болдырев рассказал собравшимся о том, как судил о переводе немецкий филолог и философ Вальтер Беньямин (1892-1940): Беньямин, вслед за немецкими мистиками и романтиками считал, что и оригинал, и перевод только приближают нас к утерянному языку Адама, который невозможно «воспроизвести», а можно только почувствовать. По мнению таких романтических мыслителей, как Новалис и Шеллинг, человек только и осознаёт себя человеком, когда в ходе перевода или пересказа находит для вещей их настоящие имена – тогда он может услышать глас Божий, окликающий человека по имени.
Конечно, в таком «богословии перевода» слишком много рискованной экстатической мистики. Но нельзя отрицать заслуги романтиков в разработке «богословия Откровения», в котором Священное Писание понимается не только как набор готовых примеров и жизненных наставлений, но и как «высшее предназначение языка»: в Священном Писании обычный человеческий язык становится языком спасения, языком, вместившим Благую Весть и отныне служащим ей до конца времён.
Эта глубокая мысль, конечно, нуждается в многочисленных оговорках: слишком велика опасность обожествить язык, приняв словесные ризы Христовы за самого Бога. Поэтому многие докладчики круглого стола уточняли, что такое язык как «медиум», как средство понимания.
Анна Борисенкова, рассуждая о Поле Рикёре (1913-2005), философе понимания, к которому всё больше присматриваются современные богословы, отметила, сколь важны для Рикёра и его последователей такие найденные ими свойства языка, как вовлечённость, указание, обещание. Наука о языке часто рассуждает о языковых явлениях так, как будто человек просто «пользуется» языком как механизмом – Поль Рикёр возвращает языку человечность. Татьяна Вайзер обратилась к другому философскому направлению – французскому постмодернизму: по её мнению, борьба отцов постмодернизма со старым рационализмом имеет целью «экстаз», который определяется как отказ от привычных, бытовых представлений. Язык в «экстазе» разрывает привычные связи рассуждений, чтобы «высвободить опыт» каждого человека.
Но что это за опыт? На этот вопрос попыталась ответить Анна Ямпольская, рассмотрев другое направление в современной французской философии – «религиозный поворот» Ж.-Л. Мариона и М. Анри, испытавших влияние византийского исихастского богословия и русской философии иконы. Мишель Анри изменил смысл слова «патетический», сделав его из «переводимого» «непереводимым». «Патетичность» означает в языке Анри не страстность, а способность человека отзываться на Божий призыв, быть живым и динамичным образом Божиим. А. Ямпольская заметила, что философия Мариона и Анри приближается по своему качеству к распространенным в западном христианстве «духовным упражнениям» — перед нами не логическое рассуждение, а призыв к читателю изменить собственный опыт, по-новому отнестись к себе, дисциплинировать самого себя.
О другом варианте обращения философа с богословским языком рассказала Светлана Коначёва, сосредоточившаяся на том, как М. Хайдеггер цитировал Апостола Павла.
Философ, настаивая на том, что время не дано нам в готовом виде, будто предмет или среда, ссылался на Апостола, говорившего «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью» (1 Фес. 5, 1). Но если Апостол говорил о жизни христиан после Воскресения Христова, изменившего сам ход исторического времени, то Хайдеггер упускает этот церковный смысл слов Апостола и просто считает, что время как «срок» или «случай» не может быть объяснено логически. Переживание времени как такового не следует считать частью «исторического опыта», который состоит только из готовых событий и их истолкований.
С. Коначёва показала, что такое «богословие без Бога» М. Хайдеггера очень поучительно: оно превращает привычное нам бытие в непрерывное становление, подобно тому, как настоящее богословие видит за обычными событиями историю спасения, осуществляемую непрерывным действием благодати. Сходную «историю спасения», как ни странно, увидел «самый свободный советский философ» Мераб Мамардашвили в прозе Марселя Пруста, прочитанной через призму философии Э. Гуссерля, чему был посвящено сообщение Виктории Файбышенко.
В чем специфика русской мысли, которая теперь будет ожидать русского варианта «Словаря непереводимостей»? Участники круглого стола только начали подходить к этой проблематике.
Анна Резниченко заметила, что одно из замечательных свойств русской философии – это поэтические образы, выполняющие роль доказательств: такие образы русской религиозной философии, как «невидимый град», «горний Иерусалим», «искомый град» (сближаемый со сказочным градом Китежем), адаптировали церковную эсхатологию для российской интеллигенции. Благодаря прокладке такого русла ожившей эсхатологии интеллигенция стала обращаться к вере и воспринимать более сложные богословские утверждения.
О такой поэтической образности в русском философском языке, но уже как о фатуме русской традиции, говорила Ирина Дуденкова, полагающая, что слишком восторженное понимание гегелевского «снятия» в смысле «примирения противоположностей» способствовало распространению марксистско-ленинской идеологии социализма как всеобщего примирения.
Конечно, в этом обзоре невозможно сказать обо всех докладах: двадцать один (!) доклад за один день работы – цифра невероятная. Но много ли можно вспомнить собраний, участники которых, просидев больше восьми часов, не хотели расходиться – счастливо глядя друг на друга, попутно переходя на «ты», при этом сохраняя вдумчивость и серьезность собственной речи. Может быть не все поверят, но это так – атмосфера была настолько непринужденная, что ее не надо было разряжать шутками – сам общий язык, который нашли участники, улыбался им своими радующими возможностями.
Фото: Анна Завалей.