
«Я был очень молод и очень беден; видел голодную смерть лицом к лицу», – вспоминал Некрасов. Однажды согнали его с квартиры, и он остался один на улице, без ничего, в плохом пальтишке, в холодную осеннюю ночь; побрел куда глаза глядят, не сознавая, куда и зачем, пробрался на Невский и сел там на скамеечку, какие выставляются у ресторанов для посетителей… прозяб… уснул. Подобрали и приютили нищие.
Плакать с плачущими по-настоящему может лишь тот, кто сам был в их жалком положении. Можно с уверенностью утверждать, что ни один крупный русский писатель не имел такого жизненного и житейского опыта, через который прошел молодой Некрасов. То глубокое сострадание, которым проникнуты все его лучшие произведения, невозможно выдумать, сочинить или сыграть. Оно должно быть в сердце.
У человека, наделенного даром сострадания, есть лишь два пути. Первый – вместив боль других в свое сердце, нести ее, уповая только на самого себя, на собственные силы. Такой груз очень быстро становится неподъемным. Порыв исправить мировой порядок и построить царство справедливости стремительно оборачивается провалом. Второй – путь малых дел, подкрепленных смиренным упованием на Бога, разделение своей ноши с Тем, Кто «уничижил Себя Самого» и «смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». Второй путь часто кажется слишком узким и длинным, между тем как первый – широким, действенным, а потому – весьма привлекательным. Он требует решительных мер и сулит быстрые результаты. Очень многие, пламенея благими помыслами, выбирают именно эту дорогу…
Образ матери
Николай Алексеевич Некрасов родился в самом конце 1821 года в обедневшей дворянской семье. Дед будущего поэта – Сергей Алексеевич – проиграл в карты почти всё состояние. Остатки, надо думать, доигрывал его сын, поручик Алексей Некрасов, в не меньшей мере одержимый «наследственной» страстью. Рассказывая Николаю их славную родословную, он резюмировал: «Предки наши были богаты. Прапрадед ваш проиграл семь тысяч душ, прадед — две, дед (мой отец) — одну, я — ничего, потому что нечего было проигрывать, но в карточки поиграть тоже люблю».
Как часто бывает не только в дешевых романах, но и в самой жизни, лихого армейского офицера Алексея Некрасова полюбила благовоспитанная образованная красавица, полька по происхождению, Елена Андреевна Закревская. Чем повергла в замешательство своих чопорных и высоконравственных родителей. Когда дело дошло до брака, и мать, и отец Елены наотрез отказались давать молодым свое благословение. Так они и поженились – без согласия родителей. Ни Алексей, ни Елена счастья в этих отношениях так и не увидели. В воспоминаниях Николая Некрасова отец навсегда остался деспотичным, необузданным и необразованным дикарем-помещиком, а мать – жертвенно любящей, ничего не ждущей взамен страдалицей. Образ матери не раз возникнет в самых сокровенных, щемящих душу стихах поэта.
Повидайся со мною, родимая!
Появись легкой тенью на миг!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для других.
С головой, бурям жизни открытою,
Весь свой век под грозою сердитою
Простояла ты, — грудью своей
Защищая любимых детей.
И гроза над тобой разразилася!
Ты, не дрогнув, удар приняла,
За врагов, умирая, молилася,
На детей милость Бога звала.
Неужели за годы страдания
Тот, кто столько тобою был чтим,
Не пошлет тебе радость свидания
С погибающим сыном твоим?..

Маленький Николай с матерью Еленой Андреевной Некрасовой
Слушая рассказы его о детстве и матери, Достоевский предвидел: «если будет что-нибудь святое в его жизни – но такое, что могло бы спасти его в самые темные и роковые мгновения судьбы его», то это любовь к матери.
Когда Николаю было три года, отец ушел в отставку и большая семья Некрасовых поселилась в родовом имении в Ярославской губернии. Дети постоянно становились свидетелями зверских расправ отца с крестьянами, его бурных отношений с крепостными любовницами и жестокого обращения с женой.
В 1832 году Николай Некрасов поступил в ярославскую гимназию, где проучился до 5 класса. Успехи его в освоении наук были весьма посредственными, но именно здесь 16-летний юноша стал записывать свои первые стихи в домашнюю тетрадку. В строках молодого поэта ярко отражено знание темных сторон жизни, которым в такой мере едва ли обладали его сверстники.
Как только Николаю исполнилась 17 лет, отец, всегда мечтавший о военной карьере сына, отправил его в Санкт-Петербург для определения в дворянский полк. Юноша, к тому времени тесно познакомившийся со студенческой жизнью, о воинской службе и слышать не хотел. Он решил поступать в Петербургский университет. Алексей Сергеевич попытался воспользоваться единственным рычагом влияния на сына – финансовым. Но тщетно. Не выдержавший экзамена и поступивший вольнослушателем на филологический факультет Николай счел, что свобода выбора собственного пути предпочтительнее свободы в средствах.
В университете вольный слушатель Некрасов пробыл с 1839 по 1841 год, но фактически все свободное время уходило не на учебу, а на поиски средств к существованию.
«Ровно три года, – вспоминал поэт, – я чувствовал себя постоянно, каждый день голодным». В итоге Некрасов тяжело заболел. Причину доктора увидели в продолжительном недоедании. Недуг вскоре отступил, но последствия сказывались на здоровье до конца дней.
Постепенно жизнь Николая начала налаживаться. Он стал давать уроки и печатать небольшие статьи.
Вскоре Некрасов стал активно заниматься издательской деятельностью, выпустил в свет ряд альманахов. А в конце 1846 года вместе с писателем и журналистом Иваном Панаевым приобрёл в аренду журнал «Современник», основанный ещё Александром Пушкиным.
«Современник» под руководством Некрасова издавался 20 лет. За эти годы журнал стал главным литературным изданием страны. С его страниц впервые входили в большую литературу Иван Тургенев, Иван Гончаров, Александр Герцен, Николай Огарёв, Дмитрий Григорович. Здесь публиковались Александр Островский, Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Фёдор Достоевский и Лев Толстой. Одним из основных авторов был сам Некрасов.
«Хоть плачь!»
Оценки творчества Некрасова современниками были весьма разнообразны и часто далеки от восторженных. Тургенев говорил: «Я чувствую к стихам Некрасова нечто вроде положительного отвращения… От них отзывает тиной, как от леща или карпа». «Пробовал я на днях перечесть его стихотворения… Нет, поэзия и не ночевала тут, и бросил я в угол это жеваное папье-маше с подливкой из острой водки». Лев Толстой продолжал: «Место Некрасова в литературе будет место Крылова. То же фальшивое простонародничанье и та же счастливая карьера, – потрафил по вкусу времени».
Герцен находил в его стихах «злую сухость».
«Его можно скорее назвать рифмующим публицистом, чем поэтом» – такое мнение прозвучало в одной из надгробных статей, появившихся вскоре после смерти поэта.
А между тем Некрасов – один из первых «взрослых» поэтов, с которым сегодня знакомится каждый ребенок. Разве можно забыть радостное воодушевление от строк про Мороза-воеводу, дозором обходящего свои владенья. Или легкое недоумение, вызванное историей про «лошадку, везущую хворосту воз» и «мужичка с ноготок». Отчего становится вроде бы весело и одновременно грустно-грустно, маленькому читателю едва ли понять. Но в сердце прочно остается чувство искреннего сострадания. Много позже перечитав эти строки, поймешь все то, что в детстве не дано заметить – и про «клеймо нелюдимой, мертвящей зимы», и про «честные мысли, которым нет доли», и про «злобу, боль и любовь»:
На эту картину так солнце светило,
Ребёнок был так уморительно мал,
Как будто всё это картонное было,
Как будто бы в детский театр я попал.
Но мальчик был мальчик живой, настоящий,
И дровни, и хворост, и пегонький конь,
И снег до окошек деревни лежащий,
И зимнего солнца холодный огонь —
Всё, всё настоящее русское было,
С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы,
Что русской душе так мучительно мило,
Что русские мысли вселяет в умы, —
Те честные мысли, которым нет доли,
Которым нет смерти — . . . . . . . .
В которых так много и злобы и боли,
В которых так много любви!
«…между искусством и действительностью, – замечал Дмитрий Мережковский, – изображением и тем, что изображается, должна быть черта разделяющая, как рампа между сценой и зрителем. До черты есть то, что есть, а за нею все как будто есть, – не есть, а кажется. Вот эта-то черта, это «как будто» у Некрасова почти стирается, так что трудно иногда отличить то, что есть, от того, что кажется. Изображение так выпукло, что глаз обманут, и хочется рукой ощупать предмет. Но разве это хула, а не хвала художнику?».
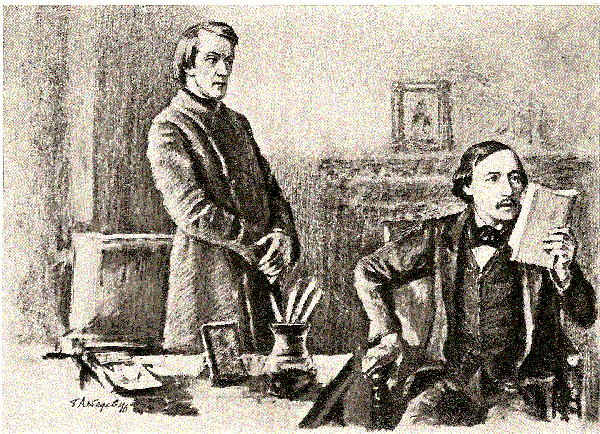
Белинский и Некрасов
Некрасов творил так: «приходит Муза и выворачивает все наизнанку; начинается волнение, скоро переходящее границы всякой умеренности, – и прежде, чем успел овладеть мыслью, катаюсь по дивану со спазмами в груди; пульс, виски, сердце бьет тревогу – и так, пока не угомонится сверлящая мысль».
Есть множество гораздо более стройных, выразительных строк, но сильнее трогающих самое сердце нет:
Словно как мать над сыновней могилой,
Стонет кулик над равниной унылой.
Пахарь ли песню вдали запоет, –
Долгая песня за сердце берет.
Отзвуки этой долгой песни – во всех лучших строках Некрасова, во всех его анапестах и дактилях, невозможно правдивых и невыносимо печальных:
Бесконечно унылы и жалки
Эти пастбища, нивы, луга,
Эти мокрые сонные галки,
Что сидят на вершине стога…
Эта кляча с крестьянином пьяным…
Это мутное небо – хоть плачь!
«Очень тяжело…»
В начале 1860-х годов началась эпоха студенческих волнений, бунтов «освобождённых от земли» крестьян и польского восстания. В этот период «Современнику» было объявлено «первое предостережение». Выпуск журнала приостанавливался. А в 1866 году, после выстрела Дмитрия Каракозова в российского императора Александра II, журнал закрылся навсегда.
В 1868 году Некрасов взял в аренду «Отечественные записки», которые он превратил в боевой орган революционного народничества. Николай Алексеевич верил в очистительную силу революции. Как человек, перенесший тяготы нищенской жизни, побывавший на самом «дне», ситуацию в России он оценивал как однозначно несправедливую. Этот порочный порядок он искренне хотел переменить и поэтому всеми силами приближал народный переворот.
В начале 1875 года Николай Алексеевич Некрасов тяжело заболел. Врачи обнаружили у него рак кишечника. Поэт во всем винил годы хронического голодания, пережитые в юности. Болезнь была неизлечимой. На два последующих года она не только приковала Некрасова к постели, но превратила его жизнь в медленную агонию.
Некрасову «свойственно надувать людей… Он всегда думает скверное», – писал некогда друживший с ним Тургенев. «Архимерзавец Некрасов», «злобно зевающий барин, сидящий в грязи». Какая кошка пробежала между ними – сегодня едва ли важно. Николай Алексеевич до последнего надеялся на примирение, продолжал писать: «Это письмо вынуждено неотступностью мысли о тебе. Это тебя насмешит, но ты мне последние несколько ночей снишься во сне».
Перед смертью мучения Некрасова стали невыносимыми. «Страдания усилились необычайно, – рассказывал очевидец. – Он рвал на себе белье, схватывал себя за голову».
Тургенев наконец сжалился, приехал к умирающему.
Бывшие друзья свиделись и молча заплакали.
В «Дневнике писателя» Достоевский отметил: «Я видел его в последний раз за месяц до его смерти. Он казался тогда почти уже трупом, так что странно было даже видеть, что такой труп говорит, шевелит губами. Но он не только говорил, но и сохранял всю ясность ума».
В коротких перерывах между болевыми приступами Некрасов написал «Последние песни». Эти строки невозможно читать без содрогания.
Черный день! как нищий просит хлеба,
Смерти, смерти я прошу у неба…
Существует портрет кисти И.Н.Крамского «Н.А.Некрасов в период «Последних песен». На белоснежной постели задумчиво полулежит исхудавший старец. Сосредоточенно задумавшись, одну руку он поднял ко рту, да так и забыл опустить. Страдальческий взгляд – добрый, тихий, немного удивленный – скорее направлен внутрь, чем вовне.
«Умирающий Некрасов и со мной, и со многими другими заводил свои затрудненные, оправдательно-покаянные речи, – вспоминал Михайловский. – Очевидно было страстное желание выложить всю душу… страстное, последнее в жизни желание раскрыть тайну этой жизни. Но умирающий не находил слов. Не мог ни другим рассказать, ни себе уяснить эту смесь добра и зла. Он старался, не мог и мучился… Я не видел более тяжкой работы совести, да не дай Бог и увидеть».

«Н.А.Некрасов в период «Последних песен»» И.Н.Крамской
«Худо мне! – записал Некрасов в предсмертном дневнике. – Мой дом – постель, мой мир – две комнаты… Стихов уже писать не могу… Очень тяжело растревоживать мысли – сейчас боли, как и в эту минуту… Ничего не понимаю, что со мною делается. Очень тяжело…».
Тяжесть этого непонимания, недоумения была, возможно, страшнее физических страданий.
В комнате умирающего висели портреты Белинского, Чернышевского, Добролюбова…
Но на выговоренный в отчаянии вопрос «Что со мной делается?» дать ответа они не могли.
«Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе», – взывал к Богу епископ североафриканского города Гиппон блаженный Августин. Сердце Некрасова в ужасе искало успокоения. И в предсмертной тоске поэт, жаждущий спасения, по слову Достоевского вновь обратился к образу своей матери:
Но перед ночью непробудной
Я не один… Чу! голос чудный!
То голос матери родной:
«Пора с полуденного зноя!
Пора, пора под сень покоя;
Усни, усни, касатик мой!
Прими трудов венец желанный,
Уж ты не раб – ты царь венчанный;
Ничто не властно над тобой!
Не страшен гроб, я с ним знакома;
Не бойся молнии и грома,
Не бойся цепи и бича,
Не бойся яда и меча,
Ни беззаконья, ни закона,
Ни урагана, ни грозы,
Ни человеческого стона,
Ни человеческой слезы!
Усни, страдалец терпеливый!
Свободной, гордой и счастливой
Увидишь родину свою,
Баю-баю-баю-баю!
Еще вчера людская злоба
Тебе обиду нанесла;
Всему конец, не бойся гроба!
Не будешь знать ты больше зла!
Не бойся клеветы, родимый,
Ты заплатил ей дань живой,
Не бойся стужи нестерпимой:
Я схороню тебя весной.
Не бойся горького забвенья:
Уж я держу в руке моей
Венец любви, венец прощенья,
Дар кроткой родины твоей…
Уступит свету мрак упрямый,
Услышишь песенку свою
Над Волгой, над Окой, над Камой,
Баю-баю-баю-баю!..»
Николай Алексеевич Некрасов умер 27 декабря 1877 года (8 января 1878 года по н.ст.) в 8 часов вечера.
Проститься с поэтом на петербургское Новодевичье кладбище, несмотря на сильный мороз, пришло несколько тысяч человек.
Его похороны стали первым случаем всенародной отдачи последних почестей писателю.
Жажда молитвы
Если бы кто-нибудь спросил Некрасова, верит ли он в Бога, вне всяких сомнений он бы очень удивился и даже обиделся: за кого его почитают?!? Тогда так думали многие представители интеллигенции. Но одно дело думать – и совсем другое – чувствовать. Ощущать то, чего не скроешь:
Нет отрицанья, нет сомненья,
И шепчет голос неземной:
Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой!..
Сюда народ, тобой любимый,
Своей тоски неодолимой
Святое бремя приносил
И облегченный уходил.
Войди! Христос наложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной…
_____
В стороне от больших городов,
Посреди бесконечных лугов,
За селом, на горе невысокой,
Вся бела, вся видна при луне,
Церковь старая чудится мне,
И на белой церковной стене
Отражается крест одинокий.
Да! я вижу тебя, божий дом!
Вижу надписи вдоль по карнизу
И апостола Павла с мечом,
Облаченного в светлую ризу.
И что же это, как не попытка молитвы кающегося человека:
Я внял, я детски умилился…
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетенных, Бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарем!
Дмитрий Мережковский писал: «В русской литературе нет ничего подобного: никто из русских писателей так не молился или, по крайней мере, так не жаждал молитвы. И то, что он думает одно, а чувствует другое, в Бога не верует, а молится, – не уменьшает, а увеличивает искренность чувства: взрыв тем сильнее, чем порох сжатее. И если он вообще в стихах своих шел «прямо к делу», то в этих особенно – к самому главному делу жизни своей – к соединению с народом. Здесь, и только здесь, в чувстве религиозном, он уже одно с народом».

Некрасов, не раз оклеветанный и оболганный при жизни, восклицал:
И рад я, если кто-нибудь
В меня с презреньем бросит камень.
Вечная Книга сохранила на все века непреложную истину: «Мытари и блудницы вперед вас идут в царствие Божие». Вот таким мытарем и грешником ощущал себя Некрасов. И когда другие твердили «Благодарю Тебя, Господи, что я не как сей мытарь», он шептал:
Я за то глубоко презираю себя,
Что живу – день за днем бесполезно губя;
Что я, силы своей не пытав ни на чем,
Осудил сам себя беспощадным судом,
И, лениво твердя: я ничтожен, я слаб!
Добровольно всю жизнь пресмыкался как раб;
Что, доживши кой-как до тридцатой весны,
Не скопил я себе хоть богатой казны,
Чтоб глупцы у моих пресмыкалися ног,
Да и умник подчас позавидовать мог!
Я за то глубоко презираю себя,
Что потратил свой век, никого не любя,
Что любить я хочу… что люблю я весь мир,
А брожу дикарем – бесприютен и сир,
И что злоба во мне и сильна, и дика,
А хватаюсь за нож – замирает рука!
«Его отличие от нас не в мере подлости, а в мере совести, в мере той казни, которой виновный сам себя казнит: мы казним себя жалеючи; он – безжалостно»
Что враги?
Не придумать им казни мучительней
Той, которую в сердце ношу.
«Любовь к народу у него была лишь исходом его собственной скорби о себе самом», – заметил проницательный Достоевский.
Вновь и вновь обращаясь к образу давно умершей матери, Некрасов высказывает свои самые сокровенные мысли:
Я кручину мою многолетнюю
На родимую грудь изолью,
Я тебе мою песню последнюю,
Мою горькую песню спою.
О прости! то не песнь утешения,
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну — и ради спасения
Я твою призываю любовь!
Я пою тебе песнь покаяния,
Чтобы кроткие очи твои
Смыли жаркой слезою страдания
Все позорные пятна мои!
Чтоб ту силу свободную, гордую,
Что в мою заложила ты грудь,
Укрепила ты волею твердою
И на правый поставила путь…
Господь щедро наградил Николая Алексеевича Некрасова даром сострадания, но дар этот, лишенный взгляда вверх, стал для его обладателя непосильной ношей. Тихон Задонский учил: «Когда печалишься, что находишься в немощи, то тем самым немощь не умаляется, но умножается, как сам сие можешь чувствовать; и самая бо печаль есть немощь. И тако печаль в немощи большую соделывает немощь, яко немощь с немощью совокупляется».
Апостол сказал лаконичнее: «…печаль мирская производит смерть».
У Некрасова есть качество, которое ярко выделяет его среди единомышленников – это отсутствие теплохладности, равнодушного отношения к Богу, к вере.
Стихотворение «Сеятелям» заканчивается такими словами:
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ…
Мережковский подытоживает: «Старая песня. Не слишком ли старая, обыкновенная? Но ведь и воздух, и вода обыкновенны. Общее место, но одно из тех общих мест, на которых держится мир, как на законе тяготения (…) Как же нам не любить его? Каковы мы, таков и он. Если он плох, значит, и мы плохи, но он все-таки наш, плоть от плоти, кость от кости, наш, единственный. Что же нам делать, если нет у нас другого, лучшего? Отречься от него – значит от себя отречься».

Козлов И.А. Некрасов среди детей
*** *** ***
Тютчев однажды записал:
Люблю сие незримо
Кругом разлитое таинственное зло…
«Люблю зло…». Некрасов такого не сказал бы никогда. «Искалечен, изломан, но не извращен. – пишет о нем Мережковский. – Болен, потому что ранен: выньте железо из раны – и будет здоров».
Средь мира дольнего
Для сердца вольного
Есть два пути.
Взвесь силу гордую.
Взвесь волю твердую:
Каким идти?
Одна просторная —
Дорога торная,
Страстей раба,
По ней громадная,
К соблазну жадная
Идет толпа.
О жизни искренней,
О цели выспренней
Там мысль смешна.
Кипит там вечная.
Бесчеловечная
Вражда-война
За блага бренные…
Там души пленные
Полны греха.
На вид блестящая,
Там жизнь мертвящая
К добру глуха.
Другая — тесная
Дорога, честная,
По ней идут
Лишь души сильные,
Любвеобильные,
На бой, на труд
За обойденного.
За угнетенного —
Умножь их круг,
Иди к униженным,
Иди к обиженным —
И будь им друг!
Стоит хоть раз проницательно взглянуть на эти строки – и сразу поймешь: лишь христианское прочтение здесь единственно возможно…
Остается только надеяться, что их автор в свой последний путь отправился верной дорогой.
