Нюта Федермессер: Если наш пациент жалуется — мы рады!
Паллиативная помощь не про болезнь, а про пациента
— Нюта, назначение вас на должность директора Центра паллиативной медицины в Москве — это очень важный шаг в оказании паллиативной помощи.
— Надеюсь, что да.
— Какие сейчас основные направления вашей работы? Что нужно поменять, что необходимо сделать в первую очередь? На чем будет наиболее пристально сосредоточено ваше внимание?
— Прежде всего нужно максимально глубоко погрузиться в работу существующего учреждения. Руководство бюджетной структурой очень сильно отличается от руководства благотворительным фондом.
— Чем отличается?
— Во-первых, иное финансирование, иная отчетность, иные люди. Все-таки в благотворительность, причем на всех этапах, идут работать пассионарии. Очень важно, чтобы в благотворительной структуре и рядовой сотрудник, и руководитель душой болели за дело, и был бы, что называется, «три в одном» — и швец и жнец и на дуде игрец. В бюджетной структуре все иначе. Иначе происходят и найм сотрудников, и увольнение сотрудников, очень четкое распределение полномочий, тут практически нет места для демократии, а уровень ответственности огромный, иной темп принятия решений. Но все равно попробую.
Я очень признательна руководству Московского департамента здравоохранения и Леониду Михайловичу Печатникову за то, что деятельность фонда «Вера» так отмечена. Это результат качественной многолетней работы фонда «Вера». Нам доверили очень важное дело.
Но все же надо не только приспосабливаться, но и многое менять, а это намного сложнее, чем создавать с нуля.
— В чем различие между «паллиативной медициной» и «паллиативной помощью»?
— Прежде всего в объеме помощи. Я категорический противник того, чтобы любые огрехи системы здравоохранения в специализированной помощи исправлять на этапе оказания паллиативной помощи. Допустим, мы считаем, что пациент не долечен, не додиагносцирован, что-то там «недо». Что делать? Мы должны (если у нас есть для этого основания) направить его в систему специализированной помощи по ОМС. А если мы все же оставляем пациента в паллиативе — но тогда мы не должны лечить болезнь. Паллиативная помощь не должна лечить болезнь, она должна лечить симптомы и работать с пациентом комплексно. Недаром паллиативная помощь во всем мире считается именно помощью, а не медициной. В России — паллиативная медицинская помощь, а во всем мире это паллиативная помощь. Она состоит из нескольких аспектов: медицинского, социального, духовного, психологического, даже юридическая поддержка сюда входит, потому что, когда сталкиваешься с проблемой конца жизни, юридических проблем встает очень много, в Москве особенно.

Паллиативная помощь — это комплексный уход за неизлечимо больным человеком на последнем этапе его жизни. Этот комплексный уход включает в себя облегчение симптомов заболевания, социальную работу, направленную на улучшение атмосферы в семье, планирование того, как будет происходить дальнейшее течение болезни, потому что нужно уметь предсказать грядущие симптомы, работать на опережение. У онкологических больных быстрее проходит этот этап, у пациентов с хроническими состояниями, такими как, например, кардиологическая патология или рассеянный склероз, — дольше. Но в целом то, что происходит в конце, то, в чем человек нуждается, а также то, что переживают его родственники, достаточно предсказуемо и понятно. Паллиативная помощь работает с людьми, болеющими длительно. К нам не попадают люди, которые скоропостижно умирают в результате ДТП. Если это последствия тяжелой травмы, то к нам попадает только тот человек, который уже долго лежит, то есть он все равно уже длительно тяжело болеющий человек.
Очень важно понимать, что паллиативная помощь не про болезнь, а про пациента. Ты не можешь позволить себе зацикливаться на болезни и ее последствиях или особенностях, ты должен смотреть в комплексе. Самое главное — качество жизни. Если мы назначим тот или иной препарат с учетом возраста пациента и жизненного прогноза, что это ему принесет? Он уже глотать не может, а ему дают шесть таблетированных препаратов. Для чего это все? Зачем назначать какие-то анализы этому конкретному пациенту, да еще и ежедневно? Он весь уже истощенный, и мы прекрасно понимаем, к чему идет дело. Что изменится оттого, что мы каждый день будем брать анализ крови? Наши научные знания обогатятся или его качество жизни улучшится?
 — Вспоминается, как у друзей жена находилась при смерти, ей оставалось несколько дней жизни, это был рак со множественными метастазами, она не могла глотать, а надо было в нее зачем-то запихивать огромное количество таблеток, и это было таким мучением для всех. И тогда муж — буквально накануне ее ухода — принял решение больше не мучить ее таблетками. Какое наступило облегчение для всех…
— Вспоминается, как у друзей жена находилась при смерти, ей оставалось несколько дней жизни, это был рак со множественными метастазами, она не могла глотать, а надо было в нее зачем-то запихивать огромное количество таблеток, и это было таким мучением для всех. И тогда муж — буквально накануне ее ухода — принял решение больше не мучить ее таблетками. Какое наступило облегчение для всех…
— Качество жизни — это ключевое понятие. Когда мы говорим о медицине куративной, цель которой прийти к положительному результату, к излечению, качество жизни имеет право быть вторичным. Да, мы понимаем, что придется где-то пострадать. Та же химиотерапия при онкологии очень мучительна, качество жизни ухудшается, но ты хоть понимаешь, чего ради. А здесь чего ради? Поэтому надо быть очень осторожными. Ни в коем случае нельзя перегружать пациента бессмысленными процедурами, даже если с точки зрения врача, не пропитанного паллиативной идеологией, они осмыслены. Эта сфера медицины ни в коем случае не про амбиции врача.
Многие говорят: «А зачем врачи в паллиативной помощи?» Это другая крайность. Это все равно, что сказать: «Зачем нужны врачи в акушерстве?»
Кстати, чем дольше живу и чем больше думаю про это, тем больше отмечаю про себя сходство этих двух периодов и сфер деятельности в медицине. И там, и там — переход из одной жизни в другую. Зачем в начале жизненного пути акушер? Беременность — не болезнь, как мы знаем. Роды — естественный процесс. Почему должен быть рядом врач? Он должен работать на опережение, он должен уметь предсказать любые возможные осложнения и облегчить состояние мамы. То же самое и с этой сферой: умирание — это естественный процесс. Зачем врач рядом? Сопровождать, предсказать то, что неизбежно будет происходить, вовремя опередить нарастание болевого синдрома, отдышки, отечности, многих других неприятных симптомов и помочь. Можно еще задаться вопросом: кто страдает больше: мама или ребенок, семья, теряющая близкого человека, или сам пациент, расстающийся со всеми, кого он любит? И там, и там нужна комплексная помощь.
Я уже не говорю про то, что и в неонатальной сфере очень важно бывает подключать паллиативную помощь. У нас зачастую врачи не умеют правильно вести себя с мамами, принявшими внутреннее решение родить ребенка, несмотря на выявленные во время беременности патологии. А что происходит с пятисотграммовыми детьми, которых мы научились выхаживать? Выхаживать научились в том смысле только, что они будут продолжать жить. Но какое у них качество жизни? Это, как правило и к сожалению, изначально паллиативные пациенты просто по состоянию на момент рождения. Поэтому здесь надо сразу подключать паллиативную помощь.
Парковка, цветы, ремонт
— Какие задачи вы считаете наиболее срочными?
— Сначала нужно погрузиться в работу учреждения, понять, как все работает. Здесь замечательный медицинский персонал, замечательные люди, которые очень любят больных, любят свою работу. Первое, что нужно сделать, — это создать им оптимальные условия для качественной работы. Если на шестьдесят человек — две медсестры, то нельзя требовать от них, чтобы они вывозили пациентов гулять, чтобы они каждый день их мыли, кормили не по графику, а по потребности. Я могу сколько угодно возмущаться тем, что здесь есть пациенты, которые привязаны, фиксируются, но до тех пор, пока я как руководитель не обеспечу достаточное количество персонала, ничего не изменится. Хотя это скотство. Никто не должен фиксироваться (если это не случай острого психоза). И слово-то это ужасно: как ни называй, это все равно привязывать, это все равно нарушение личной свободы. В общем, здесь нужно создать условия для того, чтобы заработали принципы паллиативной помощи. Они не заработают при нехватке персонала и при нехватке элементарных технических медицинских средств.
Очень много надо работать на помощь семье в целом. Мы начинаем с каких-то простых вещей и требований. Например, во всех историях болезни достаточно детально нужно прописывать контакты родственников, родство, отношения. Почему это так важно? Потому что ты должен очень четко знать, кому ты будешь звонить, как сообщать об ухудшении состояния или уходе, как позвать родственников, чтобы человек уходил не один (одному страшно). Важно, чтобы пришел кто-то из близких и находился рядом. Надо знать, подготовлены ли к этому близкие люди, согласны ли они, чтобы им позвонили ночью, хотят ли в последние часы быть рядом или не хотят, а если пациент уже ушел, то как и кому сообщить.
Казалось бы, это очень просто, а на самом деле нет. Пациентов много, многие пациенты давно лежат, многие одиноки. Так что нужно объяснить персоналу важность того, чтобы у каждого пациента в карте было написано все про семью и его социальный статус. Для них опять же это дополнительная работа при нехватке рук. А близких еще найти нужно. Но никто не должен болеть и уходить в одиночестве.
Одна из первых вещей, которую мы здесь сделали, — это ввели круглосуточное посещение для всех. Не может здесь быть ограничений по возрасту или количеству посетителей.
Еще одно распоряжение было сделано и скоро, я думаю, будет реализовано — это разрешение парковки машин родственников на территории. Вроде какая-то смешная вещь, мелочь, а это очень важно, потому что мы в относительном центре находимся. А если человек приезжает сюда и мы ему даем возможность остаться на ночь, то где он припаркует машину? Как это согласовать? Мы должны запустить машину внутрь, при этом нельзя перегрузить территорию и у охраны должны быть соответствующие инструкции, а руководство охранной организации должно быть согласно с тем, что теперь к их охранникам предъявляются дополнительные требования. Целая цепочка за этим тянется.
Вы видели, что здание в состоянии ремонта. Это очень сложно — работать в разгар ремонта. Представьте, что у вас дома ремонт идет два года. Два года сотрудники живут в состоянии ремонта. А пациенты наши, которые уходят на этой койке? Они умирают в состоянии ремонта. То есть последнее, что ты видишь и слышишь, — это звуки дрели, известка, грязь. Это очень тяжело.
Ремонтные работы должны проходить так, чтобы не мешать лечебному процессу. Не может такого быть, чтобы работы велись одновременно на всех этажах, как это было здесь. Нужно потихоньку вести ремонт, чтобы пациенты не страдали, чтобы в определенные часы не проводились громкие работы.
Нужно даже в этих обстоятельствах обеспечить максимальный комфорт. Для этого нам очень нужны волонтеры со их удивительными идеями. Для этого нам нужны какие-то симпатичные мелочи — рисунки на стенах, вазы для цветов вместо пластиковых бутылок, пледы, картины. Нам уже столько привезли картин! Музыка в холлах и музыкальные центры должны быть, мы сейчас начинаем это все делать.
В общем, если говорить коротко, то первое, что надо делать, — это очень любить персонал, и очень любить пациентов, и учить этому других. Все остальные работы, к сожалению, занимают больше времени, чем хочется, но они все-таки по важности вторичны. Персонал и пациенты — в первую очередь. Надо понимать, что паллиативная помощь — это руки персонала. Это недорогая помощь. Но, конечно, у бюджета города сейчас будут большие затраты, потому что нужен и ремонт, и увеличение штатного расписания, и перевод работы выездной службы в семидневный (а не пятидневный) режим. Но на все это, к счастью, деньги есть.
Почему нужно переходить на семидневный режим? У нас в понедельник может быть семнадцать госпитализаций, а в пятницу — четыре. Есть люди, которые хотят госпитализироваться в выходные, но мы в субботу и воскресенье не принимаем, поэтому к понедельнику — очередь. Почему нельзя госпитализировать пациентов в субботу и воскресенье, особенно если у них болевой синдром, если это одинокие люди?! Если у тебя естественным путем, к сожалению, освободились койки в пятницу вечером, в субботу или в воскресенье, зачем же искусственно создавать очередь? Так что я не скажу вам, что сейчас у нас первое, а что десятое. Надо все и сразу — я человек нетерпеливый.
Пациент молчащий
— Уже есть отклик от пациентов?
— Это вопрос очень непростой. Понимаете, вне зависимости от того, что происходит, я здесь не видела ни разу недовольных пациентов. Я думаю, что и год назад, и полгода назад таких не было. Это вовсе не значит, что здесь все хорошо. Вообще в паллиативной помощи последнее, на что надо ориентироваться (я это очень серьезно говорю), — это благодарность от родственников. Ориентироваться можно на жалобы от родственников, и их надо ценить, тем более что они редки.
— Почему же нет жалоб?
— Пациент, попадающий на этом этапе к нам, — это пациент уставший и измученный, привыкший за период своей болезни к тому, что он никому не нужен, что уже все от него отвернулись — и участковый терапевт его боится, и лечащий врач от него устал, в глаза никто не смотрит, потому что им не очень удобно говорить: «Вы знаете, вам уже паллиативная помощь нужна».
Когда они попадают по профилю сюда, они очень признательны за то, что они нужны, что это для них, что никто никуда их не выпихивает, что они не паршивая овца здесь, они здесь норма. Родственники признательны за то, что им больше не надо ничего доказывать, что не надо куда-то госпитализироваться, что они получают помощь. Я ходила по этажам и говорила: «Извините, что у нас такие условия»., а они: «Ну что вы! Мы так признательны и благодарны».
Наш пациент — это пациент, переживший жуткие унижения, и его семья пережила жуткие унижения. Их благодарность — это свидетельство того, что мы неблагополучное в социальном плане общество. Понимаете, они благодарны за то, что им перестелили кровать, что их накормили обедом, что им поменяли памперс.. Это же ужасно. Это норма, за это нельзя быть благодарным. Это плохо, это значит, что мы не научили людей быть требовательными к качеству собственной жизни, к соблюдению каких-то элементарных этических вещей.
Сегодня я была в Департаменте здравоохранения и прежде, чем зайти в кабинет, постучала. Мне один сотрудник говорит: «Почему вы стучите?» — «А как же? Прежде, чем войти в палату, надо постучать». — «Это же не палата, это департамент, рабочий кабинет. Вы входите по работе». Но для меня это совершенно естественно. Нельзя войти в палату, даже если туда дверь открыта, не постучав. Но пациенты так привыкли к тому, что человек в белом халате — это человек, облеченный властью, что они не требуют, чтобы стучали, чтобы называли по имени и отчеству, чтобы вежливо разговаривали. Почему у белого халата такая магия? Хоть отменяй эти белые халаты. Нету магии. Эти люди ничем не лучше тех людей, которые лежат на койке. Просто сегодня мы им нужны, завтра они нам нужны. Между прочим, сегодня я не знаю, кто кому нужен больше — пациенты нам или мы им. Они нашу жизнь делают осмысленной.
Ольга Осетрова, главный врач самарского хосписа, однажды в Общественной палате РФ прочитала доклад, который назывался «Говорящее молчание». До самоубийства контр-адмирала Апанасенко тема обезболивания была табуирована. Минздрав или Росздрав тогда говорили: «А жалоб же нет. Чего вы кричите?»
Наш пациент — это пациент молчащий и благодарный. Жалоб нет, потому что люди не знают своих прав, люди не знают, что им положено, а когда человек уже умер, то его родственники не пойдут жаловаться, они хотят забыть, хотят пережить, не хотят к этому возвращаться. Это большое счастье, когда эти пациенты начинают жаловаться. Это значит, что они начинают понимать, что мы им должны. Начинают жаловаться на то, что нет кондиционера, что шумят, что обед негорячий. Надо страшно любить жалобы, а не благодарности. Они заставляют нас шевелиться.

Большое счастье, когда наши пациенты начинают жаловаться
— Вопрос про проблему обезболивания и контр-адмирала Апанасенко. Вы всегда говорите, что его самоубийство было жертвой. Но почему именно его жертва сработала, ведь он не первый?
— Это самопожертвование. Я так считаю. А почему сработало… Вы наверняка слышали выражение «генеральская жена». Семьи военных — это особые семьи. Это семьи сильных людей. Я думаю, что во многом ситуация с обезболиванием изменилась, потому что Вячеслав Апанасенко воспитал таких девочек, которые не хотели забыть, не думать, не возвращаться, которые нашли в себе силы придать всю эту ситуацию гласности. Катя Локшина, дочка контр-адмирала, не боится про это говорить.
Поведение его супруги и детей, их невероятное мужество стало возможным, потому что они прожили жизнь рядом с таким человеком. Это не был какой-то простой человек. Этот человек имел все возможности привилегированного общества, он был вхож в кабинеты начальства любого уровня вплоть до президента. И с ним такое произошло. Это значит, что не застрахован никто. Комплекс всех этих вещей, конечно, позволил сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
В одном из высоких кабинетов я рассказывала, чего мы добились с обезболиванием. И Нелли Борисовна Найговзина (заместитель руководителя аппарата Правительства Российской Федерации — Прим.ред.) мне сказала: «Давайте серьезно. Мы ничего не добились. Всего добился контр-адмирал Апанасенко». Это удивительно, когда ты в кабинете такого уровня слышишь эти слова. Я настолько была тронута, что даже Кате Локшиной написала смс: «Катя, прозвучало ЭТО».
Да, это самопожертвование, безусловно, потому что он отдавал себе отчет в том, что он делал. Это видно не только из записки, но и из целого ряда вещей, которые он сделал накануне.

Короткий морфин
— Что изменилось за это время с обезболиванием? Что еще нужно поменять?
— Изменилось многое. Сейчас министр Росздравнадзора Михаил Альбертович Мурашко — просто друг фондов «Подари жизнь» и «Вера» в вопросах обезболивания. А я очень хорошо помню наше знакомство, он нам говорил: «Вы что?» Я очень хорошо помню первую встречу с очень для меня удивительной, таинственной и интересной женщиной — Шевцовой Юлией Бронюсовной, она тогда сказала: «Забудьте. Короткого морфина никогда не будет». Сейчас это человек, который вместе с нами этого добивается и уже, по сути, добился. В дорожной карте, которая выпущена при совете у О. Голодец, есть пункт о появлении короткого морфина.
— Что такое короткий морфин и почему он так важен?
Короткий морфин — это золотой стандарт обезболивания в мире. Это не инвазивная, а таблетированная форма, которая моментально снимает болевой синдром. На сегодня у нас в таблетках есть морфин, который долго действует, то есть ты его выпил, но болеть перестанет через столько-то времени. Есть морфин в ампулах, но он требует инъекции, укола. Не каждый может его сделать, не везде он есть. Короткий морфин в таблетке — это то, что быстро и эффективно на короткий период времени снимает болевой синдром и используется во всем мире при так называемых прорывах боли.
Но это я говорю про идеологические изменения. Есть еще фактологические. Это и срок действия рецепта, который продлен, и то, что сейчас не только онколог или участковый, а любой специалист имеет право сегодня выписывать опиоидные анальгетики. И упрощены требования к хранению и транспортировке.
Другое дело, что законодательные изменения далеко не во всех регионах нашли свое отражение на практике. Возьмем право любого врача-специалиста выписать опиоидный анальгетик. Да, право он имеет, но для этого нужно обучиться, получить сертификат, что правильно при работе с серьезными препаратами. Обучаются они? Нет. Почему они не обучаются? Потому что главный врач поликлиники должен понять, кого ему обучать, каких своих специалистов. Он их собирает, спрашивает: «У кого болевой синдром на участке?» Они говорят: «Ни у кого». Ну и чего тогда обучать? А почему ни у кого? Потому что все равно в голове «потерпите», потому что пациент все равно не жалуется, потому что пациент привык к тому, что раз ты болеешь, то должно быть больно.
И в результате этой цепочки мы поняли, что должен родиться еще и другой проект — «Москва без боли». Этот проект, в моем представлении, направлен прежде всего на просвещение медицинского сообщества и пациентского сообщества. Нужно очень многое поменять. И не все можно поменять через законодательство. Кстати, есть такой закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» № 3-ФЗ, в котором прописано понятие пропаганды наркотических средств. Он нам во многом мешает, в частности — мешает реализовывать проект «Москва без боли». И вот почему.
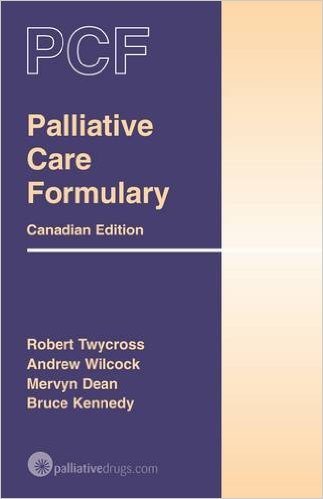 На примере одной книги расскажу. Замечательная книжка, подаренная нам в Питере одним из лучших специалистов в мире по паллиативной помощи. Этот врач Роберт Твайкрос превратил паллиативную помощь в определенное направление в медицине. Он привез книгу и говорит: «Нюта, у меня для вас подарок. Я вам дарю эту книгу. Вместе с подарком дарю авторские права, переводите». Я говорю: «Спасибо большое. Но я воздержусь от перевода». На сегодняшний день распространение подобной литературы — это уголовное преступление, приравненное к пропаганде наркотиков, потому что в федеральном законодательстве не разграничены понятия пропаганды и информирования. Это очень нам мешает. Конечно, и медики боятся говорить о наркотическом обезболивании с пациентами, рекомендовать, объяснять. Это просто кошмар, каменный век.
На примере одной книги расскажу. Замечательная книжка, подаренная нам в Питере одним из лучших специалистов в мире по паллиативной помощи. Этот врач Роберт Твайкрос превратил паллиативную помощь в определенное направление в медицине. Он привез книгу и говорит: «Нюта, у меня для вас подарок. Я вам дарю эту книгу. Вместе с подарком дарю авторские права, переводите». Я говорю: «Спасибо большое. Но я воздержусь от перевода». На сегодняшний день распространение подобной литературы — это уголовное преступление, приравненное к пропаганде наркотиков, потому что в федеральном законодательстве не разграничены понятия пропаганды и информирования. Это очень нам мешает. Конечно, и медики боятся говорить о наркотическом обезболивании с пациентами, рекомендовать, объяснять. Это просто кошмар, каменный век.
Например, Московский эндокринный завод — это государственная монополия на производство опиоидных анальгетиков. Там работают удивительные люди, директор — совершенно замечательный мужик, бывший сотрудник ФСКН, насколько я знаю. Его сотрудники, мягко говоря, не глухие. Мы с ними проговариваем, что нам нужно внести дополнение в инструкции к морфину, там нужно добавить то-то и то-то и давайте еще добавим туда десятибалльную шкалу. Когда люди будут читать в инструкции показания и противопоказания, там сразу увидят и шкалу боли и научатся оценивать свою боль по этой шкале. Этот пункт при их поддержке вошел в дорожную карту.
Появилось много очень положительных вещей. Если говорить про Москву, то уровень потребления опиоидных анальгетиков вырос больше, чем в два раза за год. Это наркомания повысилась? Нет, это уровень обезболенности повысился. Тем не менее мы все равно имеем достаточное количество людей не обезболенных. Есть еще одна замечательная цифра, правда, это опять же касается только Москвы. В Москве потребление неинвазивных форм (например, пластырей) — 47% от всего количества этих форм по стране. Потому что уровень образования врачей здесь все-таки другой и уровень просвещенности общества здесь другой.
Приступ боли. Очень сильной боли
 — Куда бежать человеку, которого настиг приступ боли в выходные или в пятницу вечером?
— Куда бежать человеку, которого настиг приступ боли в выходные или в пятницу вечером?
— Я уже говорила про предупреждение симптомов. Не может быть у онкологического больного неожиданного приступа боли. Для него он может быть неожиданным, но он не должен быть неожиданным для врача. У больного должны быть все инструкции дома, ему должны быть выписаны препараты, рецепты. Все должно быть готово на такой случай. Я не встречала таких онкологических больных, даже на четвертой стадии, прикрепленных к хоспису, которые еще вчера на работу ходили, а вечером у них как заболело и давай ему морфин сразу. Если у тебя начало болевого синдрома, тебе все равно морфин не нужен. Это все равно еще противовоспалительные и нестероидные препараты, которые просто в аптеке продаются. Потихонечку ты к ним подключаешь адъювантную терапию, где-то антидепрессанты, где-то психотропные препараты, нейролептики, потом переходишь на вторую ступень, там трамадол, а потом уже на третью. Неожиданного болевого синдрома у онкологического пациента в терминальной стадии не бывает. А прорыв боли бывает. У тебя болит так, что ты получаешь морфин. Ты его получаешь грамотно, постоянно, но случился прорыв боли. Для снятия его на сегодня, по сути, у нас препарата нет. Тут нужен тот самый короткий морфин, о котором мы говорили.
Пациент может только сделать себе еще один укол. Но, во-первых, это очень резкое повышение уровня препарата в крови, соответственно, увеличение рисков побочных эффектов. Во-вторых, ты расходуешь ту дозу, которую тебе врач рассчитал на определенный период времени. И, конечно, человеку, находящемуся дома, не медику, трудно рассчитать, сколько надо и как. А короткий таблетированный морфин имел бы разные дозировки — 10 мг, 20 мг, 4 мг, и у пациента была бы инструкция, как его принимать.
Но все равно давайте ответим на ваш вопрос: а что делать, если? Если прорыв боли случился в выходные дни, надо вызывать бригаду скорой помощи. Бригад, не оснащенных опиоидными анальгетиками, нет. Право на то, чтобы обезболить пациента опиоидными анальгетиками, есть у каждой машины, у каждой бригады. Никакого дополнительного согласования им не требуется, это очень важно знать. Основания для того, чтобы обезболить пациента, им, безусловно, нужны. Если я сейчас лягу, вызову скорую и скажу: «У меня страшно болит, трамал не помогает, дайте мне морфин», — меня пошлют на фиг и будут правы. Им нужно основание, им нужен диагноз. В вашем примере у человека есть диагноз? Им нужны назначения. Например, он уже обезболивался трамадолом и говорит: «Вот у меня трамадол, час назад сделал инъекцию (или два часа назад), не проходит, умираю, помогите», — это для них достаточное основание.
Есть три основания у врачей скорой помощи для обезболивания в такой ситуации. Первое — у пациента есть препарат, но он не умеет сделать себе инъекцию сам. Скорая приезжает и его препаратом делает ему инъекцию. Второе — отсутствие у него препарата, уже ему назначенного, то есть он сколько-то израсходовал, перед выходными не получил, и тогда они пользуются своим. Третье — усиление боли, когда у него уже есть диагноз и есть предыдущий препарат, но он не помогает. Во всех трех случаях бригада скорой помощи по правилам должна передать информацию в поликлинику. Вот как с гипертонией: у вас гипертонический криз, приехала скорая, поставила капельницу, приступ сняла; потом они позвонят в поликлинику, и завтра к вам придет доктор, проверит, потому что вы отказались от госпитализации. Так и здесь они должны передать в поликлинику, и к вам должен прийти врач и содействовать тому, чтобы вы не тратили бюджетные деньги и не вызывали себе скорую шесть раз в сутки.
Конечно, это не всегда работает. По законодательству все можно, а по факту есть человек, который руководит скорой помощью в Москве — Николай Филиппович Плавунов, и он приводил цифры, сколько раз вызывают скорую помощь для обезболивания. Боюсь сейчас соврать, но очень часто, к сожалению, и это неоправданное расходование средств и результат непродуманных действий врачей на местах, которые могли бы помочь пациенту избежать таких ситуаций. Я уже не говорю о том, что если бы у нас была в достаточном объеме помощь на дому, то люди, скорее всего, не вызывали бы бригаду скорой помощи в момент, когда терминальная стадия уже перешла к своему логическому завершению.
Когда дома агонирующий пациент, родственники очень пугаются (это действительно страшно) и в страхе вызывают скорую помощь, даже те, кто прикреплен к хоспису. Почему? Потому что выездные службы хосписов не работают круглосуточно, и это надо менять, и мы это изменим. И потому что этих выездных служб недостаточно просто с точки зрения объемов и у пациентов и у родственников недостаточно времени на контакт с этими врачами. Если бы этого времени было достаточно, то родственники были бы более подготовленными к тому, что происходит, и понимали бы, что в такой ситуации надо звонить не в 03, а своему лечащему врачу. Опять же, если служба работает круглосуточно, если есть телефон, мы информируем семью заранее, оставляем ей правильные инструкции, садимся на телефон с этой семьей и начинаем проговаривать, что происходит то-то и то-то, не пугайтесь и т.д.

Что может сделать скорая помощь, когда ее вызывают к умирающему? Там что, врач паллиативной помощи есть? Нет. Врач скорой видит умирающего человека. Если это человек уже сильно в возрасте, врач объяснит родственникам, что происходит, скажет: «Извините», и уедет. Так родственники еще и разозлятся: приехал и не помог. А что он может сделать? Он может погрузить умирающего в автомобиль и отвезти в больницу. В больнице такой человек куда попадет? В отделение реанимации. В отделении реанимации что будет происходить? Будут оказывать реанимационную помощь. А дальше мы получим родственников, возмущающихся тем, что их близкого на ИВЛ перевели, он умирал, двери закрыты, их не пускали. Короче говоря, надо развивать патронажную службу на дому.
Не надо бояться того, что родственники, ваши любимые и близкие люди, будут уходить дома. Это нормально, это естественно. Это страшно только когда вы одни и нет помощи рядом. А когда есть помощь рядом, то это (мне не хочется говорить слово «замечательно», потому что смерть не может быть замечательной) естественно, это нормально. С точки зрения статистики можно ли говорить, например, объективно о показателях летальности в стационарах города, если мы понимаем, что определенный процент людей, которые влияют на показатели летальности в лечебных учреждениях, составляют пациенты, которые провели там несколько часов, являются паллиативными, приехали и сразу поступили в отделение реанимации? Это бред. Это не должно влиять на показатели летальности, это должно влиять на сроки становления патронажной службы в городе.
Как у них и как у нас
— Я хотела бы еще про фонд «Вера» спросить, про его пациентов. Паллиативных пациентов коснулось как-то принятие комплекса решений об импортозамещении медикаментов?
— Я не сильна в этом вопросе. Во-первых, хотелось бы сказать, что у фонда нет пациентов. Фонд помогает хосписам. И еще он помогает адресно тем больным, которые лишены возможности получить помощь в хосписе, потому что хосписа нет по месту жительства или еще почему-то. В паллиативной помощи очень нечасто применяются какие-то редкие препараты или редкие технологии. Наверное, нас импортозамещение коснулось меньше, чем кого-либо, но и нельзя сказать, что совсем не коснулось, потому что импортозамещение — это не только про лекарства, это еще про расходные материалы, про перевязочные материалы, про какие-то технические медицинские средства. Конечно же, я не верю в возможность развивать какой-то сегмент рынка, исключив из него конкуренцию. Мы не изобретем велосипед; если мы хотим стимулировать производство, это надо делать дополнительными субсидиями, налоговыми послаблениями для отечественных производителей, а не запретами. Думаю, что я это импортозамещение еще почувствую.
Совершенно точно, что нам осложняет жизнь запрет на ввоз препаратов. Нам говорят: «Что вы, это же теперь стало проще; наоборот, вы теперь получаете бумагу, и с этой бумагой…» Ну, и как эту бумагу-то получить? Где же вы найдете врача, который не побоится написать, что пациенту положено лекарство, которого в стране нет? И так родители, которые ввозили для своих детей, страдающих эпилепсией, из-за рубежа такое средство, как Сабрил, ходили под дамокловым мечом, а сейчас просто они под тюрьмой ходят. Или я, может быть, что-то не понимаю? Я в последние пару месяцев выпала из законодательной работы, недостаточно следила. Но в моем представлении любое ограничение на рынке не может на потребителе сказаться хорошо, начиная от санкций и заканчивая импортозамещением. Я — человек либеральных установок.
— Нюта, расскажите, пожалуйста, о зарубежном опыте. Вы очень много и обучаетесь, и смотрите, что происходит за рубежом. И оказывается иногда, что у нас тоже происходит что-то очень хорошее. Я помню ваше открытие того, как хорошо готовят в Боткинской.
— Симуляционный центр Боткинской больницы — это невероятное место. Я там увидела симуляционный центр, где можно готовить персонал, обучать его. Да, это очень круто, это просто фантастика. А еще нам, фонду «Вера», разрешили бесплатно обучать там сиделок, медицинский персонал детского хосписа, за что я им очень признательна.
— Из того, что вы видели за рубежом, что бы вы хотели у нас внедрить и возможно ли это?
— Я бы очень хотела, чтобы у нас паллиативная помощь была выстроена так, как она выстроена в Великобритании. На мой взгляд, это идеальный вариант, который подходит европейцам, а не людям с нашим менталитетом. Но у нас так не будет, по разным причинам. У нас другое законодательство, другое бюджетирование, много всего другого. Как в Великобритании, у нас не будет, но какие-то вещи надо заимствовать все равно. И когда много ездишь и глубоко погружаешься, понимаешь, что в каждой стране паллиативная помощь организована по-разному. Это связано не с тем, что в Великобритании, например, денег больше, а в Польше меньше. Это связано с тем, что каждый приспосабливает эту помощь под нужды своих пациентов, под особенности законодательства своего государства. Поэтому брать нужно отовсюду понемножку.
Кое-что мне очень понравилось в Польше, например. По-моему, я рассказывала, как там потрясающе поставлена работа с волонтерами. В городе Гданьске, к примеру, волонтерами являются заключенные местной тюрьмы. Был такой момент в Польше. Я пришла в один хоспис, и там было так тихо, и как-то немножко уныло, и тесновато. И так как они все там экономят и свет все время выключают, то там такой полумрак! Но при этом обезболивание стопроцентное, с точки зрения организации условий (качество кроватей, подъемников, возможности помыться, возможности выехать на улицу) все работает. Мне как бы там и не понравилось, потому что полумрак и тесно, и понравилось, потому что там все работает. Я вышла и вдруг подумала: если бы мне сегодня сказали, что Первого московского хосписа, маминого, этого прекрасного места, этого оазиса в центре Москвы, центра человеколюбия, не будет, но все остальные хосписы будут такие, как этот, то я бы сказала «да», я бы не думала ни секунды. Потому что очень важно прописать определенные стандарты и эти стандарты профинансировать. Важно, чтобы определенные критерии качества были бы неизменны.

Основатель и главный врач Первого московского хосписа Вера Миллионщикова
А дальше все равно будет все зависеть от каждого конкретного главного врача, потому что главный врач — это руководитель учреждения и от него зависит намного больше, чем от любых законодательных бумаг, — и в плохую сторону, и в хорошую. Конечно, заключенные из тюрьмы — это совершенно удивительный опыт, очень интересно влияющий на жизнь хосписа и его пациентов, на родственников. Например, в этом же хосписе первое объявление, которое я увидела при входе, было о том, что по средам у них проходят покерные турниры для пациентов. А это католический хоспис, он построен при храме. Я думаю: ничего себе, как либерально, молодцы какие! А доктор, который нас водил (очень надеюсь, что он приедет когда-нибудь в Россию), говорит: «Это очень выгодно! Представляете, проиграть пациенту? Отдавать не надо».
Еще была у меня довольно длительная и очень информативная поездка в Израиль, из этой поездки выросло совершенно удивительное сотрудничество с госпожой Клавдией Консон, которая сейчас с Департаментом здравоохранения договаривается о постоянной работе. Мы делаем ей рабочую визу, она будет нам помогать. Она нам уже помогает разрабатывать протоколы ведения больных и стандарты для деятельности внутри медицинской организации: как выстроить логистику работы медсестры так, чтобы она все успевала, чтобы не было лишних усилий, чтобы правильно все происходило…
Удивительный совершенно человек, она занимается контролем качества оказания паллиативной помощи в Израиле. Она организовала эту поездку, и в этой поездке я впервые увидела огромный паллиативный гериатрический центр — на пятьсот или семьсот коек. Думаю: какой кошмар! У нас все-таки в голове хоспис — это маленькое учреждение, паллиативная помощь должна быть для небольшого количества людей, как маленький детский сад. Но тогда я поняла, что когда это на пятьсот и семьсот коек, это может быть все равно круто. Почему в Израиле так? Потому, что пожилых людей очень много, а земли очень мало, просто физически мало земли, они вынуждены строить вверх. И ровно это примирило меня с тем, что в Москве существует этот Центр паллиативной помощи, где мы сейчас с вами встречаемся. До этой поездки я категорически не могла это принять и считала, что это катастрофа — сделать на двести коек паллиативное учреждение, потому что не может главный врач знать и любить каждого
— А должен?
— Да, должен. Индивидуальный подход — это основа основ. Мы с вами говорили в начале, что паллиативная помощь — это не про болезнь, а про пациента. Как это реализовано в Израиле? Очень просто: там каждый этаж — это отдельный мир, это, по сути, отдельное учреждение. Да, там одна администрация, бухгалтерия. Но, оказывается, можно сделать так, чтобы каждый этаж был отдельным миром. Что для этого нужно? Для этого нужно отделения делить не по нозологии, не по диагнозам, а по тяжести состояния. И это очень легко сюда экстраполируется, в это учреждение. Это та концепция, которая сейчас нами будет реализовываться. Так же, в общем, это работает во всем мире, только в рамках разных учреждений, а не одного многоэтажного.
Это очень удобно эргономически и финансово, потому что мы тогда не должны каждое отделение оснащать с точки зрения оборудования и персонала одинаково. Если у нас отделение, где пациенты ходят и могут сами за собой ухаживать, там может быть меньше медицинского персонала, там могут быть иные кровати, подешевле. Если у нас пациенты совсем тяжелые, там будет больше медицинских сестер, больше врачей, опиоидные анальгетики, где-то аппарат ИВЛ, где-то серьезная кровать или противопролежневые матрасы.
А если у нас в каждом отделении может быть и такой пациент, и такой, это значит, что мы везде должны иметь все. И очень удобно, когда ты пациента перемещаешь из отделения в отделение по тяжести, а не по диагнозу. Во-первых, он находится среди людей той же степени беспомощности, скажем так. Сегодня здесь в палате шесть человек. Один, может быть, только сегодня поступил, и он вообще еще в панике, и родственники рядом, он в сознании, пусть и с болью, но он дома был сегодня утром. А в том, дальнем, углу лежит уходящий пациент, около него сидит кто-то, плачет. Это для всех стресс, да? И для персонала это тоже стресс, потому что непонятно, как вообще в такой ситуации быть.
Если же вы ранжируете, то вы избегаете этого стресса. Можно говорить о том, что надо просто по палатам ориентировать, как мы в хосписе это делаем. В хосписе мы очень много работаем над компоновкой палаты: где-то пациенты курящие, где-то пациенты уходящие, где-то пациенты, которые максимально активны и совместимы между собой. В таком большом учреждении это не так просто сделать: приток людей большой каждый день, мало персонала, нет на это особенно сил и времени. Если мы организуем (а я уверена, что мы это сделаем) такое деление по тяжести, а не по нозологиям, то мы еще и позволим пациенту иметь все время одного и того же врача-специалиста. Если это неврологический пациент, у которого основные проявления — неврологические, то его врач по паллиативной помощи — невролог, он будет с ним переходить с этажа на этаж. Не будет меняться лицо близкого тебе человека, он будет с тобой и в начале пути, и в конце пути, это важно. А то, что вокруг, будет приспосабливаться под тяжесть твоего состояния.

Волонтеры наряжают елку в хосписе
— У вас новое поле деятельности, вам нужны люди. Тяжело ли найти людей, которые работают в этой области? У вас есть проблемы с этим?
— Как вы считаете, толковых людей «Православию и миру» легко найти? Вам нужен, например, хороший бухгалтер или хороший журналист…
— Очень, очень сложно.
— Хороших, толковых людей — их в принципе дефицит. Если у вас есть очередь толковых, делитесь. Это всегда сложно. На мой взгляд, нет никакой разницы, говорим ли мы про школу, про родильный дом или про паллиативный центр. Все равно сюда, в любое учреждение, прибивает людей, которые хотят в эту сферу. Случайные люди не останутся ни тут, ни у вас, но среди них выбрать профессионалов очень сложно. Но я не считаю, что сложнее, чем где-то еще. Все равно каждый выбирает по себе, понимаете? И сюда тоже идут люди, устраиваются на работу.
— Что происходит в области детского паллиатива и детского обезболивания?
— Аня, мы все равно с вами упираемся в образование врачей. Сегодня в ручном режиме, давлением сверху можно решить вопрос с обезболиванием любого человека — ребенка, старика, иностранца.
Мошенники в паллиативе
— Если вы об этом напишете в своем Фейсбуке?
— Да нет, зачем скандалить сразу? Я научилась дружить. Телефонным разговором намного эффективнее и быстрее. Хотя иногда очень нужно поскандалить, потому что в ручном режиме ты помогаешь одному, а в режиме скандала ты помогаешь сразу многим.
Я расскажу вам историю, которая произошла на прошлой неделе. Пациентка находилась в клинике «Экстрамед». На сайте этой клиники вы увидите раздел «Хоспис» и раздел «Паллиативная помощь». Мне позвонила родственница этой пациентки и говорит: «Я звоню по поводу человека, который находится в платном хосписе». Я спрашиваю: «Где?» — «В платном хосписе». Я говорю: «Да нет у нас платных хосписов». — «Нет, есть». — «Ну, хорошо, где?».
Пока я с ней говорила, я зашла на сайт. Да, хоспис, там написано, насколько они лучше государственных, чем они отличаются в лучшую сторону. Я говорю: «Почему вы хотите перевестись в бесплатный?» — «Обезболивания нет». — «Ну как это — нет?» — «Нет, — она говорит, — раньше она стонала от боли, а сейчас она уже не стонет и не кричит, а только, когда до нее дотрагиваешься, начинает плакать. Не плакать даже, а слезы текут от боли». — «Это ребенок? — «Нет, взрослая женщина».
На сайте клиники есть раздел «Лицензия». Заходим в этот раздел, там выложена лицензия, но удивительным образом лицензии на паллиативную помощь нет. Я звоню туда, прикидываюсь родственницей: «Оказывается ли паллиативная помощь?» — «Конечно», — говорит администратор. «А нам нужны опиоидные анальгетики». — «Ну что вы, морфина у нас нет!» Тут я уже говорю: «Вы знаете, меня зовут Федермессер Анна Константиновна, я директор Центра паллиативной медицины в Москве. Можно с руководством поговорить?» — «Нет. А кто вы? Еще раз представьтесь». Я говорю: «Вы знаете, я ужасно возмущена, что уже несколько лет подряд мы получаем от вас пациентов, которые не обезболены».
Психанула, позвонила в Росздравнадзор. Росздравнадзор через несколько минут убедился в том, что у них нет лицензии на работу с опиоидными анальгетиками и паллиативом. И при этом у них на сайте написано, что они оказывают платную паллиативную помощь и выписывают опиоидные анальгетики. То есть это такое введение людей в заблуждение! Катастрофа просто.
Конечно, нельзя всех под одну гребенку. Но целый ряд таких маленьких платных клиник интересует только собственный карман. Пациенту настолько уязвимому можно столько навешать лапши на уши! И бесконечно делать эту тяжеленную химиотерапию или назначать какие-то совершенно ненужные обследования. Сейчас у нас была ситуация, когда женщине позвонили домой и сказали: «Муж у вас умирает, мы его переводим на ИВЛ. Да?» Что скажешь, когда по телефону тебе звонят? Конечно, она сказала «Да». И теперь что? Он на ИВЛ в платной клинике, и что делать? Стоимость каждого дня удвоилась. Сколько он проживет на ИВЛ, уходящий от рака человек? Да, не очень долго, но, тем не менее, период его мучительного умирания они очень сильно продлили.
Вы спрашивали про детей. В отношении детей происходят те же изменения, что и в отношении взрослых. Но страхов у врачей больше. И когда мы решаем в ручном режиме, звонком сверху, вопрос о детях, это не воздействует так на медицинский персонал, как во взрослом звене, потому что у педиатров ощущение, что им выкручивают руки. Они обезболят, но это ощущение, что ты все равно детям вредишь, у них останется. Конечно, ситуация меняется, но медленнее. И когда человечек сам не может объяснить, что с ним происходит, когда это маленький малыш, это очень тяжело. Вы же знаете, мы все пуповиной с детьми связаны, и родители чувствуют и знают, какие признаки означают, что ребенку больно. А врач этого не знает. В общем, сейчас проблема в головах, а не в документах.

Собака-терапевт во втором московском хосписе
Боль убивает, а морфин не убивает
Конечно, в законодательстве еще многое надо менять. Мы очень надеемся на появление электронного рецепта на опиоидные анальгетики, потому что это решит проблему выписки рецептов только по месту регистрации, как это происходит сегодня. Если есть электронный рецепт в единой системе по всей стране, то ты с этим рецептом можешь передвигаться с места на место. Если ты уже есть в этой системе, то, куда бы ты ни уехал, тебе достаточно врачу сказать, что у тебя и диагноз, и тебе этот препарат назначен, и он у тебя уже заканчивается, — и тебе выпишут рецепт. Это еще и усиление контроля за нелегальным оборотом, и прозрачность. В общем, это решает массу проблем, но для этого нужно еще работать, этого пока не существует. Конечно, нужны и новые лекарственные формы, прежде всего детские. Конечно, нужно менять систему документооборота внутри медицинской организации. Те изменения, которые произошли после самоубийства контрадмирала Апанасенко, касаются, в основном, амбулаторного звена. Внутри стационара количество бумаг, с которыми приходится работать медикам, никак не изменилось. В стационаре вообще мало что изменилось. Нет у медиков большого желания работать с опиоидными анальгетиками, они понимают, какая это все катавасия.
Например, мы тут нашли замечательного доктора из Израиля, по имени Зориан Радомыслский. Он с нами был на юридическом форуме в Питере. И он слышал, как мы там обсуждали ФСКН, декриминализацию, ответственность медицинского работника, пропаганду информирования, отсутствие короткого морфина. Он все это слушал (а он такой эмоциональный), ерзал-ерзал в кресле, потом встал и говорит: «У нас бы врачи митинг устроили! У нас бы они работать перестали, если бы их вынуждали с такими правилами людей обезболивать! Как они вообще у вас тогда работают, бедные врачи?» Я говорю: «Вот так, работают. Ничего, работают».
Роберт Твайкрос, про которого я вам говорила, который эти книжки нам дал, читал лекцию. Нам казалось, что жалко человека, такую звезду, вытаскивать из Великобритании для участия только в юридическом форуме, и мы решили еще организовать его лекцию для медицинского персонала в Питере. Там был один российский доктор, он слушал-слушал лекцию, а потом, в период вопросов, встал и говорит: «Слушайте, а все равно, все-таки еще раз, неужели вы действительно считаете, что назначение морфина не сокращает человеку жизнь? Ну, не могу я как врач…»
А Роберт Твайкрос высокий, очень статный, настоящий джентльмен, у него красивая белая седина, костюм и очень длинные ноги. И он своими очень длинными ногами как зашагал и произнес удивительную фразу: «Pain kills, but morphine does not kill», то есть «Боль убивает, а морфин не убивает». И рассказывал о том, как морфин продлевал жизнь. Когда у человека сил остается очень мало и он остатки своих жизненных сил тратит на борьбу с болью — это, конечно, катастрофа. И в данной ситуации морфин — это спасение, морфин — это возможность людям нормально общаться, морфин — это возможность продолжать нормально функционировать, морфин при длительном хроническом тяжелом болевом синдроме — это, безусловно, продление жизни и улучшение ее качества.
Беседовали Анна Данилова, Валерия Потапова, Видео: Виктор Аромштам


Исполнилась мечта детей, которые дружат и которым помогает фонд — они приехали из других городов в Москву на квест в ГМИИ им. А.С. Пушкина


Пикник в хосписе

Врач хосписа в живом уголке




