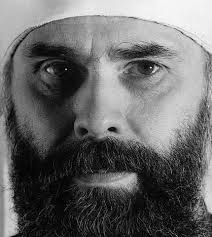
I
Тема этой серии бесед — “Последние пределы”, то есть смерть, Суд, Воскресение, вечная судьба человека, ад и Небеса, Последние пределы и Время и всё, что в этом содержится: с одной стороны, — личная судьба отдельного человека, с другой — история народов. По ходу этих бесед мне придётся в качестве введения рассмотреть некоторые предпосылки. Таким образом, с Последними пределами мы встретимся в заключение как с исполнением, полнотой того, что собой представляют история и жизнь, будь то жизнь отдельных людей или история в целом, поскольку та и другая обусловлены временем. Они развиваются во времени, и можно, вероятно, сказать (и я постараюсь это показать), что они развиваются вместе со временем.
Говоря о времени, следует рассматривать несколько составляющих: с одной стороны, начало и конец, с другой — течение времени в промежутке между началом и концом. Люди сведущие называют изучение начала археологией; это может привести к путанице, потому что не это обычно понимают под археологией, но нам придётся поговорить и об этой проблеме начала, и о проблеме конца. Конец на богословском языке называется эсхатологией. В наше время это слово покрывает гораздо больше, чем его первоначальное значение, и означает познание окончательного и решающего. И конец истории, так же как конец жизни любого человека, можно рассматривать с этих двух точек зрения. Это завершающее событие, потому что оно кладёт конец, предел течению времени для данного человека или для истории мира; но то, что конец этот настал — не просто сворачивание определённого периода времени. Событие это — не только окончание, но и решительный момент, потому что от того, что происходило ранее, зависит то, что принадлежит области вневременной, области вечности.
Далее нам придётся дать определение, что означает эта вневременность или вечность, пока же нам важно понять, что “конец” означает и исполнение, полноту, и суд. А границы времени определяются двумя терминами: “начало” и “конец”. В некотором смысле можно сказать, что прежде начала — времени нет, как нет времени после конца, время заключено между этими двумя границами. Я не случайно употребляю слово “заключено”. В связи с другим вопросом, в контексте проблемы нашей свободы мы увидим, что начало и конец совершенно вне нашей власти, мы заключены в этих границах, что бы мы ни думали о своей судьбе в этом промежутке. Эта ограниченность затрагивает как отдельные особи, так и весь тварный мир. Она касается каждого, потому что человек приходит в мир не по собственному выбору и умирает в момент, который не выбирал сам, и оказывается перед итогами своей судьбы, то есть перед судом. Эти две границы, начало и конец, принадлежат Богу, можно сказать, в одностороннем порядке, и существование этих границ превращает судьбу человека (отрезок времени, протекающий между этими точками) в нечто чрезвычайно значительное и трагичное. Оно трагично из-за вопроса жизни и смерти и в конечном итоге вопроса будущей жизни, с которой мы встречаемся без всякой возможности выбора: принять или отвергнуть предлагаемый нам вызов.
А между началом и концом находится время. И время — не такая уж простая вещь. Есть прошлое, есть будущее и есть то, что один немецкий писатель называет “мгновение ока”: миг, доля секунды, даже меньше чем эта доля, — это и есть настоящее. В каждый момент нашей жизни прошлое всё возрастает, будущее непрестанно встаёт перед нами, а между прошлым и будущим нам принадлежит вот эта доля секунды. Можно сказать, что время представляется нам потоком, но оно исходит из прошлого, которое с каждым мгновением тускнеет, поскольку оно превзойдено, и ведёт нас в неведомый мрак будущего, которое ещё не настало. Одного уже нет, другого ещё нет, и между тем и другим мы постоянно находимся в ситуации, которую называем “сейчас”. Но это сейчас бесконечно коротко и бесконечно значительно. Мы никак не можем изменить прошлое; будущее также не в нашей власти. Доля секунды содержит прошлое и будущее, потому что некоторые вещи в прошлом — прошли, вымерли, их больше нет, но кое-что из прошлого всё ещё с нами, оно составляет настоящее. Оно частично относится к тому, что получило развитие и продолжает существовать и постепенно переходит в будущее. И эта же доля секунды содержит и будущее, потому что мы вступаем в будущее, которое состоит не только из внешних обстоятельств: главное, существенное в этом будущем — мы сами и то, что мы в него привносим.
В каком-то смысле прошлое и будущее так же нереальны, как сон, в каком-то другом смысле они в высшей степени и до конца реальны, уже присутствуют, уже существуют одно в другом и в том моменте, в котором мы находимся. Этот момент — абсолютно реальный и конкретный аспект времени, с которым мы можем иметь дело, в котором живём и действуем, в котором бытиё сосредоточилось, упрочилось, как бы сгустилось, получило глубину и напряжённость. В этот момент время вверяет человеку бытиё бесповоротно, непреложно. То, что случается, уйдёт в прошлое и пребудет неизменным, и это неизменное прошлое уже определяет будущее. Таким образом, кроме начала и конца есть также этот элемент настоящего, прошлого и будущего, и единственный аспект времени в нашем распоряжении — та самая доля секунды, которую мы называем “сейчас”. Всё остальное вне нас, и опять-таки оказывается, что мы как бы заключены между этими двумя иными реальностями: между прошлым, которое принадлежит проблеме начала (потому что каждый прошедший миг для нас — начало настоящего), и полным благоговейного трепета будущим, в котором — проблема конца, эсхатологического суда над нами и нашей жизнью. И каждый период — начало и конец, и настоящее, и текущее время — обладает и другими свойствами.
Реальное начало относится к одностороннему действию Божию, которое мы называем Творением. Человек, как и всё сущее, был создан из ничего. Это первое утверждение, перед лицом которого нас ставит Священное Писание: Писание как Откровение, как Слово Божие о чём-то, чего мы не знаем и познать не способны. У человека нет онтологического основания ни в самом себе (у него нет прошлого, предшествующего его началу), ни в Боге (человек не коренится существенным образом в Боге и радикально отличается от Него). Прежде бытия вселенной, неотъемлемой частью которой является человек, есть только ничто, и человек не связан генетически со своим Творцом. “Хаос” как он мыслился в древности — только относительное ничто; из своего опыта уже существующего древний мир мог представить себе хаос только как ничтожность, не как небытие. Этот неопределённый, бесформенный способ бытия того, что уже существует, описан в книге Бытия: Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною (Быт 1:2), или, согласно переводу с еврейского языка Эдмонда Флега, “Земля являла потоп и хаос, и тьма покрывала бездну”1.
Для древнего мира существовало только упорядоченное бытиё. Реальное и абсолютное ничто, то “ничто”, которое предшествует сотворению первой твари, — такое понятие превосходит способности естественной мысли, его невозможно вывести, наблюдая “то, что есть”, потому что “то, что есть” может оскудеть, но не может вернуться в не-бытиё, потому что первичное “ничто” не есть отсутствие или пустота или умаление бытия до невозможности быть воспринятым. Напротив, оно — присутствие par excellence Того единственного, Кто имеет реальность, Кто остаётся трансцендентным и непознаваемым, пока Сам не решит, не изволит явить Себя. Хаос — отсутствие сотворённого, но появлению твари предшествует полнота нетварного, которое ведомо одному Богу и которое может явить только Он. Между человеком и Богом нет общей меры, ничто не роднит их естественным образом, потому что человек коренится только в воле Божией. Человека возжелал Бог вместе со всем остальным тварным миром; мир появился, потому что ему было сказано: Будь! — и вместе с ним появилось время, потому что время возникает, когда что-то, чего не было, получает начало. В этом отношении вся судьба тварного мира принадлежит категории времени. А на другом краю, в конце всего, как эсхатологическое завершение всего — суд. Суд, перед которым нас ставит Бог, но которого мы сами не желали и не устанавливали. Начало и конец, определяющие границы времени, эти два неизбежные полюса, в отличие от человеческой свободы, являются односторонними действиями Божиими, которым нам приходится покориться, и это создаёт трагическую проблему, потому что Бог возжелал нас без нашего согласия, и однако мы должны стать перед Богом и понести перед Ним ответ за то, как мы жили, за то, каким образом мы пользовались тайной времени.
У времени есть и другое свойство: с богословской точки зрения оно содержит тайну нашей свободы, потому что между этими двумя абсолютными и неколеблемыми ограничениями начала и конца мы можем использовать время. Время принадлежит нам, в наше оправдание или осуждение, но оно принадлежит нам и содержит всю полноту нашей свободы. На фоне всего этого — сотворения, суда и свободы, односторонней воли Божией и воли человеческой — возникают некоторые реальности: творческий акт и всё, что он подразумевает для Бога, как и для человека, трагедия падения и смерти, что на поверхностный взгляд вступает в противоречие с актом творения (одна из проблем теодицеи — оправдание Божественного Провидения перед лицом существования зла), затем проблема суда, которая также противоречит нашей свободе, потому что наше существование предопределено; и в конце — то, что может быть кошмаром или блаженством: воскресение либо в вечную жизнь, либо в осуждение. И это тоже как бы противоречит самому факту нашей свободы, потому что мы свободны определять себя только в изначально установленных границах. Мы не можем вырваться из этого заключения, ограниченного началом и концом, ограниченного опять-таки тем фактом, что Бог создал нас определённым образом, даровал определённую природу, и нам приходится стоять лицом к лицу с началом, с судом, со временем и свободой изнутри ситуации, которую определяет Бог.
Нам придётся посмотреть в лицо этим различным проблемам, раньше чем мы сможем вынести суждение или выразить мнение или войти в понимание того, в чём состоят Последние пределы и каково их значение, потому что это значение окажется совершенно иным в зависимости от того, как мы разрешаем эти различные проблемы, в частности, проблему свободы. В этом сердцевина вопроса для нас, потому что Последние пределы — смерть, воскресение, суд и вечная участь предстанут нам в зависимости от того, как мы разрешим эти проблемы: или причудливым кошмаром, или полными глубокого смысла. В свете определённого понимания времени и свободы Последние пределы, которые обнимают собой и судьбу каждого отдельного человека, и смысл истории, дадут нам ответ на проблему жизни, потому что только через понимание того, что уже прошло, и того, чем всё завершится, мы сможем придти к окончательному суждению о том, что для нас значит жизнь, как мы можем её использовать, что в ней содержится.
Мне хотелось бы теперь коротко вернуться к положению новотворения. Вот основные пункты: человек был вызван из небытия творческим Словом Божиим, у него нет корней ни в Боге, от Которого человек отличается радикальным образом, ни в себе самом, потому что прежде призыва Божия не было ни человека, ни всего его содержания. Только воля Божия вызвала к бытию всё, в частности, человека. Творение человека или чего бы то ни было в этом мире не было для Бога необходимостью. Бог — самодостаточен. Он ни в чём не нуждается для того, чтобы быть Собой, ничто не может дополнить Его. По отношению к Богу человек как бы лишний, и если Бог сотворил человека, то сотворил Он его не ради Себя, а ради самого человека. Человек не необходим, чтобы Богу быть Богом, — этим и обуславливается независимость человека, его реальность. Если бы человек был создан, потому что его существование необходимо Богу для бытия, для жизни или блаженства, или полноты, то человек был бы лишь бледной, мелкой, незначительной тенью бытия Божия. Человек имеет реальность только потому, что Бог и без человека обладает совершенством и полнотой. Бог поместил человека в сотворённый Им мир как отличную от Себя реальность, поставил лицом к лицу с Собой, во взаимоотношении с Собой. Человек был создан самовластным, у него есть способность и призвание определять свою судьбу во времени и в вечности и одновременно, вместе с собственной судьбой определять и судьбу всего сотворённого. Самая непредсказуемость его возникновения является гарантией его независимости, и судьба всего мира определяется двумя волями: всесильной творческой волей Божией и волей человека, слабой, хрупкой, но наделённой страшной властью сказать “нет” и пресечь любое действие Божие своим отказом от сотрудничества, соучастия, приобщённости.
Вот основные данные о нашем сотворении. Есть и другие последствия того, что мы — тварные существа. Мы оказались в этом мире без нашего согласия; мы не высказывали желания быть тут, и с этой стороны наша свобода радикальным образом отсутствует. Вот первый аспект более общей проблемы свободы, к которой я хочу обратиться в следующий раз.
Вместе с нашим сотворением, вместе с первой тварью появляется время. Хочу подчеркнуть то, о чём уже говорилось: время — основоположная категория существования тварного мира. И нам придётся столкнуться с проблемой времени и вечности, потому что между этими двумя понятиями нет противоположения и даже в вечности тварное существо в каком-то смысле продолжает существовать во времени.
Вот то, что я хотел сказать в качестве введения к этим моим беседам о Последних пределах.
II
Тема сегодняшней нашей беседы — свобода. В первую очередь следует отличать безусловную свободу Творца от обусловленной свободы творения. Дальше мы обратимся к некоторым подробностям этой темы, пока же я только скажу, что Бог в Своей свободе не обусловлен ничем. Он действует так или иначе, и к этому Его не принуждает никакая внешняя сила, никакая необходимость. Он ничем не обусловлен и Сам обуславливает всё. С другой стороны, тварное существо обладает свободой, и эта свобода — дар ему от Бога, но она обусловлена: в первую очередь тем, что она дарована, далее, некоторыми свойствами этой “дарованности” тварной свободы, которые мы определили в прошлый раз. Во-первых, человек был призван к бытию без его согласия и пущен в бытиё односторонним действием Божиим. Свобода человека начинается вместе с его сотворением, но в корне, изначально обусловлена односторонним решением Бога. Во-вторых, человек предстаёт на суд перед престолом Божиим в конце личной жизни и в конце истории, и его свобода будет судима, что опять-таки придаёт ей другую коннотацию. Наконец, человек был сотворён определённым образом, наделён определённой природой и поставлен в некие определённые обстоятельства, и всё это ставит ограничения его свободе, если определять свободу как способность делать что бы то ни было или быть чем бы то ни было без всяких ограничений или обусловленности. Для начала этого достаточно.
Если обсуждать вопрос свободы, перед нами встаёт вопрос привычного нам словоупотребления. В английских словах liberty и freedom есть двойственность. В своей книге Grammaire de la liberté (фр. ‘Грамматика свободы’) современный философ2 даёт пример, который ясно показывает определённый — неверный — аспект свободы, но показывает также, что мы употребляем это слово так, что возникает двусмысленность. Он рассказывает о человеке, который однажды утром покончил с собой в метро. Он долго был без работы; он старался найти себе место, приспособиться, изменить род занятия, но поскольку была безработица, ему никак не представлялась возможность трудиться дальше или начать всё заново, он стал нищим бродягой, которого никто не взял бы на работу. И как-то утром, когда последняя попытка найти работу встретила отказ, он покончил с собой. Он вышел из конторы по найму, увидел рабочих, мужчин и женщин, которые вереницей устремлялись на фабрику. Они, без сомнения, чувствовали себя стеснёнными, ограниченными, обусловленными, потому что на целый ряд часов в течение дня они лишатся свободы, но эта потеря свободы даст им право и возможность жить. Он был совершенно свободен, мог идти куда угодно, на выставку, в музей, мог просто гулять, он мог заниматься любым земным делом кроме того, чтобы просто жить, потому что жить было нечем и жить было не для чего. Этим примером автор показывает, что свобода может стать тупиком: человек был свободен, но свобода его была бессмысленна. Не это можно называть свободой, такую ситуацию можно назвать свободой только саркастически: у него не было даже свободы жить дальше. В одном из псалмов есть нечто подобное: бых яко человек без помощи, в мертвых свободь (Пс 87:5–6), и славянский корень слова свобода указывает на значение “предоставлен себе”. В свободе есть эта двойственность: с одной стороны, она означает развитие, расширение, с другой — полное одиночество, и в этой двусмысленности нет последовательности: само слово свобода содержит внутреннее противоречие.
Вернёмся к свободе в более трагичном понимании её смысла. “Свобода” в обиходном словоупотреблении означает отсутствие принуждения или неизбежной ограниченности в нашей жизни, и однако такое принуждение только кажется несуществующим. Когда мы говорим, что физический предмет свободно падает, мы просто имеем в виду, что ему ничто не мешает падать, однако это свободное падение определяется тем, что предмет не может не падать: существует закон тяготения, непреложный для этого предмета, и падение, которое представляется совершенно свободным, определено только этим, только это имеет значение. В политике, в экономике, во всех формах жизни свобода существует, но она всегда определяется либо законом, либо соглашением, что превращает свободу в правовую ситуацию; другими словами, свобода — не возможность делать что-то вследствие внутренней потребности, необходимости или побуждения; это ситуация, когда вы вольны быть свободным в пределах, определённых непоколебимым законом. Абсолютная свобода, то есть состояние того, кто не определяется внешними или внутренними силами, по словам французского философа Лаланда3, явление метафизическое в том смысле, что она не только за пределами природы, — она почти что противоречит природе. Она вне природы, потому что такая свобода, такая абсолютность свободы превосходит даже тот факт, что данный предмет, данный человек по природе подчиняется внутренним законам. Это справедливо только в отношении Бога, Который не предопределён пред-существующей природой, Который Сам — Сущий.
Как я уже сказал, каждая тварь ограничена в своей свободе на разных уровнях: она сотворена без участия её свободной воли, она наделена определённой природой, ею управляют некие законы, и её ждёт суд. Возможно ли в таком случае вообще говорить о свободе? — потому что ни к чему говорить о свободе как о нашем приятии неизбежности или как её определил во время войны один немецкий офицер: “Я свободен, когда ничто не мешает мне исполнять мой долг”. Задумаемся немножко глубже. Во-первых, можно ли доказать свободу? Можно ли привести свидетельства, что такая вещь, как свобода, вообще существует? Свидетельства существуют, но не доказательства.
Свобода по существу — состояние непредсказуемости: эта возможность каких-то не предопределённых событий существенна для того, чтобы беспрепятственно пользоваться свободой. Так свобода утверждается, но невозможно её доказать или строго определить, потому что если мы докажем непредсказуемость, установим закон, согласно которому непредсказуемость существует, это будет отрицанием самой непредсказуемости, это убьёт самоё понятие свободы, само её существование. По этому поводу выдвигался целый ряд теоретических обоснований, которые я не буду рассматривать, потому что моя цель — обсуждать свободу не во всех её проявлениях, а только в её отношении к нашей главной теме.
Возвращаясь к тому, о чём я уже говорил: если свобода ограничена в начале и в конце, а между тем и другим — нашей природой, что же остаётся от неё, кроме, может быть, заблуждения, будто мы свободны, потому что не осознаём своей ограниченности? Ограниченность может быть различная: то, что мы ограничены извне, не означает, что мы лишены свободы: мы лишены возможности пользоваться свободой, но она существует как внутренний выбор, внутренний протест, как наше отношение к происходящему. Когда мы говорим о судьбе в любых её формах, как её понимают мусульмане или в категориях древнегреческой мысли, — всё это внешние ограничения, которые не затрагивают нашей внутренней сущности. Но как насчёт внутренней ограниченности, до какой степени она существует? Здесь нам следует углубиться в природу состояния свободы.
Обычно мы определяем свободу как свою способность делать выбор; мы свободны, когда нам представляются какие-то возможности и мы можем без принуждения выбирать из них. Когда выбор делается между добрым или нейтральным (то есть тем, что не имеет добрых или дурных свойств и может стать добрым или дурным только в результате того, как мы им воспользуемся), такая свобода выбора приемлема. Но когда дело идёт о том, что с нами бывает постоянно: о выборе между добром и злом, — реальна ли свобода беспристрастного выбора (я употребляю слово беспристрастного в том значении, которое оно имеет в молитвослове: бесстрастного)? Думаю, что нет; то, что при встрече с жизнью и смертью, с добром и злом наша природа колеблется между тем и другим — уже признак её падшести. Колебание между жизнью и смертью, между добром и злом — уже признак того, что мы не свободны, что мы в состоянии заблуждения. Жизнь, добро, Бог зовут нас; зло, смерть, дьявол обольщают нас и стараются склонить к определённому выбору. Можем ли мы сказать, что в данном случае свобода в том, что мы можем спокойно рассматривать обе возможности и выбирать одну из них? Среди отрывков, которые читаются на вечерне в Рождественский сочельник, есть место из книги Исаии, из седьмой главы, которое относится ко Христу. Он — совершенный Человек, совершенно свободен, Он в совершенстве является Самим Собой. В греческом тексте и в Септуагинте мы читаем (в английских и русских переводах Библии текст несколько иной): прежде чем Младенец будет различать добро и зло, Он выберет добро4. Это место Церковь относит ко Христу. Можно ли после этого говорить, что свобода состоит в том, чтобы безразлично колебаться между Богом и сатаной, между жизнью и смертью? Можно, конечно, сказать, что действовать свободно означает действовать согласно собственной своей природе, но тут опять-таки наталкиваешься на ту же самую проблему: если наша природа нам дана, свободны ли мы? не заменяет ли внутренняя предопределённость предопределённость внешнюю?
Теперь я хотел бы попробовать найти ответы или по крайней мере представить вам проблему по-новому. Для этого рассмотрим значение тех слов, которые мы употребляем. Как вы помните, цель этого введения — подготовить почву, чтобы мы могли встретиться с Последними пределами: смертью, её природой и последствиями, судом и тем, что за ним следует. И поэтому пока что моя цель — не столько дать вам окончательный ответ (к этому нам придётся постепенно пробиваться, рассматривая эти пункты), сколько изложить некоторые элементы, которые нам понадобятся в будущем.
Я хотел бы коротко рассмотреть само слово свобода. Я обратился к словарям, чтобы быть уверенным, что мои представления соответствуют подлинному значению слов, и был приятно удивлён определениями. Словарь очень убедительно сообщал, что английское freedom ‘свобода’, это “состояние того, кто free, свободен”. К счастью, словарь этим не ограничился. Для начала он сообщил кое-что о свободе как таковой, затем очень интересно (с моей точки зрения) перешёл к слову free ‘свободен’. “Свобода, — говорит он, — это избавление из рабства, плена или ограничения, из-под чужой власти или контроля”. Отметьте, прошу вас, последние слова, “чужой власти или контроля”, они нам ещё пригодятся. Следующее значение: “избавление от необходимости выбора или действия”; третье значение — “привилегия”. Далее словарь просветил меня, что слова freedom и liberty часто взаимозаменяемы, но первое скорее означает отсутствие принуждения или подавления, а второе подразумевает, что ранее существовавшее принуждение или давление преодолено. Если же теперь обратиться к слову free, то мы обнаружим что-то совершенно неожиданное; free ‘свободен’ — не тот, кто обладает свободой; словари говорят о другом. Я с удовлетворением обнаружил, что изначальное значение слова free в различных языках, начиная с готского и древненемецкого и кончая старофранцузским, — ‘любимый’, ‘дорогой’. Оно специфическим образом применялось к членам семьи, в отличие от рабов, которыми семья владела. Оно значило, что человек “не подвержен произволу внешней власти или авторитета, не связан обязательством, не принуждён оказывать послушание или служить на неравных основаниях”. Если мы обратимся ко второму слову, liberty, то и здесь находим интересные черты, благодаря которым оба слова очень тесно совпадают в своих значениях. Liberty происходит от латинского корня libertas, который обозначает ребёнка, родившегося свободным в свободной семье, в отличие от прислуги, от раба: libertas, как и freedom, — состояние свободнорождённого ребёнка в семье. И из того, что я сказал ранее, мы узнаём, что этот свободнорождённый ребёнок не подвержен произволу внешней власти или авторитета, не связан обязательствами, не принуждён оказывать послушание или служить на неравных основаниях, он избавлен от власти или контроля другого, и что такая свобода — привилегия, а не просто состояние. Это очень важно.
Обычно, когда мы говорим о свободе, мы противопоставляем её подчинённости; мы свободны, когда можем избежать чужой власти, контроля, авторитета, и этот “чужой” для нас — тот, кто сильнее, кто может подавить нас своей силой, подчинить нас. И всегда нам представляется, что наша воля противостоит его воле. Если обратиться к образам, которые даны в этих мудрых и полных истины словарях, мы увидим, что можно представить их совершенно по-другому. В семье отец не является внешним, подавляющим авторитетом, он — любящий глава семьи, у основания которой стоит. Если перенести эти выражения на Бога и Его творение, мы сразу увидим Бога Отца, Который благодаря свободному акту творения является первоисточником всех Своих тварей. Пока эти твари не совратились, Божественная любовь не есть для них внешний авторитет, чуждая сила.
А. С. Хомяков говорит в одном из своих трудов, что воля Божия — проклятие для бесов, закон для человека в процессе его искупления и совершенная свобода для тех, кто уже достиг спасения. Одна и та же воля Божия принимает три различных аспекта соответственно тому, каковы мы. Воля Божия — не внешняя воля, которая старается подчинить нас и заставить поступать согласно её произвольному решению; воля Божия объективно являет нам наше собственное призвание, и это призвание для нас — не только внешнее, но и внутреннее, потому что мы были сотворены Богом, наделены природой, которая только в Нём может найти своё исполнение, полноту, — и свободой, которая может развиваться и достичь полной меры только в гармонии с Богом. Взаимоотношения, которые мы находим в доме Божием, не таковы, будто слабый насильно подчинён более сильному, тут нет двух противостоящих сил, — это единая семья, где Отец мудро ведёт каждого к его собственному исполнению, к полноте его природы и его жизни. В этом смысле свобода действительно представляется привилегией тех, кто находится в доме на правах родных детей, но привилегия заключается в гармонии между призванием и реальностью. До тех пор, пока есть напряжение между тем, что составляет призвание человека, и реальностью его фактического положения, налицо неполнота свободы, налицо выбор, есть колебания и нерешительность, и Бог воспринимается как “Другой”, — тот “другой”, который “не я” и который сильнее, чем я.
Русское слово свобода даёт нам другое указание, ключ или, может быть, подчёркивает то, что мы обнаружили в предыдущих образах. Свобода состоит из двух корней и означает “быть личностью и одновременно собой”: быть не тем, чего от меня ждёт Бог (понимаемый как “Другой”), не тем, чего во мне нет, — быть тем, что я есмь в действительности, несмотря на эмпирическую очевидность. Потому что каждый из нас до некоторой степени урод по сравнению с тем, чего Бог возжелал и что заложил зачаточно в каждого из нас. И значит, свободу можно понимать только в свете этих внутренних взаимоотношений в рамках семьи Божией. Её нельзя понимать вне этих взаимоотношений, свобода не существует вне таких отношений иначе как в форме проклятия и вечной муки.
Но как же развивается свобода из эмпирической ситуации? Я хочу обратить ваше внимание ещё на два слова: дисциплина и послушание. Мы все склонны думать о дисциплине в порядке военной муштры, и довольно-таки пессимистически толкуем свой опыт дисциплины, скажем, в школе или в армии: чаще всего она воспринимается как принуждение, в большинстве случаев — принуждение к каким-то абсурдным действиям. Но это не настоящая дисциплина. Она может заключаться в этом, но в основе своей дисциплина — нечто другое. Дисциплина — состояние discipulus, ученика, а ученик — это тот, кто пришёл к наставнику и хочет чему-то научиться. Дисциплина — это слышание, упражнение, научение, всё, что содействует воспитанию, формированию, лепке совершенной личности ученика наставником. Дисциплина и свобода в этом смысле взаимосвязаны, а не противополагаются друг другу. Дисциплина — условие обучения, а следовательно, это условие, необходимое для того, чтобы достичь подлинной свободы, совершенно гармоничных отношений с Богом, которые одновременно libertas и свобода: быть самим собой в полном смысле этого слова в рамках подлинных взаимоотношений в доме Божием. Очень часто это начинается с принуждения, поскольку мы находимся в падшем мире и сами — падшие твари. Дисциплина предстаёт нам как бы ортопедической хирургией или ортопедическим корсетом или гимнастикой, множеством весьма неприятных упражнений или положений; но вся цель их не в том, чтобы сделать нас маленькими уродцами по странной прихоти самовластного Бога, а в том, чтобы привести нас в гармонию с Богом и со всей остальной вселенной, чтобы мы могли стать детьми Царствия.
Одно из составляющих дисциплины — послушание. Опять-таки когда мы думаем и говорим о послушании, то обычно в категориях подчинённости, принуждения, ограничения прав, то есть в негативных категориях. Но послушание больше такого представления, вернее, глубоко отличается от такого представления. Мы знаем, что Христос был совершенно послушен Отцу, но знаем вместе с тем, что в любой момент Своего служения Он был державно свободен. Мы не можем думать о Христе как о Том, Чья воля была сломлена более сильной волей Отца, потому что Священное Писание учит нас, что между Тремя Лицами Святой Троицы существует полная гармония, свобода и единство воль. То есть послушание следует определять в его подлинном смысле, за пределом представлений о силе, напряжённости, прорыве; послушание надо определять в порядке слушания, подлинного ученичества. Настоящий ученик приходит к учителю для того, чтобы научиться, и он научится чему бы то ни было, только если с самого начала готов верить, доверять своему учителю. Ученик приходит в первую очередь для того, чтобы слушать, слышать и воспринимать. Первое дело послушания — слушание: послушник должен уметь быть в покое и прислушиваться.
На практике мы ошибаемся вот в чём: мы считаем, что слушаем для того, чтобы действовать. Это не так. Мы слушаем не для того, чтобы действовать, а чтобы стать, чтобы глубоко перемениться. В порядке послушания слушание не состоит в том, чтобы развить в себе способность понимать то, что нам приказывает кто-то другой, и исполнять это. Нет, это нечто гораздо большее. Мы должны постепенно проникаться мыслью наставника, — как говорит апостол Павел, приобретать ум Христов (см. 1 Кор 2:16), — чтобы стать способными через упражнение в слышании и покое, чуткой бдительностью всех сил нашей души, направленной на понимание, приобрести ум наставника, понять через глубокое приобщение его мысли, его уму и сердцу, чтó он такое, чтобы стать подобным ему. Когда наша свобода и наше послушание направлены к Богу, это вслушивание состоит в том, чтобы быть одновременно в высшей степени бдительными и вместе с тем в абсолютном покое, чтобы слушать и воспринимать, чтобы врастать в ум Христов, чтобы приобщаться Богу и становиться детьми в Его доме: подлинными детьми, не уродами; детьми, для которых Бог перестал быть “Другим”, для кого воля Божия — совершенное выражение их собственной воли и природы, детьми в полной гармонии с Богом; родными детьми в доме, когда каждый стал самим собой в полной мере и в совершенстве и таким образом стал тем, каким Бог его возжелал.
Вот то вступление, которое я хотел сделать на тему свободы. В заключение приведу слова из Евангелия от Иоанна: Познаете истину, и истина сделает вас свободными (Ин 8:32). Христос сказал: Я есмь истина (Ин 14:6). Знание истины состоит в том, чтобы знать Христа, а Христа невозможно познать как внешнее историческое событие или как кого-то, кто вне. Христос познаётся через причастность, приобщённость, и только через эту причастность и приобщённость творческому Слову Божию, Логосу, только в приобщённости Воплощённому Слову Божию, Спасителю, только в приобщённости Тому, Кто не только истина, но и путь, и жизнь, можно достичь свободы. А достигнув свободы, можно преодолеть оставшуюся проблему определения нашей судьбы в начале и в конце творческим актом Божиим и судом Божиим. Как именно — я надеюсь, мы сможем постичь хотя бы приблизительно.
III
Я хотел бы дополнить то, что было сказано в прошлый раз о свободе. Во-первых, мне кажется, нам следует уделить внимание (и не только из академических побуждений) точке зрения на свободу, которую выражали философы-экзистенциалисты, в частности, последователи Сартра5; они много говорят на эту тему, для них она центральна. Затем я хотел бы сказать несколько слов о взаимосвязи двух понятий, свободы и ограниченности, о двух богословских понятиях природы и личности, и затем попытаться сделать вывод из того, что мы вынесем из этих двух бесед. Вывод не будет окончательным; мы не можем ответить на вопрос, который поставили, о природе свободы или вернее о том, каким образом мы можем быть свободны и на самом деле свободны, прежде чем рассмотрим некоторые другие темы, такие, как суд и вечность. Для начала коротко рассмотрим точку зрения Сартра на эту тему свободы.
Основоположная идея Сартра заключается в том, что бытиё предшествует сущности. Таким образом, бытиё человека радикально отличается от существования того, что создаёт человек. Предмет сначала бывает задуман, рождается в уме творца и становится реальным, когда его осуществят. По мысли Сартра, в случае человека нет последовательности от замысла к исполнению по одной простой причине: Сартр исходит из посылки, что Бога нет, следовательно, нет и творца. Человеческое существо, его бытиё первично, затем оно определяет собственную природу посредством бытия и в его процессе. В этом отношении Сартр вступает в противоречие с такими философами, как Лейбниц, и с целой школой рациональной классической философии, которая в каком-то смысле началась с блаженного Августина. Для неё сотворение человека состоит в том, что Божии замыслы объективируются, проецируются на реальность из замысла Божия актом творческой воли Божией.
Однако концепция Сартра не противоречит другому понятию христианского богословия: творческому акту, родившемуся из свободно изливающейся от Бога щедрой милости и любви, потому что согласно такому подходу бытиё человека возникает не из замысла, а из бытия. Бытиё человека обосновано самим бытиём Божиим в акте любви и причастности, и человек возникает не как сущность, имеющая бытиё, но как само-бытность, которая свободна погибнуть или принять искупление, жить или умереть, выбрать между своим полным осуществлением или погибелью. Это первый принцип концепции Сартра, на который я хотел указать. Интересно, что этот принцип не противоречит второму богословскому мнению и подчёркивает, что бытиё человека основано, коренится в бытии Божием, а не в мысли Бога (это заключение можем сделать мы, но для Сартра нет Бога и нет возможности прийти к такому выводу). Бог и любовь — одно, акт любви есть бытийный акт.
Второе: каждый человек находится в какой-то ситуации, каждый человек обладает телом, имеет прошлое, чем-то окружён; перед ним есть препятствия, он должен решать какие-то проблемы; но можно ли сказать, что ситуация, в которой он находится, определяет его поведение? Сартр рассуждает так: детерминист будет утверждать, что люди, оказавшиеся под гнётом, восстанут, и причина восстания в том, что положение нестерпимо. На что Сартр возражает, — и мне представляется это очень интересным, — что нет положений нестерпимых по сути, положение становится нестерпимым, только когда у нас есть другое представление о вещах. Одно и то же положение предстанет одному человеку как повод научиться терпению, смирению, величию духа или проявить эти качества; другой человек определит положение как нестерпимое, потому что у него готов проект, как его изменить. Хайдеггер где-то сказал, что человек — существо, живущее в будущем, то есть он оценивает и определяет любое положение по отношению к этому будущему. Как я только что сказал, каждое положение является для христианского подвижника ситуацией, куда Бог пожелал его поставить, чтобы он возрастал в святости и совершенстве; для кого-то другого ситуация нестерпимая. Но она не становится нестерпимой, пока у человека нет представления о другом положении и о том, что данную ситуацию можно изменить. Сартр отстаивал бы мнение, что каждая ситуация приобретает определённое качество только в сопоставлении с независимым проектом, который человек создаёт разумом и чувством. Мир, говорит он, это просто отражение моей свободы, потому что всё приобретает некое качество только в зависимости от того, каким я вижу собственное будущее, поскольку настоящее определяется будущим, а не наоборот. Он называет трансцендентностью эту способность человека перерастать ситуацию при помощи воображаемого будущего, проецируя в настоящее элемент, который является целью будущего и придаёт смысл данной ситуации; иначе ситуация двусмысленна, может быть понята по-разному.
Относительно ещё другого понятия Сартра о свободе можно было бы ему ответить, что та свобода, которую он отстаивает, свобода, которая выходит за рамки реальности настоящего и придаёт ему особую ценность через проецирование в будущее, вовсе не свобода, просто потому что человек определён собственной своей природой. Тут мы находим другую мысль Сартра, которую наше христианское богословие не могло бы принять в том виде, в каком он её предлагает, но которую, мне кажется, нам следует учитывать, если мы хотим иметь глубокое видение того, что такое природа, — не внешняя природа, но природа всякой вещи, каждого человека; а именно: действительно ли этот проект, эта шкала ценностей определяется природой? Сартр сказал бы: «Нет, потому что человек не обладает природой в смысле полной реальности его “я”, из которой проистекают его решения или его ситуации». Он подчёркивает, что есть огромная разница между тем, что он называет цельной, плотной природой предмета, и тем, что он называет природой человека. Он даёт такой пример: у камня компактная природа, он существует сам в себе; для камня нет внешнего и внутреннего, есть просто массивный блок — камень. Человек сознаёт своё существование, он не существует просто сам в себе, он сознаёт, что существует, и это существование двойственно. Он существует, и он размышляет о своём существовании; он есть, и он осознаёт своё бытиё. Он исследует себя и выносит суждения о себе. Для него есть внутреннее и внешнее. Более того: поскольку человек не может просто существовать, но и размышляет, и не только размышляет, но осознаёт, что имеет будущее, он никогда, ни в какой момент не является тем, чем кажется, и в конечном итоге всегда отличается от того, каким является в каждый данный момент.
Можно представить это более доходчиво: камень есть камень, камнем он был и камнем останется, — прочная, конкретная реальность. Он может претерпеть физическое изменение, может разбиться на куски, но не изменится по существу, камень как таковой неизменен, он не превращается во что-то иное. В отличие от этого любой человек, рассматриваемый в любой момент, не может быть исследован статически: человек всегда в движении от того, чем он был, к тому, чем он будет, проходя через своё настоящее. Но рассматривая его в настоящий момент, нельзя сказать, что он в полной мере является самим собой, потому что он уже движется к тому, чем будет, удаляясь от того, чем был; в каждый момент он не совсем то, что мы в нём видим, в каждый момент он не совсем то, чем кажется. И кроме того, он движется от точного соответствия себе, от отождествления с собой в том контексте, в который он поставлен как человек.
Сартр называет это “ничто”, потому что из “ничего” настоящего момента разовьётся будущее нечто. Это относительное “ничто”, не так мы определяли ничто, когда говорили о Творении и о том, что ему предшествовало. Такое ничто обозначает то, что в каждый момент предшествует тому, что станет в следующий миг. Эта ситуация сущностного ничто по сравнению с тем, что возникнет в следующий миг, — ситуация принуждения; вы не можете остаться тем, что вы есть, вы неизбежно двигаетесь вперёд, и это движение вперёд Сартр и называет свободой, необходимостью становления. В этом смысле он прав, когда говорит, что мы приговорены судьбой быть свободными, а сама свобода в некотором смысле есть ограниченность.
Как я сказал, всё это не только академические соображения: мысль Сартра сейчас настолько владеет умами людей, занимает людей, что я обратился к ней. Есть два или три пункта в его учении, которые я хотел бы рассмотреть, но сначала должен подчеркнуть вот что. Обыкновенно считается (просто потому что Сартр и его школа нашумели больше других школ экзистенциальной мысли), что экзистенциализм и неверие, отрицание бытия Божия — одно и то же. Это на самом деле неверно, потому что есть школы верующих экзистенциалистов, пример — Габриель Марсель, и основоположная идея о том, что бытиё предваряет сущность, никак не выступает за веру в Бога или против неё. Так что мы можем взять некоторые взгляды Сартра и рассмотреть их так, как сам он не рассматривает, провести параллели или увидеть связи, от которых он определённо отрёкся бы, но это не основание для нас их отрицать.
Первое, что я хотел бы подчеркнуть, следующее. Когда Сартр говорит, что бытиё человека проистекает от бытия, а не от замысла, это в точности соответствует тому, что древние отцы Церкви думали о жизни Святой Троицы. Они настоятельно указывали, что нет изначальной субстанции, Божественной Сущности, которую впоследствии можно разделить на Три Лица Святой Троицы. Бог Отец — Само Божество и Бытиё, Два другие Лица Святой Троицы получают Своё бытиё от Отца. Взаимоотношения между Отцом, Сыном и Святым Духом — бытийные отношения, и это сыграло большую роль для святоотеческого богословия.
Мы можем последовать за Сартром в том, что он говорит о человеке, потому что верим в творческий акт, верим, что происхождение человека восходит к Богу, — не в прямом смысле непосредственного порождения, но человек коренится в творческом слове и в воле Божией. Но тем не менее концепция Сартра несовместима, например, со взглядами Лейбница. Как я уже сказал, в основе всего — Божественная мысль, замысел человека, который осуществляется через последующий акт воли. Если расширить наш угол зрения, взгляды Сартра не противоречат простому представлению о творении как акте чистой любви или свободного действия Божией щедрости: Бог делится бытиём с тем, что ещё не существует, и в такой коннотации происходит не сотворение сущности, а бытиё вызывается из небытия.
Второе, что я хотел бы подчеркнуть, потому что оно пригодится нам в дальнейшем, когда мы будем говорить о проблеме суда, — это связь, которую Сартр устанавливает между свободой и проектом. Ситуация невыносима, потому что есть проект бунта. Ситуация невыносима, потому что мы представляем себе другую ситуацию и стараемся её осуществить, нас к ней тянет по каким-то причинам. И в связи со всем этим у Сартра есть замечательное высказывание, которое, как я уже сказал, нам пригодится далее, но я его упоминаю теперь, потому что думаю, что стоит посеять пораньше, чтобы впоследствии получить урожай. Где-то в своих писаниях он говорит, что человек не потому предатель, что предал, — человек предаёт, потому что он предатель. Это просто попутное замечание, и мне хотелось бы, чтобы оно увязалось в вашем уме с проблемой Иуды. А пока перейдём от этого пункта, который я оставляю для вас открытым, чтобы вы о нём задумались и — надеюсь! — озадачились им.
Обратимся теперь к вопросу взаимосвязи между детерминизмом, свободой, природой и личностью. Думаю, следует попытаться дать определение этим четырём терминам. Детерминизм означает, что решения или действия или свойства существа не являются результатом его свободного выбора, а механически ему предписаны. Свобода, как мы определили её прошлый раз (и я хотел бы, чтобы вы запомнили это определение, потому что оно, вероятно, почти единственное, что вам пригодится из моих бесед), — слово свобода, связанное с древним “любимый, возлюбленный”6, — это состояние того, кто не подвержен произвольной внешней силе или авторитету. Это состояние того, кто не связан обязательством или принуждением, то есть свобода — отношения взаимной любви. Два оставшиеся слова определить гораздо труднее. Отцы Древней Церкви в период после Первого Вселенского собора и позднее разрабатывали понятие природы в связи со Святой Троицей. Можно сказать, что наша человеческая природа — это то, что у нас есть общее, физически и психологически; это не очень хорошее определение, но оно может быть использовано на практике. Мы все знаем на опыте свойства тела, ума, воли и так далее, которые позволяют нам распознать, что такой-то — человек, а не собака и не обезьяна.
Понятие личности гораздо более трудное. Природа определяется как сочетание общих всем людям свойств. Можно свести эти свойства до минимума, который, вероятно, будет общим знаменателем для того, что мы называем человечеством. Природа состоит из общих свойств; некоторые из них основные, без них нет человека, некоторые — дополнительны, хотя принадлежат нашей человечности и сочетаются в разных пропорциях и по-разному. У нас нет непосредственного знания, что такое человеческая природа, просто потому что человеческая природа не существует в чистом виде, подобном тому как можно показать чистое золото или ещё какое-то вещество. Ни в одном отдельном человеке мы не можем найти в сколько-то чистом виде, что такое человеческая природа: нам известны только индивиды.
Что такое индивид? Мы, вероятно, ответим: “каждый из нас”, и это правда, и очень печальная правда, потому что индивид, как указывает само значение слова, это предел постепенного дробления, распада. Индивид соответствует на человеческом уровне тому, чем был атом в области физики: то, что невозможно разделить дальше (сейчас такое понятие устарело). Но такое восприятие себя самих и других как индивидов — это определение нашего падшего мира: мы более не род, не сложное целое, не организм, в котором каждый из нас — член, живой член, обладающий всеми свойствами, но не противополагающийся другим. Мы индивиды, и нас определяет то, что каждый из нас обладает свойствами человеческой природы в различных пропорциях. В результате мы как будто отличаемся один от другого, но отличаемся только по второстепенным признакам: один высокий, другой небольшого роста, один светловолосый, другой темнее и т. д. Но это всё свойства из области природных данных. Их недостаточно, чтобы выделить индивида, обладающего подлинной ценностью, потому что на этом естественном уровне мы расцениваем каждого индивида по его практической или, скажем, коммерческой ценности. Одного — вследствие того, что общие всем черты сочетаются в нём определённым образом, — общество может использовать так, другого — иначе; но это не придаёт им какого-либо значения, хотя позволяет использовать их. В этом смысле человеческий индивид ничем не отличается от животного.
Уникальность человека в том, что отцы Церкви называли его личностной реальностью. Разумеется, всё это в большой степени — проблема определений. Тут требуются различные слова и точная терминология. Разница, которую Отцы видели между персоной и индивидом, в том, что индивид состоит из сочетания общих свойств, в то время как персона уникальна, неповторима, вне сравнения, потому что не состоит из общих свойств. Отцы старались передать эти понятия примерами, поздние богословы поступали так же. Когда мы смотрим на картину и говорим: “О, это несомненно Рембрандт!”, мы говорим о свойстве, которое никак не связано ни с холстом, ни с красками7, ни с линиями сюжета; те же самые материалы мог бы использовать хороший копиист, и однако человек проницательный и опытный различил бы и сказал: “это не подлинник”, потому что подлиннику присущи такие качества руки, ума, личности, которые совершенно уникальны. Владимир Лосский в своей книге “Мистическое богословие Восточной Церкви” даёт другой пример: особое туше пианиста. Мелодия та же, ноты те же самые, всё одинаково и, однако, исполнение может принадлежать только такому-то пианисту, никому другому. Вот пути, какими выражается уникальность данного человека, она не состоит из сочетания разнообразных черт, общих всем и каждому, она состоит из какого-то числа свойств, которые уникальны, потому что не повторяются; они принадлежат только этому человеку.
Если от области аналогий мы обратимся к Священному Писанию, там есть место (я уже довольно часто его цитировал), которое, мне кажется, характеризует эту уникальность личности в отличие от таких выражений как “род Адама”, “человеческий род” и т. д. Это место из книги Откровения, и там говорится, что в конце времён, после суда каждый избранный получит от Бога белый камень, на котором написано имя, — имя, которое знает только Бог и тот, кто получает его8. Это имя выражает сущность персоны, уникальную, единственную, неповторимую реальность этой личности. И познать это имя может только Бог и сам человек — в той мере, в какой даст ему познать Сам Бог. Взаимоотношение, существующее между Богом и каждой личностью, уникально и неповторимо. Вот почему весь мир в своей целостности призван стать тем, что блаженный Августин называет Totus Christus, всецелый Христос — Человек с большой буквы, полнота человечества как всецелая гармония отдельных личностей, членов, каждый из которых единственный, не заменим другим, и которые только в своей общности являются образом тайны Божией. Каждая личность на своём уровне, на уровне природы и человечества, знает Бога так же, как любая другая; есть разделённое познание; все мы знаем Бога и можем говорить о Нём и передавать понятие о Нём другим. И однако на другом уровне уникальность каждого человека подразумевает, что каждый знает Бога так, как никто другой не знает Его, как никто другой не может знать Его и никогда не познает Его.
Эта связь человеческой личности с Богом, связь взаимного знания и взаимной любви, приобщённости Богу, то, что Бог приобщает нас Своей Божественной природе актом безоплатной щедрости, — вот где покоится человеческая свобода. Просто потому что, как мы видели в прошлый раз, свобода есть взаимоотношение и взаимосвязь, особый образ связи; теперь мы видим предварительно, временно что-то, что пригодится позднее. Нас создал Бог с данной человеческой природой, но мы не знаем этой человеческой природы в её реальности, в её чистоте, потому что она была глубоко расстроена, искажена грехом; мы знаем только индивидов, но внутри каждого индивида, совпадая с ним, есть персона, личность. Природа дана; это один из элементов, которые нас определяют, способ, каким Бог определяет нас, определяет нас на вечную жизнь и блаженство. Но всё-таки это предопределённый элемент, а внутри отдельного человека есть связанное с его природой понятие и сама реальность персоны, что и есть взаимоотношение, существующее между Богом и мною или вами, или им, или ею. Именно это взаимоотношение и является закваской, дрожжами конечной славной свободы, которая опять-таки есть тайна общения с Богом.
Мы сотворены односторонним действием Божиим, но сотворены не статичными; мы сотворены в становлении, и с момента сотворения у нас есть взаимосвязь с Богом, посредством которой сама наша ограниченность может быть включена в волю Божию.
IV
Вслед за введением, посвящённым Времени и Свободе, мы теперь приступаем к первому из наших пределов, к смерти.
В нашем опыте смерть и жизнь постоянно переплетаются. Мы наблюдаем смерть в природе, но мы также видим, что из смерти возникает жизнь, видим, как то, что уничтожается, обеспечивает необходимые условия для роста нового, для нового развития. И на совершенно другом уровне мы встречаемся со словами Христа о том, что если семя не умрёт, оно не принесёт плода (Ин 12:24). Я упоминаю об этом в самом начале моих двух или трёх бесед о смерти, чтобы подчеркнуть, что смерть и жизнь в нашем опыте и в словах Спасителя не следует резко противопоставлять. Они связаны таинственным образом, который нам предстоит исследовать, и, как я уже сказал, обе реалии переплетаются в тайну жизни на земле и в тайну, которая развёртывается как история и как домостроительство спасения.
Говоря о смерти, мы должны всегда помнить, что смерть — катастрофа, событие, которого не было изначально в плане Божием, и что эта катастрофа отражается на всём человеке, его теле и душе. Сегодня мы склонны, подобно монофизитам и манихеям прежних времён, считать, что смерть влияет на тело и на душу совершенно по-разному: мы думаем, что душа продолжает жить, а тело умирает. Мы не чувствуем, что весь человек, в душе и в теле, равно (хотя душа и тело по-своему) поражён трагедией смерти. Мы рассмотрим оба аспекта этого события, но следует сразу подчеркнуть, что ни душа, ни тело не составляют целого человека. Тело без души — труп, душа без тела — развоплощённое существо, а наше призвание не таково. Кроме того, мы в большой степени потеряли чувство священности тела и греховности тела. Мы слишком часто думаем о теле просто как о месте, где пребывает душа, но Священное Писание ценит тело гораздо выше. Апостол Павел говорит о теле как о храме Святого Духа (1 Кор 6:19). В том же Послании мы читаем: Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела (6:13). Эта связь “тело для Господа и Господь для тела” подчёркивает, что наш телесный состав, наша телесная реальность имеет глубокое значение. И дальше говорится: Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии (1 Кор 6:18–20).
Равным образом наше тело участвует не только в жизни Духа, постольку поскольку Дух покоряет его Богу, но и в жизни греха. Апостол Павел, так высоко ставящий тело, говорит: Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? (Рим 7:24). Он подчёркивает таким образом, что тело, о котором он говорил прежде столь возвышенно, теперь представляется ему темницей, в которой содержится его душа, темницей, которая активно участвует в разрушении всего, что Божие, что Божественное.
Так что наши тела одновременно священны и греховны, и мы должны всегда помнить, что по словоупотреблению Ветхого и Нового Заветов тело и плоть — не одно и то же. Тело даётся в акте творения, это наша материальная человечность, какой её задумал Бог; она способна быть богоносной, духоносной, предназначена исполниться Божеством, стать частью великой тайны, которую апостол Пётр в своём послании определяет как призвание нам стать причастниками Божественной природы (2 Пет 1:4).
Слово плоть употребляется в Ветхом и Новом Заветах, чтобы обозначить наш материальный состав как бы, но также и нашу душу, нашу душевность, лишённую присутствия Божия, восставшую против закона Духа. Присловье древних подвижников борьба с плотью это борьба за тело глубоко истинно и вполне соответствует богословию Ветхого и Нового Заветов. И душа и тело человека вовлечены в трагедию смерти, по-разному, но на равных, и нам придётся рассмотреть душу и тело в их трагичном состоянии. Замечу тут же, что нам предстоит рассмотреть их и в таинстве воскресения, которое мы исповедуем в Апостольском символе веры, говоря: Верую в воскресение плоти, и в Никейском символе словами чаю воскресения мертвых.
Из слов апостола Павла, которые я приводил, особенно из его Послания к Римлянам, явствует, что в смерти есть двойственность. С одной стороны, как я уже сказал, смерть — трагедия, противная намерениям Божиим, Его положительной воле. С другой стороны, Павел надеждой устремлён к этому событию; далее я приведу несколько цитат, чтобы показать его отношение к смерти как к положительному событию. Это двойственное отношение к смерти очень важно нам помнить с самого начала нашей попытки понять смерть.
Прежде чем перейти дальше, я хотел бы сказать несколько слов о смертности и бессмертии. Смертность имеет два значения. Одно самоочевидно, сразу приходит на ум: событие физической смерти, которое кладёт конец нашей жизни на земле, его мы знаем в его внешних проявлениях из наблюдений. Второе — вечная смерть. И об этой вечной смерти нам следует помнить, что она не есть возврат в небытиё, из которого мы были вызваны, когда Бог Своим творческим словом привёл нас в бытиё. В книге Откровения мы видим, что вслед за последним Судом те, кого Бог отверг, подвергнутся смерти второй (Откр 20:14; 21:8). книге Откровения мы видим, что после Последнего Суда те. ь возврат в небытие, из которого мы были вызваны, когда Бог Своим тво Трагедия этой второй смерти, которая будет длиться вечно, в том, что это не возврат в небытиё. Её невозможно описать словами одного из героев Достоевского, Ивана Карамазова9. Трагедия смерти в плане вечности состоит в том, что она тоже как бы одностороннее действие Божие, обрекающее нас на существование даже тогда, когда жизнь ушла. И Владимир Лосский, описывая трагедию бесов, говорит, что в своём отвержении Бога и стремлении извратить любое положительное творческое действие Божие они жаждут вернуться в небытиё, из которого появились, но это им недоступно, они только могут вечно падать в бездну, никогда не достигая дна в своём падении.
Пока что нас интересует первая смертность; проблему второй смерти или вечной участи тех, кто стал на сторону вечно разрушительных духов, нам предстоит рассмотреть в конце этих бесед.
Обратимся теперь к бессмертию и попробуем что-то понять в этом вопросе, так чтобы тема смерти несколько прояснилась, и оставим опять-таки на конец наших бесед рассмотрение бессмертия на уровне вечности.
Бессмертие и Вечность — не одно и то же. Вечность принадлежит Богу, мы указываем на неё как одно из свойств Божиих просто потому, что нуждаемся в словах; вечность наравне со светом, с любовью, с истиной — это Бог, и в этом смысле вечность абсолютно устойчива, неколебима. Бессмертие принадлежит миру тварей, оно и хрупко, и динамично. Оно хрупко, потому что это дар Божий ещё не осуществившийся, его надо приобрести; оно динамично, потому что хотя это дар, в него надо врасти. Оно дано изначально как призыв и как возможность, оно должно осуществиться, то есть быть не пассивно принято, а активно усвоено. Относительно бессмертия прародителей, первого человека, сотворённого Богом, существует несколько точек зрения. На западе широко распространён взгляд, согласно которому Бог создал человека, наделил его смертной природой и ниспослал ему благодать, которая сделала его бессмертным и хранила его бессмертным, пока он не согрешил и тем самым лишился этой Божественной благодати.
В качестве православного человека я хотел бы поставить вопрос: существует ли человеческая природа в чистом виде? Чистая человеческая природа — это статическое представление, это не динамичная реальность, и согласно многим древним писателям Бог не создал человека смертным существом, которому было придано бессмертие, Бог создал человека в динамике, наделив его всеми виртуальными возможностями. Однако изначально человек обладал бессмертием как существо, которое способно и может умереть. Бессмертие, как я уже сказал, не такой же дар, как дар бытия, которое мы не можем потерять. Бессмертие — динамичная реальность, в которую мы призваны врастать и от которой мы можем также отпасть. Человек был призван врастать в такое бессмертие, когда уже невозможно умереть, потому что в своём общении с Богом человек перерос бы самую возможность смерти точно так же, как ангелы Божии, оставшиеся верными, утвердились в устойчивой верности и больше не могут пасть. Однако остаётся возможность отпасть от бессмертия как дара Божия, который ещё не стал нашей второй природой, не влился в нашу природу как её неотъемлемый компонент. И эта актуализация смерти есть результат падения, греха. Я хотел бы прочесть несколько отрывков из пятой главы Послания к Римлянам, которые говорят об этом очень ясно:
Стих 12: Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили.
Стих 15: Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих.
Стих 18: Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни.
Стих 21: Дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим.
И последняя цитата из следующей главы этого же Послания: Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть (Рим 6:21). Значит, с точки зрения Священного Писания смерть и грех тесно связаны друг с другом. Грех — вот та сила, которая ввела смерть в мир.
Рассмотрим теперь оба аспекта этой проблемы смертности–бессмертия. Есть корни или семена бессмертия, есть семена смертности и смерти. Но из того, что мы уже видели, ясно, что корни бессмертия принадлежат онтологии, самому бытию сотворённого, тогда как смертность привходит в ситуацию тварности не сущностно, а как действие, как отношение. Человек был создан способным к бессмертию, он был убит грехом. Эти два положения не одинаковы по природе. В начале книги Бытия мы видим, что Бог предстаёт Единым, Трансцендентным, Сущим прежде всего и Творцом всего. Он вызывает все твари из небытия Своим творческим Словом в порядке возрастающего достоинства, возрастающей способности к встрече с Ним. Человек, завершение этого творческого Божия действия, принадлежит двум мирам, принадлежит им в полной мере; и однако из-за этой двоякости он более полно погружён в один мир и ещё не в полной мере принадлежит другому миру.
Человек сотворён как последняя земная тварь, он создан из глины земной, в нём мы находим всё, что присутствует во всех других тварях этого мира. Если забыть о бытии Божием или не верить в существование Бога, можно считать человека одним из многих существующих животных. Однако если рассматривать человека с этой точки зрения, мы видим, что благодаря тому, что у него есть сознание, что он обладает целым рядом свойств разума, воли, сердца, — благодаря тому, что он человек, он до некоторой степени отделился от остального животного мира. Это наблюдение, которое мы делаем как учёные, пусть даже с точки зрения безбожия, совпадает с тем, что мы знаем из Священного Писания. Да, человек был создан из глины, из праха земного, он — последнее звено в ряду творческих действий. Но благодаря тому, что в нём присутствует нечто большее, чем в любом другом создании Божием, есть разрыв между ним и последней предшествующей ему тварью, несмотря на то, что он полностью принадлежит этой непрерывной цепи.
Но человек принадлежит и другому миру, Бог дохнул на него, наделил его душою живою. Человек получил от Бога причастность миру духов; душой он подобен ангелам Божиим, и преподобный Максим Исповедник подчёркивает, что человек стоит на пороге двух миров. Он законный гражданин обоих миров и способен в своём лице свести их вместе; в этом Максим видит особое призвание человека. Но если благодаря особым свойствам человека справедливо сказать, что он уже не принадлежит безраздельно материальному миру, так же верно сказать, что поскольку человек ещё не исполнил своего предназначения, он ещё не принадлежит целиком миру духовному. В судьбе человека есть динамичная ситуация: он стоит не у порога, а на пороге этих двух миров. Образ и подобие Божии, которые были ему даны изначально, — и связь, и признак различия: тот факт, что между человеком и Богом есть это связующее звено образа и подобия, создаёт разрыв, который я упомянул, между человеком и остальным миром.
Но образ и подобие создают аналогию, а не тождество. Святой Василий Великий в тексте своей Литургии говорит о Христе, что Он являет нам Отца, как печать, наложенная на воск, являет нам свой отпечаток: мы можем прочесть надпись и рисунок, изображение с печати на воске. Изображение соответствует образцу; оно может быть, как в случае явления Христа в Воплощении, адекватным откровением; но тем не менее отпечаток — не сама печать, они не идентичны, хотя образ может быть совершенным. (Надеюсь, что из того, что я сказал, вы не вынесете превратное представление о Воплощении. Я сейчас думаю больше об образе и подобии в человеке вообще, чем о частном случае Воплощения Слова Божия).
Образ Божий подразумевает соответствие, то есть аналогию по форме и составу, нечто данное, без чего человек перестаёт быть человеком и отпадает обратно в животный мир. Это статическая данность, она не может быть отнята, даже если сам человек уродует её, потому что, как говорит апостол Павел в более широком смысле, дары Божии неотъемлемы (Рим 11:29). В отличие от этого понятие подобия динамично; человек, созданный по образу Божию, должен был — и всё ещё должен — стать Его подобием. Это динамичное понятие, завершение которого можно уложить в слова апостола Петра: дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью (2 Пет 1:4).
Рассмотрим по очереди образ и подобие. Нам придётся вернуться к этому, когда речь пойдёт о последствиях смерти, вот почему я обращаюсь к этим двум понятиям теперь. Образ Божий — соответствие, а не портрет. Образ Божий по современной терминологии можно назвать иконой, но не портретом; в иконе то же самое соответствие, и это очень ясно видно в еврейском тексте. Есть соответствие в том же смысле, как есть аналогия формы между сосудом и его содержанием, как инструмент определяется его назначением; к этому образу стремились слова с тех самых пор, как существует речь10. И вот к чему мы приходим: есть, можно сказать, два пути понимания, или достижения приблизительного понимания идеи образа Божия в человеке: один — понятие единства в многосложности, второй — единства в множественности. О единстве в многосложности говорили в древности греческие отцы Церкви, которые ссылались на то, что в теле и в душе человека сочетаются различные силы, они слились в единую реальность, которая и составляет этого данного человека или человека вообще; они говорили о разуме, о сердце и о воле и о различных группах качеств, которые в своей сущности и единстве определяют уникального человека.
Это первый подход. Другой путь, каким определяли образ Божий в человеке, выражался в категориях никейских споров. Как в Боге мы видим Три Лица, имеющих одну природу и являющихся Единым Богом (богослов позднейшего времени, возможно, сказал бы “Одной Личностью”), так в человеке мы видим реальность одной природы, разделённой между личностями; нет, не разделённой, скорее — выраженной в лицах. Различие между “разделённой” и “выраженной” для меня в том, что не существует такой вещи как природа, которая затем делится между лицами, которым надо обладать природой, нет природы отдельно от лиц, вне их. Позднее, в XIV веке, святитель Григорий Палама подчёркивал, что человек, благодаря тому что обладает разумом и, следовательно, может действовать целенаправленно, причастен Божией творческой силе. Следует также отметить, что в тех границах, которые мы старались определить в предыдущих беседах, и Бог и человек обладают свободой, и хотя свободу человека невозможно приравнять к свободе Божией, она тем не менее тоже свобода.
Другой аспект образа Божия в человеке — это единство в множественности. Три Лица Божества — Один Бог; человечество едино во множественности лиц. Образ, рассматриваемый таким способом, совершенно ясен в Боге, — в Нём Три Лица Едины в тайне отдающей и принимающей жертвенной любви. Этот образ затуманен в нашем человеческом мире тем, что грех исказил то, как мы отдаём и принимаем, и жертвенная любовь умалилась, хотя и не исчезла. С такой точки зрения любовь есть полнота жизни, и смерть в этом контексте превзойдена жертвенной любовью. Мне кажется, об этом говорит апостол Павел в одном месте Послания к Римлянам: Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам (Рим 5:1–5).
Любовь — вот тайна Святой Троицы, но любовь также составляет тайну этого единства во множественности, этого многоединства в тайне всечеловека, то есть человечества. И только если любовь проявляется как дар, как способность принимать и способность отдаваться совершенной жертвой, этот образ просиявает перед нашими глазами. Но когда это произошло, этот “данный” нам образ становится подобием, и бессмертие, даруемое и предлагаемое, становится бессмертием, полученным в тайне приобщённости Богу. Древо жизни, о котором говорится в книге Бытия, — символ бессмертия: и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно (Быт 3:22). Но это дерево жизни — не только символ бессмертия, своего рода механического, таинственного бессмертия, как может показаться при первом поверхностном чтении; оно также символ этой харизматической жизни в Боге. Если обратиться к книге Откровения, мы читаем: Среди улицы его [нового святого Иерусалима], и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов (Откр 22:2).
В контексте этой главы мы видим, что это не просто дерево бессмертия в процессе естественной жизни в Едемском саду. Это дерево харизматического единства с Богом, а Едемский сад — единственное место, где это дерево может расти. Мне кажется, легко увидеть, как Крест Христов и таинство святого Причащения Телу и Крови Христовым, непосредственно связанное с голгофской жертвой, предстаёт нам в категориях древа жизни. Только в пределах Церкви, которая есть восстановленный Едемский сад, может расти живоносное древо и приносить плоды в жизнь и исцеление души и тела. Это дерево жизни в Ветхом Завете или в Новозаветной Церкви возводит человека к бессмертию приобщения и даёт ему возможность достичь и подобия, то есть исполнить своё призвание, как его определяет апостол Пётр (его слова я уже приводил несколько раз), достичь неколебимого бессмертия, если можно так сказать. Но и это, вероятно, меньше того, чего мы призваны достичь, потому что вслед за неколебимым бессмертием в тайне приобщения Божественной природе встаёт проблема нашей причастности Божией Вечности11.
Перевод с английского Е. Майданович
1Now the earth was flood and chaos, and dark lay upon the face of the abyss. Флег Эдмон (Fleg, Edmond; настоящая фамилия Флегенхаймер; 1874, Женева, — 1963, Париж), французский поэт, драматург и эссеист.
2Гароди, Роже (Garaudy) (1913– ) — французский писатель, философ. Участник Движения Сопротивления. С 1945 г. член ЦК, с 1956 г. член Политбюро Французской КП. В 1970 г. исключён из Французской КП как ревизионист. Выступил с резкой критикой извращений марксизма и социализма. Выдвинул идею диалога марксизма с христианством. Принял ислам. Книги: антифашистский роман-дневник “Антей” (1946), роман “Восьмой день творения” (1947), “Христианская мораль и марксистская мораль” (1960) и мн. др. Отрицал холокост.
3Лаланд (Lalande) Андре (1867, Дижон — 1963, Париж) — франц. философ; с 1904 — профессор в Париже; независимо от Бергсона защищал критический витализм, создал антирационалистическую систему философии, обоснованную с точки зрения биологии и психологии и родственную учению о целостности, развиваемому немецкими философами; по заказу Societé Française de Philosophie в сотрудничестве с рядом философов издал “Технический и критический философский словарь”. Осн. произв. — L’idée de la dissolution opposée à celle de l’évolution, 1898.
4Зане прежде разумении отрочати благое или злое, отринет лукавое, еже избрати благое (Ис 7:15).
5Сартр, Жан-Поль (Jean-Paul Sartre, 1905–1980), французский писатель, философ-экзистенциалист.
6Эти два слова родственны в германских языках, к которым относится и английский. — Ред.
7Строго говоря, характеристики холста и красок помогают определить время написания, но не личность художника. — Ред.
8Ср.: дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает (Откр 2:17). — Ред.
9“…слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не Бога я не принимаю… я только билет Ему почтительнейше возвращаю”. — Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 тт. Т. 14. М., 1976. С. 223.
10Здесь Владыка оперирует понятиями теории знаков, выходящей за пределы собственно семиотики. Иконические знаки показывают внешнее соответствие; аналогия формы и содержания сосуда рассматривалась со времён схоластики; знаковая теория языка была повсеместно распространена в то время, к которому относятся публикуемые беседы. — Ред.
11Полностью серию бесед митрополита Антония Сурожского “О Последних пределах” предполагается опубликовать в издательстве Саратовской митрополии Русской Православной Церкви.