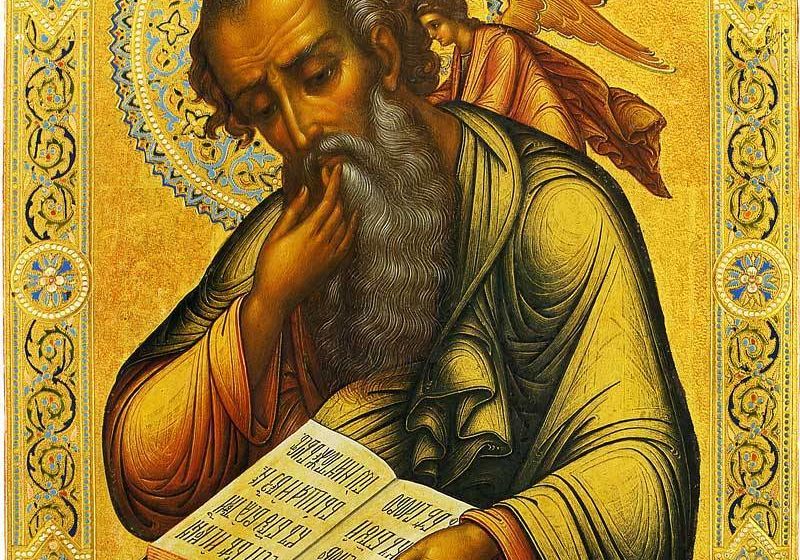
** 1
Автор “Книги о семи правилах”, донатистский епископ Тихоний, жил в IV веке и умер между 390-м и 400-м годами. Несмотря на его принадлежность к расколу, Церковь долгое время пользовалась его герменевтическими правилами как одним из лучших руководств к толкованию слова Божиего. Причиной тому было отчасти достоинство самих правил и малочисленность отеческих трудов по методике толкования, но, конечно, главным виновником их распространения был уважаемый во всей западной половине христианского мира учитель Церкви, блаженный Августин. Последний в своем “Христианском учении” не только отзывается о Тихонии как о муже даровитом, хотя и донатисте, но отводит немалое количество строк изложению каждого из семи правил нашего автора. Их одобряет и Кассиодор, а Исидор Севильский составил на основании их же свои “Sententiarum libri tres” (“Три книги сентенций” — Ред.). Тихоний затем простирал свое руководственное влияние на обильного древнего латинского толкователя, ученика блаженного Августина, епископа Примасия, постоянно пользовавшегося его толковательным принципом de specie et genere (‘о виде и роде’ — Ред.); следы подобного влияния замечаются и на позднейших церковных писателях, особенно на латинском Западе, где правила нашего автора усердно изучались и в эпоху средних веков. Кроме этого сочинения Тихоний писал полемические и апологетические письма, а также толкования на Апокалипсис, впрочем, до нас не дошедшие. Однако и то немногое, что сохранилось от нашего автора, достойно самого тщательного внимания современников.
Действительно, кому не любопытно дознать существенные черты святоотеческого толкования Библии? Конечно, в нем именно, а не в чем другом возможно отыскать и ключ к их богословствованию, всегда привязанному к Святому Писанию. Призывы к усвоению отеческого метода раздаются у нас постоянно не только со стороны писателей духовных, но и светских. На Западе редкий даже протестанский теолог позволяет себе оставлять без внимания отеческие мнения по разбираемому богословскому вопросу; а при толковании Библии на всяком шагу приводятся отеческие изречения. Тем не менее ни на Западе, ни у нас богословская наука не может похвалиться родственностью метода и результатов с творениями Отцов; особенно же их толковательные труды остаются для наших умов не только неудобоносимыми бременами, но нередко и вовсе непостижимыми со стороны своего метода. Все что мы умеем о них сказать, это чисто отрицательного характера замечание, будто Отцы считали себя вправе извлекать смысл библейских изречений “вне контекста”. Между тем всякий видит, что с одной стороны, прием отеческих толкований совершенно не подобен современному, а с другой стороны, толкования Отцов носят на себе характер известного единства, и как бы мы ни распространялись о разности двух экзегетических школ, Александрийской и Антиохийской, но все же между представителями той и другой, например, Златоустом и Оригеном, или Феодоритом и Кириллом, несравненно больше внутреннего родства со стороны метода и результатов, нежели между любым из них и толкователями, нам современными.
Какими же основоположениями руководились Отцы Церкви при толковании слова Божиего? Вот вопрос, который может быть назван основным по своей важности для разрешения задач современного богословия и роковым по трудности своего разрешения. Трудность эта заключается главным образом в том обстоятельстве, что относительное единообразие отеческой экзегетики не было плодом сознательного усвоения тех или других точно выраженных правил, но естественным выражением единства христианского духа, их проникавшего, или, говоря по-современному, их непосредственной конгениальности с духом библейским. Пока стадо Христово жило дружной семьей, все хорошо понимали друг друга с двух слов, и потому толкователи Библии почти не считали нужным показывать, по каким основаниям они извлекают тот или другой смысл из Священного Писания, очевидно предполагая, что дело само за себя говорит. Вот почему так мало у нас сочинений отеческого периода по методике толкования или герменевтике. Но и те, которые имеются, не построят целой гносеологической системы; их авторы проникнуты духом непосредственного усвоения библейского смысла, и лишь некоторые, по преимуществу затруднительные места священных книг побуждали этих авторов или высказывать общие герменевтические соображения, или составлять специальные правила для толкования отдельных видов недоразумений.
Такого рода герменевтические рассуждения встречаем мы в четвертой книге Оригена: “О началах”, затем они рассеяны в творениях святого Иоанна Златоуста, Илария Пиктавийского (особенно в его сочинении о Троице) и блаженного Августина в его “Христианском учении”. Герменевтическими сочинениями в строгом смысле, кроме Книги Правил, могут быть названы только книги Евхерия Лионского (“Книга правил духовного понимания”), Адриана, писателя конца V века (“Введение в книги Священного Писания”) и его старшего современника, Юнилия Африканского (“О частях Божественного закона”). Сочинение Тихония отличается наибольшей между всеми названными полнотой и систематичностью. Не обладая ясностью изложения, ни тем более художественностью отделки и многократно повторяясь, Тихоний был, однако, человеком по преимуществу формально-рассудочного направления, а потому его рассуждения наиболее доступны сынам XIX века и могут не только пролить свет на те части Священного Писания, коих прямо касаются, но и приблизить наш ум к усвоению некоторых более общих приемов и основоположений древней общецерковной экзегетики, столь авторитетной для православного богослова и для всякого христианина вообще. Читателю Правил легко можно заметить, что они приноровлены к кажущимся в Библии противоречиям, то есть к тем случаям, когда непосредственное усвоение излагаемой в священных книгах мысли не дается читателю. Подобный же случайный характер имеют и все почти герменевтические замечания прочих древних писателей.
В Библии иногда по-видимому одному и тому же предмету приписываются противоположенные или, во всяком случае, неподходящие к нему признаки. Очевидно, что во всяком случае слово, обозначающее предмет, на самом деле относится не к этому предмету, но к другому, с ним сродному; очевидно, что пред нами оборот метонимический, метафорический, или pars pro toto (‘часть вместо целого’ — особый художественный прием. — Ред.) или ему подобный. Такие-то явления в библейской речи следует толковать при помощи первого или второго, или четвертого, или двух последних правил Тихония: все они вращаются около указанного вида библейской речи, различаясь между собой только по предмету. Так, если Священное Писание говорит слитно о Христе и о Церкви и приписывает признаки последней ее Основателю, то подобная речь не должна вести нас к арианству или докетизму, но легко приводится в ясность посредством первого правила: de Domino et corpore Eius (‘о Господе и теле Его’ — Ред.). Сам Господь, уподобив Себя лозе, а христиан ветвям, говорит далее в первом лице уже не о Себе Самом, но о Церкви, из Него произрастающей: “всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает”. Подобным же образом и апостол Павел в известных словах: “так и Христос” (1 Кор 12:12), конечно, говорит не о личности Искупителя, но о Его теле, о Церкви. На основании этих двух и других мест Тихоний устанавливает вполне научное экзегетическое правило: если о Христе говорится в Писании нечто несогласуемое с Его божественностью и святостью, то надо разуметь не Его личность отдельно от Церкви, но именно общество Его последователей.
Совершенно по тому же основанию построено и седьмое правило. Когда, например, Исайя в 14-й главе предсказывает гибель богопротивному царю Вавилонскому, то легко можно видеть, что многие выражения пророка неприложимы к этой исторической личности, но могут быть отнесены только к олицетворенному в ней злу, к существу исключительно злому, к дьяволу. Иногда, напротив, дьяволу приписываются свойства, неприменимые к существу духовному, например, родоначальничество над неверующими иудеями: очевидно, здесь речь идет не о личности сатаны, но о его характере, о его царстве. Итак, Писание говорит слитно о дьяволе и его царстве, о злом начале и о личном злом духе, ибо всегда первое является в незримой внутренней связи с последним.
Это свойство библейской речи сливать идею с ее представителями касается не только двух противоположных царств; оно присуще и другим предметам, раскрываемым в Библии. Четвертое правило Тихония — de specie et genere — имеет в виду явления подобного же рода, так что два изложенных правила в него входят как части. Наиболее частое применение это правило получает при истолковании пророчеств о будущей судьбе Израиля. Если речи пророков принимать в прямом смысле, то они окажутся несообразны с историей: каким образом Соломону предсказано в 71-м псалме вечное царство? О каком воскресающем Пастыре — Давиде пророчествует Иезекииль в 37-й главе? Очевидно, речи пророков переходят от изображения судеб израильского народного царства к описанию всемирного царства Божиего и истинного Его Царя, воцаряющегося на престол Давидов во веки. Царство израильское, Давид и Соломон суть лишь частные проявления, отдельные виды вечного и всемирного царства Божиего, и то лишь по некоторым чертам их нравственного облика. Придавая им новые черты истинного царства Божиего, Писание предъявляет примеры слитной речи о виде и роде. Разумеется, что в толковании притчей Евангельских это правило применяется всеми.
Но если Писание сливает два предмета, имеющие одинаковое нравственное значение в жизни, как бы в один и тот же, то оно раздвояет такой предмет, который может иметь двоякий нравственный характер. Таково именно общество верующих, и раздвоенная о них речь Библии разъясняется во втором правиле Тихония: de Domini corpore bipartito (‘о двучастном теле Господа’ — Ред.). Посему, если в 48-й главе Исайи Израилю предсказаны и благословения, и проклятия, то здесь не нужно разуметь двух различных эпох народной жизни: предмет речи один и тот же, но раздвоенный на правую и левую часть: добрым чадам Церкви благословение, а злым — прещение. Таково же предсказание великого пророка о двоякой судьбе Иерусалима в главе 33-й.
Впрочем, разнородность содержания какого-либо предмета или события может и не доходить до качественной противоположности составляющих его элементов: иногда Откровение имеет в виду оттенить лишь различные стороны одного и того же явления или события. В таком случае оно не стесняется излагать самое событие несколько раз подряд, придавая ему каждый раз новое освещение, каждый раз извлекая из него новые нравственные идеи. Шестое правило Тихония: de recapitulatione, или о повторениях, предостерегает читателя от предположения новых предметов и событий, когда речь о них воспроизводится по нескольку раз: это один и тот же предмет освещается с разных точек зрения. Напротив, иногда события, разнородные по времени, объединяются по сходству своего нравственного характера. Это-то свойство Божественной речи дозволяет Христу соединять учение о втором пришествии с погибелью Содома и жены Лотовой, а апостолу Иоанну — последнего антихриста с современными ему еретиками. Напротив, различные, последовательно раскрываемые картины Апокалипсиса, по Тихонию, не следует считать за описание отдельных грядущих событий: одни и те же представляются в нескольких картинах по различным точкам зрения.
Итак, изложенные пять правил Тихония сводятся к выяснению одного свойства Писания: оно имеет в виду предметы и события не столько со стороны их внешнего определения, не столько с точки зрения предметной, объективно-исторической, сколько с точки зрения подлежательной, динамической, со стороны определения их действия на нравственную жизнь, их нравственного характера. Двойственное или многочастное с точки зрения объективной бывает единым с точки зрения библейской, и наоборот. Та же самая мысль, но с несколько своеобразным приложением, проходит и через два остальных правила Тихония, так же (как и те пять) возникающие ближайшим образом ради разрешения формальных противоречий, затрудняющих неопытного читателя Библии. Так, его третье правило: de promissis et lege (‘об обетованиях и законе’ — Ред.) разрешает то противоречие, по которому апостол Павел то одобряет закон, обещая за дела закона награду (Рим 2:8–10), то говорит о тщетности дел его для получения оправдания; то говорит, что без веры в Христа спастись невозможно, то усваивает спасение верой незнавших Христа пророков и праведников Ветхого Завета, или знавших Его лишь в гадании. Тихоний учит здесь разделять закон и закон. Противоположенные о нем изречения Апостола относятся не к одному предмету, а к разным. Добрые его отзывы касаются закона как собрания спасительных заповедей и постановлений, а речь о бессилии дел закона для нашего оправдания касается того внутреннего отношения, какое усвоили почти все ветхозаветные люди к этим заповедям и какое продолжают иметь некоторые христиане к заветам благодати. Поэтому, думает Тихоний, как ветхозаветные праведники, правильно относившиеся к заповедям Божиим, могли получать вменение праведности и быть живы верою, так и христиане могут остаться подзаконными и безблагодатными, если будут искать оправдания в принудительном исполнении отдельных предписаний, а не в отождествлении основных жизненных стремлений духа с признанием Христовым. Кто умрет миру и возлюбит Христа, для того все эти заповеди: не пожелай, перестанут быть игом, стесняющим его природу, — они являются, напротив, выражением его же природы обновленной через смерть миру, или облагодатствованной. Заповеди остались те же, говорит Тихоний, — но изменилось отношение к ним. Это изменение, это внедрение закона в сердца человеческие (Иер 31:33), стало возможнее и даже вовсе легко для человека с пришествием Христа и познанием Его светлого образа. Итак, под законом во втором, худшем смысле Тихоний разумеет юридическое, внешнеисполнительное отношение человека к Божественным заповедям при продолжающемся себялюбивом и горделивом направлении его жизненной воли, извращенной со времени первородного греха. Значение пришествия Христова было в том, что без познания Христова лишь очень немногие люди, бывшие в особенно близком общении с Господом, могли всем сердцем прилепиться к исканию правды и всем сердцем ненавидеть зло; эти-то спаслись верой. Напротив, для познавших Христа и решивших ради Него умереть миру грех сам собой стал ненавистен, и лишь ленивые и маловерующие продолжают относиться к учению Евангельскому как к закону во втором смысле этого слова. По нашему крайнему убеждению разъяснения Тихония вполне согласны с тем различением праведности от закона и праведности от веры, которое дано в Послании к Римлянам (10:5–16). Если бы современные богословы вчитались в Тихония и в Отцов, то давно бы перестали находить противоречия в учении об оправдании и научились бы без труда понимать послания апостола Павла.
Пятое правило Тихония: de temporibus, о временах, — есть наименее значительное для толкования священного текста. Оно имеет целью примирить числовые противоречия Библии, указывая на то, что числа в Священном Писании приводятся то приблизительно, в круглых цифрах (400 и 430 лет плена египетского, 10-месячное время беременности по Прем 7:2), то в точных. Писание останавливается, по Тихонию, на нравственном значении, какое приобретает известное число в народном представлении, и в таких случаях не надо придавать значения его количественной величине. “Седьмерицею в день хвалих Тя” означает многократность прославления вообще, а не семикратное число ежедневных молитв. Несколько натянуто доказывает наш автор тридневность смерти Христовой, пользуясь известием о померкнувшем во дни солнце и о восставшем Солнце Правды, как лишней ночью и лишним днем. Впрочем всем известно, что это же самое применение употреблялось и другими церковными писателями и даже Отцами Церкви.
Наш автор стоит в строгом согласии с церковными авторитетами во всех проводимых главнейших толкованиях. Таково его объяснение пророчеств о блаженной участи будущего Израиля, которое он вместе с апостолами Петром и Павлом и Отцами Церкви относит к христианам. Те же Отцы, как и Тихоний, относят предсказание о царе Вавилонском и о горе Сеире к дьяволу и его царству; через одинаковые с Тихонием изречения из Песни Песней объясняют они (например святитель Григорий Богослов) двойственный характер христианского общества и так далее. Можно смело утверждать, что Тихоний для приложения своих правил пользовался примерами церковного, отеческого толкования: его заслуга заключается в умении отыскать и выразить несколько весьма серьезных методологических принципов такого толкования. Со своей стороны мы постарались указать ту внутреннюю связь, которая объединяет самые принципы, и выяснить мысль каждого из них применительно к понятиям современным. Последнее существенно необходимо, потому что по отдаленности эпохи и склада жизни отеческое мышление отстоит от нашего малым меньше, чем библейское. Лучшие Отцы только на 300 лет отдалялись от новозаветных священных писателей, а от нас они отстоят на 1500 лет. Итак, разность равняется 12-ти векам. Если не принять во внимание уклад религиозной мысли и жизни библейской, отеческой и современной, то разность эту, конечно, следует утроить. Вот почему по нынешним временам отеческие толкователи Священного Писания в свою очередь должны быть истолковываемы, чтобы современники могли с пользой усваивать не только их слова, но мысли.
* * *
Теперь спрашивается, какое руководственное значение могут иметь экзегетические принципы, извлеченные из “Книги о семи правилах”, для библейской науки в ее современном состоянии у нас и на Западе?
Если взять общее отличительное свойство святоотеческой герменевтики и экзегетики, то придется определить его в том смысле, что здесь предметы, лица и идеи берутся не столько в их внешнем, метафизическом или историко-эмпирическом определении, сколько в определении динамическом, нравственном. Первая сторона, конечно, остается во всей силе, но мысль толкователей обращается именно ко второй и над ней-то оперирует. “Жертва Исаака есть прообраз креста” по Отцам (см. толкование святителя Иоанна Златоуста на Бытие), но этот прообраз не имеет никакой вероятности, если под крестом разуметь его внешнее очертание как двух перекладин, а не идею искупительных страданий Послушливого даже до смерти. Те же Отцы относят слова окропиши мя иссопом и прочее — к таинству крещения. Это было бы натяжкой, если под крещением разуметь только погружение, и, конечно, латиняне не могут опираться на это изречение в пользу обливания. Но мысль Отцов сохраняет всю силу, если в крещении разуметь втуне даруемую нам благодать отпущения и духовного рождения, ибо контекст 50-го псалма со всей ясностью говорит о ней. Грешник долго не хотел себя считать виноватым в падениях своей греховной природы и даже готов был роптать на нее (ср. 38-й псалом), но вот он исповедует свою покорность беззаконие мое аз знаю, свою виновность именно перед Богом в содеянном зле Тебе единому согреших, и отсюда — справедливость Божественного осуждения и свою безответность Яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Вместе с тем молящийся исповедует свое нравственное бессилие, ибо он зачат в беззаконии и рожден во грехах. Кажется, на его долю осталось одно безнадежное отчаяние, но Бог открыл ему нечто “безвестное и тайное”, и вот он с дерзновением умоляет Его о совершенно новом действии над его умершей во грехе душой: окропиши мя иссопом и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Не то ли дает благодать крещения умирающему в беззакониях роду человеческому? — Возьмем ли мы различные эпитеты, определяющие в Библии существо Божие или Божией благодати: огонь поедающий, свет, путь, жизнь, или воду утоляющую с неба: все эти подобия имеют значение лишь для того писателя, кто определит воздействие всех этих предметов природы на наше сознание и сравнит с воздействиями Божиими на душу человеческую.
Пожелаем ли мы понять спасительное значение веры во Христа и примирить его с теми словами Библии, по которым вера не может спасти человека (Иак 2:14), хотя бы она соединялась с силой чудотворения (Мф 7:22) и даже отдания своего тела на сожжение (1 Кор 13:3): и эти кажущиеся противоречия легко разрешатся, если мы под Христом как предметом спасительной веры будем разуметь не только Его догматические и метафизические свойства и историческое положение, но Основателя новой жизни, поправшего силу князя мира сего (Ин 12:31), то есть все те себялюбивые и горделивые начала жизни, на коих мы утверждаемся и с точки зрения которых Христос распятый есть соблазн и безумие. Итак, вера в Христа как Начальника новой жизни, нового царства, сама собой предполагает внутреннюю победу над миром, эта вера “сверх надежды” (Рим 4:18) есть обнаружение смерти миру или, что то же, начало новой вечной жизни, как ее и назвал Христос Спаситель (Ин 17:3). Посему и апостол Павел всех праведников, хотя и не знавших Христа по имени, но осудивших и отщетивших 2 мир во имя лучшей жизни, ожидаемой по внушению сердца, признавал, конечно в относительном, а не в полном смысле, верующими в Христа и спасшимися этой верой (Евр 11:26–12:3). Итак, все затруднительные для истолкования места разъясняются с принятием указанного общего принципа, развитого в правилах Тихония: пророчества, прообразы, метафизические эпитеты или определения и, наконец, кажущиеся при догматической систематизации библейского учения противоречия.
Обратимся теперь к современной научной экзегетике. Не будем повторять нередко раздающиеся ламентации по поводу ее бессодержательности, сухости, неестественного педантизма, неспособности вникнуть в настоящий смысл Божественных глаголов и вытекающей отсюда необходимости — для пополнения страниц выдумывать разные исторические и археологические гипотезы, не имеющие никакого отношения к делу толкования. Красноречивым доказательством печального состояния современной библейской науки может служить известный отзыв профессора Богородского об одном вновь вышедшем компактном труде по Библейской истории, составленном по самым ученым образцам Запада; почтенный рецензент совершенно справедливо говорит, что в этой книге есть речь обо всем, только не о Библейской истории. Но если мы всмотримся в те черты современной библейской науки, которые придают ей такой жалкий характер, то легко убедимся, что все они появились вследствие потери основного экзегетического правила Отцов.
Первый недостаток современного толкования, распространяющийся на все его отрасли, можно назвать документализмом. Он заключается в том, что на Откровение смотрят прежде всего как на исторический материал, насильственно извлекая из каждой мысли какие-либо определенные исторические указания, хотя бы данная мысль имела чисто лирический характер, излагая внутренние чувства говорящего. Так, например, 73-й псалом, надписанный именем Асафа, современника Давида, толкователи почти единогласно относят ко временам после Малахии на основании слов: “нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет”.
Отсюда делается весьма решительное и столько же недальновидное заключение, будто период пророков закончился ко времени писания псалма. Между тем мы решительно не видим, почему младшие современники Малахии могли бы иметь меньше надежды на появление новых пророков, нежели приближенные Давида, оплакивая смерть Гада или Нафана, и почему приведенные слова могут казаться более уместными в устах первых, нежели последних. Подобные парадоксальные выводы ученых библеистов, особенно немецких, встречаются на каждой странице их толкований. Наиболее характерны измышляемые ими со всевозможными подробностями романы для истолкования лирического, а вовсе не эпического содержания книги Песни Песней; впрочем, не менее произвольны и исторические гипотезы о происхождении Екклезиаста, основываемые на совершенно понятных с психологической точки зрения неточностях речи Соломона (Еккл 1:12). От всех этих нежелательных крайностей наша наука была бы свободна, если бы усвоила взгляд отеческой герменевтики, по которому не история, не определение предметов по внешней и временной являемости есть конечная материя библейской речи, но раскрытие их нравственного внутреннего смысла. Выяснив в точности сей последний, можно освещать и историческую перспективу священных писателей, но тогда бы это делалось без грубого произвола, а на основании точного разграничения речи повествовательной от лирической, субъективной.
Между тем экзегетический документализм поднимает голову еще выше, когда становится вопрос о взаимном соотношении каких-либо квази-исторических указаний в Библии. Здесь ставится совершенно ненаучное правило nihil incertum (‘ничего неопределенного’ — Ред.), составляющее второй существенный промах нашей науки; действительно, у нас различные вопросы экзегетики разрешаются совершенно без справки с тем, располагает ли наука достаточными средствами к их разрешению: у библеистов является какая-то фатальная, ни на чем не основанная уверенность в достаточности последних. Мы смеемся над старыми мечтателями, рассуждавшими о том, что делал Господь до сотворения мира, а сами всего более любим ломать головы над вопросом о том, что за Азазель упоминается в Законе, сжег ли Иевфай свою дочь, что означают надписания псалмов-ламнацеах (евр. ‘начальнику хора’) и тому подобное. Все это вопросы неразрешимы впредь до открытия новых первоисточников, а между тем построенные в ответ на них праздные гипотезы делают немало зла, потому что в библейских словарях они фигурируют уже в качестве ученых справок и влияют на дальнейшее толкование. Сколько зла, например, наделала гипотеза о Девтероисаии, о Третьем Храме Иезекииля? с какою разнузданною решительностью при толковании псалмов всякое упоминание о врагах относят то к аммонитской войне, то к филистимской, как будто мы имеем точную летопись о всех походах Давида с одной стороны и основательное удостоверение в том, что он разумел непременно политических врагов, — с другой. Говорить ли о том, что в основании всех подобных ошибок лежит то же prоton yeаdoj (‘изначальная ложь’ — Ред.), как и в ошибках первой группы?
Не из другого источника проистекает и третий род промахов современной экзегетики, который мы назовем гетерономизмом. Он заключается в том, что мы стараемся объяснить всякое душевное движение библейских повествователей из обстоятельств внешней жизни. Так, классическое изображение нравственного бессилия и отчаяния грешника в псалме 37-м германские ученые понимают совершенно иначе: они думают, что Давид был болен и в тяжелом болезненном раздумии решил, что болезнь ему послана за грехи, в которых он и раскаивается. Пусть сам псалмопевец объясняет, что скорбь его происходит, потому что беззакония превысили главу его, что они-то и составляют его тяжелое бремя. Пусть он свидетельствует перед Богом, что все желания его перед Ним, — наши ученые не слышат его духовного вопля, а ищут лишь медицинских указаний для определения рода болезни, — и, конечно, не находят. — Следующий 38-й псалом, описывающий тщетную борьбу человека со своими страстями, ученые объясняют так: Давид, окруженный неприятелями, ропщет на Бога. Пессимистический тон Екклезиаста они относят к тяжелым якобы временам персидского владычества, не допуская его возможности в цветущую эпоху Соломона. Им остается по той же логике отрицатьсовременность гартмановского или толстовского пессимизма с благополучными царствованиями современных государей России и Германии. Обратимся ли к Новому Завету: и здесь чисто общего характера обличение Иакова против богатых заставляет толкователей бросать тень на быт первых христиан и утверждать, что богатые между ними влекли бедняков в суды и даже встречались случаи неповинных убийств (см. Иак 5:1–8). Перечислять все виды экзегетического гетерономизма — конца не будет: на нем оправдывается печальный парадокс софистов, что человек есть мера вещей. Утратившие силу религиозной веры и нравственного одушевления современные европейцы, конечно, гетерономисты; поэтому они не могут допустить, чтобы библейские праведники черпали источник мысли не из внешних обстоятельств, а из сокровищницы внутренней жизни. А между тем даже в тех сердечных излияниях, которые являлись по поводу известных, определенных событий, носители Божественного Духа совершенно оставляют в стороне фактическую пользу и ведут речь о вечных законах нравственной жизни. Действительно, возьмите песнь Анны, псалмы Давида (17, 50, 51, 53), песнь Ионы, трех отроков, Захарии и Пречистой Девы: много ли вы здесь найдете точных указаний на события, их вызвавшие? Напротив, некоторые из них можно поставить одно на место другого, и историческое их положение нисколько не стало бы от этого ни лучше, ни хуже.
Четвертый недостаток нашей экзегетики — это теория литературной зависимости, применяемая некстати по тому же несознаваемому принципу, что и предыдущий. Здесь наши исследователи доходят положительно до Геркулесовых столбов. Так, например, Фаррар говорит о зависимости Писания апостола Петра от книги пророка Даниила на основании тождественного выражения: мир вам да умножится. В одной русской диссертации мы читаем: существуют “довольно заметные отношения к книге Экклезиаста новозаветных писателей. Вот важнейшие из них <…> гл. 3:1: «всему час 3 и время всякой вещи под небом» = Ин 7:30: «потому что не пришел час Его». Еккл 3:2: «время рождать и время умирать 4» = Ин 16:21: «женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее»”. Кроме этих мест сводятся: Еккл 7:18; 5:1; 2:24; 4:17; 2:1–2; 11:5; 4:17; и 5:5 в соответствии с Мф 23:23; 6:7–8; 11:19; Лк 23:34; 12:16–21; Ин 3:8–9,4; Иак 1:19; 3:5–6. Тут уж и пояснять кажется нечего: sapienti sat (умному достаточно — Ред.).
О широком распространении этого ложного приема нечего много говорить: довольно вспомнить разглагольствования о зависимости Малых Пророков от Исайи и обратно и пр. и пр. Применена, одним словом, та точка зрения, которая уместна не для памятников религиозного учительства, а только для современных ученых компиляций и плагиатов.
Пятый “идол” 5 современной экзегетики — это определение богословских и нравственных понятий через восстановление первоначального смысла словесного корня, ради чего наша наука в ее теперешней постановке должна быть относима не столько к богословию, сколько к области филологии семитической и классической (историко-грамматический метод). Конечно, кто говорит против пользования филологическими знаниями, но никакая решительно логика не позволит нам воображать, будто бы учители религии, вводя новую идею в миросозерцание слушателей или читателей, выбирали не то слово, которое по условиям тогдашнего быта всего легче могло бы внедрить в умы новую идею, но обращались к несуществующему тогда корневомусловарю по сравнительному языкознанию и затем подчиняли свои концепции тем понятиям, которые вмещались в языки полудиких арабов и индусов. А между тем только подобной нелепой гипотезой оправдываются современные лженаучные приемы, по коим спорный вопрос о наилучшем смысле слов благодать, возрождение, искупление, таинство и тому подобное выводится через раскрытие первоначального смысла их корней в финикийской речи или в санскрите.
Но оставим в покое экзегетику, — теперь принято гордиться успехами исагогики, заключающимися, вероятно, в том, что по поводу каждой священной книги пишутся обширные полемические трактаты о времени, месте, авторе и цели их написания, причем успешно опровергаются десятки гипотез и ставится одиннадцатая, ожидающая подобной же участи, — или прямо откровенное признание, что автор, время и место написания неизвестны.
Если мы зададим вопрос, для чего же безрезультатные ухищрения мысли над неразрешимыми вопросами, то нам ответят, что это необходимо для уяснения цели написания книги и главной ее мысли. Однако неискренность подобного оправдания сразу бросается в глаза. В любом исагогическом курсе последние два вопроса занимают места ровно в десять раз меньше, чем первые три, и, очевидно, весьма мало интересуют исследователя, а еще менее удовлетворяют читателя.
Цель написания предполагается всегда гетерономическая, и по большей части ее стараются обнаружить в условиях политической жизни народа или Церкви. Так, например, тот же Екклезиаст: на основании совершенно второстепенного значения слов об угнетении народа правителями (5:7) (одной из бесчисленных в Ветхом Завете заметок об угнетении слабых сильными) выводится мысль о том, что целью написания Екклезиаста было утешение страждущего под персидским игом народа и воздержание его от легкомысленного бунта. Думается, что если бы предположить цель, прямо противоположную, то содержание Екклезиаста благоприятствовало бы ей в неменьшей степени. — Не будем уже говорить о таких парадоксах, как гипотеза Греца о цели написания каждого псалма, по которой, например, 37-й псалом покаянного содержания был написан не Давидом, но Ездрой ради усовещения рабовладельцев, с которыми этот праведник вел продолжительную борьбу.
Что касается до указания главной мысли священной книги, то если она не указана прямо в тексте, как, например, в книге Судей или четвертом Евангелии, то почти никогда не сумеют ее восстановить наши исследователи. Впрочем, единства мысли и требовать нельзя от того памятника, каждая мысль которого имеет в виду какое-нибудь политическое соображение: здесь уже не мысли, а скрытые намерения воли.
Вот вам и результаты современной исагогики.
Когда нам приходилось беседовать о печальном состоянии библейской науки, ее подобия повапленным гробам, и с сожалением вспоминать о ее сравнительной конгениальности с предметом во времена Отцов, то специалисты с неудовольствием возражали: неужели вы хотите двинуть науку назад и отречься от приобретенных сокровищ знания? На это отвечаем: надо отречься не от сокровищ знания и даже не от соотнесения нашей науки с историей, филологией, археологией и прочее, но от тех совершенно ненаучных и произвольных основоположений, на которых бессознательно зиждется современная мысль и ради которых она не приходит ни к каким положительным результатам, а лишь плодит и затем уничтожает новые и новые гипотезы, как Хронос своих злосчастных детей.
Вот это ложное основоположение: библейское богооткровенное творчество ничем не отличается от современного ученого или публицистического сочинительства. Как теперь западные авторы со своими статьями являются порождениями политической и литературной борьбы, так было и с пророками и апостолами. Как теперь всякий ученый обкладывается “литературой предмета” и выписывает мысли из различных книг, составляя свою наподобие мозаики, так поступали и священные лирики, коим мы доселе усваивали чисто личные высокие порывы духа. Трогательный тон отеческой любви пастырей, восторженная любовь к Богу созерцателей, обличительная ревность грозных пророков, — все это плод творчества искусственного, рассчитанного заранее на известную политическую агитацию. Нужно ли говорить, как несообразны такие предположения?
И если ведется речь о возвращении изъяснительной науки к отеческим основам, то под этим должно разуметься вовсе не ослабление ученого аппарата при толковании, но усвоение тех основоположений, на коих развивались отеческие толкования. Возвести в понятия эти основоположения — в этом заключается одна из существеннейших задач современной экзегетики и патрологии. По нашему крайнему разумению, основоположение Правил Тихония есть главное между ними и общее всем Отцам. Приняв его за руководительное начало, наши ученые освободились бы от всех вышеуказанных погрешностей экзегетики.
Примечания
- Впервые опубликовано в “Прибавлениях к творениям святых Отцов” (1891 г., март) под именем архимандрита Антония как предисловие к переводу: Тихония Африканца книга о семи правилах для исследования и нахождения смысла Св. Писания. Пересмотренный перевод книги Тихония мы намерены опубликовать в ближайших номерах журнала. © Подготовка текста. “Альфа и Омега”, 1999 ↩
- Отщетившие мир — редко употребляемое образование от слова тщета; осознавшие тщету мира. — Ред. ↩
- В ц.-сл. Библии: всем время; в Синод. переводе: всему время. — Ред. ↩
- В ц.-сл. Библии: раждати… умирати; в Синод. переводе: рождаться. — Ред. ↩
- Этот термин употреблен здесь не в религиозном, а в философском смысле как обозначение общепринятой ложной идеи. — Ред. ↩


