В оценках церковной жизни 70-х годов прошлого века, которые дают и историки, и свидетели эпохи, наблюдаются существенные расхождения, доходящие до прямо противоположных заключений: одни утверждают, что российское общество переживало в тот период религиозное возрождение, другие – что это было время предельного за всю советскую историю упадка религиозности. Парадоксальность ситуации заключается в том, что эти на первый взгляд несовместимые характеристики по-своему верны, с тем только уточнением, что они затрагивают разные аспекты обсуждаемой темы, относятся к разным стратам советского общества.

За этим обстоятельством стоят разные факторы, менее всего – мнимые успехи атеистической пропаганды, которая могла производить впечатление лишь на самых легкомысленных, если не сказать больше, и легковерных людей. Существенно важнее было то обстоятельство, что из жизни уходило поколение не только матерей, но и вдов выживших и погибших солдат Великой Отечественной войны, которые либо и в 1930-е годы, живя в деревне, оставались носителями традиционного крестьянского и христианского сознания, либо, выбитые из привычной житейской колеи бурей социальных преобразований, оказавшись в беде, всенародной и личной, не могли найти утешения и опоры ни в каких иных местах, кроме того, где их в прошедшие века обретали русские люди – в храме Божием. Возвращению в отчий дом способствовали отчасти и перемены в религиозной политике властей, ставших во время войны более снисходительными к «религиозным пережиткам», и, что было не менее важным в этом отношении, начатая в предвоенные годы, продолженная в войну и с особенной определенностью в послевоенные годы, не важно, вынужденная или нет, трансформация самой официальной идеологии, которая, хотя и сохраняла наследие отцов-основателей, но сместила акценты: ее по-прежнему декларируемый интернационализм был ревизован в сторону, не совместимую с космополитизмом, ставшим в конце 1940-х годов одиозным жупелом, зато совместимую с патриотизмом, так что тысячелетняя история России стала уже вполне официально представляться не столько как история тюрьмы порабощенных народов и угнетенных классов, а как славная история побед русского оружия, успешно отражавшего натиск врагов. Национальные традиции перестали быть предметом хулы и поношения, как это было в два первых десятилетия советской эпохи; в этой новой идеологической ситуации отношение к Церкви, столь тесно связанной со всем, что происходило в стране в прошлые столетия, со стороны власти стало более терпимым.При социологическом рассмотрении ситуации приоритет достоверности принадлежит скептическому диагнозу. Цифры, которые приводились тогда работниками атеистического фронта, при всем очковтирательстве не только их пропагандистских статей, но и их отчетов в вышестоящие инстанции, говорят о том, что в целом по стране посещаемость богослужений, а также число причащавшихся из года в год сокращались, хотя и не в том темпе, какой задан был при Хрущеве. Сокращалось число крещений и отпеваний, но, как и в предыдущие два десятилетия, значительное большинство усопших, хотя бы по факту крещения принадлежавших Православной Церкви, пускай заочно, но отпевали; катастрофически – до ничтожных 2–3 процентов – везде, за исключением Галиции, Закарпатья, Буковины и Молдавии, упала доля тех, кто, вступая в брак, венчался в храмах. Чиновники атеистической службы рисовали для своих начальников более радужную картину, чем ее дала бы беспристрастная статистика, но до известной степени аналогичные наблюдения с прискорбием делали и священнослужители тех лет.
Но эффект идеологической эволюции военных и предвоенных лет, благоприятной для Церкви, к 1970-м годам угас, тем более что во времена Хрущева прежний патриотический зигзаг официальной идеологии был представлен как одно из самых зловещих проявлений «культа личности» Сталина. Хотя само слово «патриотизм» не подвергалось уже остракизму, но позитивную интерпретацию оно получало лишь при непременном довеске «советский» и, за малыми исключениями, не должно было прилагаться к истории России до 1917 года – идеологический курс при Хрущеве исправили в сторону изначального интернационализма, и борьба с космополитизмом, которая подразумевала в частности и защиту приоритетов русских ученых и изобретателей, была почти официозно представлена в анекдотическом виде настаивания на том, что Россия – родина слонов.
И все же ни возврат Хрущева к истокам – Марксу и Ленину (культ которого собственно с этих лет и приобрел карикатурную стилистику квазирелигиозного почитания), а по существу дела – также и к Троцкому, своей былой приверженности которому Хрущев не дал открытый ход из опасений непонимания со стороны соратников и клевретов, – ни развязанные им гонения на Церковь не были главными факторами падения религиозности советского общества в 1970-е годы, тем более что после отставки Хрущева новое руководство страны сбавило залихватский темп его политического курса во всех сферах, действовало более солидно, и оголтелая антирелигиозная кампания, затеянная его неугомонным предшественником, была приостановлена.
Важнейшей причиной духовного оскудения и сокращения числа верующих людей была стремительная урбанизация. Люди, в массовом порядке перебиравшиеся в города, почти в буквальном смысле вырывались из почвы, теряя свои корни, стремясь как можно скорее радикально изменить прежний деревенский образ жизни на новый городской, оставить в прошлом и забыть прежние обычаи, взгляды, ставшие неуместными в городской среде, поменять их на новые, стать из деревенских и «отсталых» «передовыми», соответствующими пропагандируемой моде. Своей жене, а порой и приехавшей в гости к сыну матери новосфабрикованный горожанин не позволял уже в воскресный день пойти в церковь, самое многое, в чем он готов был уступить «отсталости» близких, – это устроить на Пасху домашний праздник с купленным в ближайшем ларьке тортом «Весенний» в качестве пасхального кулича и, разумеется, водкой. Миграция крестьян, к тому времени уже ставших колхозниками, в города и рабочие поселки снижала посещаемость храмов, свела на нет случаи венчания, убавила и число крещений. И дно в этом падении достигнуто было уже только к середине 1980-х годов.
Другое дело, что именно тогда, в первые горбачевские годы, когда в ходе перестройки высокопоставленным чиновникам дозволено было видеть вещи не в заранее заданном свете, а как они им видятся по их собственному разумению, атеистические службы констатировали провал антирелигиозной пропаганды прошедших десятилетий, потому что до тех пор официально считалось, что религиозные пережитки в целом преодолены и привержено им лишь ничтожное число особенно темных личностей, но оказалось, что верующие составляют все же значительную часть общества и среди них есть люди разного уровня образования.
Но это падение только одна сторона медали – ее печальный реверс. Как все-таки обстоит дело с религиозным возрождением 1970-х? Что это был за феномен? Надо сразу сказать, что в социологическом плане он был величиной почти неуловимой: как говорят в подобных случаях, его статистические показатели находились в пределах погрешности. И все же это не был фантом. К учению Христа обратились тогда люди, вышедшие из среды, в прошлом оторванной от Церкви наиболее радикально или никогда к ней не принадлежавшей. До тех пор в Церкви оставались главным образом простые люди, не имевшие образования (в ту пору это значило: высшего и среднего образования, потому что массовая неграмотность в советскую эпоху была действительно преодолена), в основном крестьяне, чаще люди пожилые, чем средних лет, многократно больше старух, чем стариков. Хотя и прежде среди верующих встречались люди интеллигентные, но это были в основном потомки старых интеллигентных сословий, подобные тем, кого в довоенные годы называли бывшими. Случаи исповедания Православия людьми молодыми, рабочими, советскими студентами и специалистами, обратившимися к вере во Христа независимо от семейной традиции, конечно, имели место во все периоды советской истории, и даже в хрущевские годы, но то были исключения, не составлявшие социологически значимого явления, а в 1970-е годы подобный феномен очевидным образом обозначился, правда, почти исключительно в Москве, в Петербурге-Ленинграде и – менее заметно – в других крупных городах.
Это была реакция на очевидный крах официальный идеологии, впрочем, не всем, конечно, очевидный, к тому же это был один из вариантов такой реакции, наиболее радикальный и глубокий по существу дела, но, может быть, менее рискованный в житейском плане, чем, например, политическое диссидентство. Толчком к ускоренной дискредитации советской идеологии послужили обещания построить в Советском Союзе коммунизм через 20 лет, имея временной точкой отсчета 1960 год. Хрущев, планируя скоростной марш к коммунизму, похоже, принимал свои посулы всерьез – иными словами, допуская риск замедления обещанных темпов, он все же полагал, что коммунизм действительно наступит во времена исторически близкие, шанс дожить до которых есть у его современников, по крайней мере из младших поколений. Такой обескураживающий оптимизм не был порожден утратой чувства реальности. Дело в том, что под коммунизмом Хрущев и заодно с ним едва ли не большая часть партийцев без дореволюционного стажа понимали нечто иное, чем ветераны большевизма, посвященные в доктрину Маркса, – не счастливый конец истории и своего рода земной рай, ради которого не жаль никаких жертв, – хилиастская закваска марксизма лежит на поверхности, – а благополучное и сытое общество с относительно высоким уровнем жизни, примерно таким, какой тогда существовал в Соединенных Штатах или Швейцарии, но при большей равномерности в распределении доходов и – главное отличие – при государственной, а не частной собственности. Марксистский догмат об отмирании самого государства не отменялся, но его исполнение переносилось в мало кого тогда интересовавшую футурологическую даль, за пределы видимого горизонта. И подобная концепция, принципиально вполне реалистичная, удовлетворяла хотя и малоимущее, но буржуазное, или, если угодно, мещанское по своим вкусам большинство населения.
После Хрущева более прагматическая власть его последователей и преемников объяснила народу, что коммунизм состоится все же не так скоро, как им было обещано на XXI съезде КПСС, но сложившийся порядок вещей и сам по себе чрезвычайно хорош, а называется он реальным социализмом. Поскольку уровень жизни при Брежневе действительно заметно вырос, большинство принимало такой социализм и не предавалось пустым и опасным мечтаниям, но казенно отправляемый культ революции и ее вождей, столь не похожих на бонз брежневской эпохи, смущал, раздражал и провоцировал более взыскательную и более нервную публику. Массовое разочарование наступило тогда, когда перспектива догнать Соединенные Штаты и Западную Европу по потреблению колбасы на душу населения растаяла в тумане, или лучше сказать – когда, уже при Горбачеве, вчерашние пропагандисты научного коммунизма, в мановение ока переодевшиеся в столь же рьяных и столь же бесстыжих пропагандистов всепобеждающего капитализма, убедили публику в том, что частные колбасники успешнее государственных.
Но уже с конца 1970-х годов по-советски воспитанные, но склонные к критическому восприятию окружающего мира люди испытывали разочарование и обескураженность. Суть их реакции интегрально может быть обозначена так: столько жертв, столько крови – и все это, оказывается, не ради земного рая, наступление которого было обещано, а ради того, чтобы у всех, и то лишь в перспективе, в конце концов была отдельная двух- или трехкомнатная квартира и питание достаточной и даже избыточной калорийности. Многих из тех, кто раньше принимал официальную идеологию, подобный результат грандиозной и кровавой революции оскорблял. Реакция разочарованных была разной: одни (и это был в житейском отношении самый опасный, самый рискованный выбор) обрушились с критикой на советский официоз с позиций марксистской ортодоксии, другие «выбирали свободу» и становились оголтелыми поклонниками культа Запада, вплоть до почитания золотого тельца, хотя при этом могли оставаться людьми лично не корыстными и кадить капиталу вполне платонически, третьи искали выхода на пути квазирелигиозных, парарелигиозных и религиозных исканий. Уже в 1960-е годы появились доморощенные йоги, тогда еще не кришнаиты, и даже буддисты, не имевшие ни бурятских, ни калмыцких корней. О конфуцианцах и даосистах не было слышно. В среде отечественных хиппи, в параллель с тягой к наркотикам, обнаружилась тяга ко всякого рода эзотерике и оккультным опытам – не коммерческий интерес современных экстрасенсов, а совершенно бескорыстное и часто самоубийственное увлечение.

Религиозно-философский семинар. Ленинград. 1977 год. Слева направо: Николай Хованский, Виктор Райш (в настоящее время священник), Александр Щипков, Александр Огородников, Всеволод Корсаков, Сергей Бусов, Николай Епишев (в настоящее время священник), Андрей Бондаренко (в настоящее время священник). На переднем плане Владимир Пореш. (фото из книги Т.Щипковой)
Но психический и ментальный экстремизм – удел немногих. Люди трезвого душевного склада в своих исканиях шли более торным и выверенным путем: читали славянофилов, почвенников, русских религиозных философов XX века, особенно Н.А. Бердяева, а позже также священника Павла Флоренского. Религиозные мыслители Серебряного века находили особенно живой и благодарный отклик у читателей поздней советской эпохи. Дело в том, что уже в начале XX столетия заурядная интеллигенция и подражавший ей полуобразованный элемент – и те, кто жили политическими страстями, разумеется, левой ориентации, и даже те, кто спокойно занимался своим профессиональным делом: лечили, учили, строили мосты, железные дороги и заводы, – в массе своей от Церкви отошли, не всегда, но чаще всего отпадали прямо в атеизм, реже в более изощренный агностицизм. Сохранившие православную веру этой средой воспринимались как белые вороны, подозревались в ханжестве или в поврежденности ума. Хуже того, в начале прошлого века уже обнаружились первые и тревожные знаки отчуждения от Церкви и простого народа: городских рабочих, крестьянской молодежи, пристрастившейся в пору первой революции к грабежам и поджогам помещичьих усадеб – пресловутым иллюминациям, – в противном случае не было бы и самой революции: ни первой, ни той, что в конце концов опрокинула Российское государство. А вот в 1920-е годы, попав в беду, интеллигенция возвращалась в лоно Церкви: одни – вследствие глубоко пережитого покаяния и обращения, многие – из фронды, по старой привычке идти наперекор власти. Фрондерство, однако, способно было выжить в названные с мрачной иронией вегетарианскими 1920-е годы, но не в 1930-е, когда, чтобы остаться в Церкви, уже требовалась жертвенная исповедническая вера, готовность к страданиям и смерти за Христа.
Так вот, религиозные философы начала века потому оказались близки умонастроению неофитов 1970-х, что их духовный путь не был ровным, что и они имели опыт пребывания на «земле чуждей», опыт блудного сына, решившего вернуться в объятия отца. И Н.А. Бердяев, и протоиерей Сергий Булгаков, даром что был сыном священника, и С.Л. Франк в свое время пережили увлечение марксизмом, что подразумевало, естественно, и атеизм; а П.Б. Струве был даже автором первой программы социал-демократической партии, образование которой было провозглашено в 1898 году в Минске на сходке девяти марксистов, вошедшей в историю как I съезд этой партии, от которого вели свой счет позднейшие партийные съезды, вплоть до хрущевских и горбачевских. Обращение вчерашних ведущих идеологов русского марксизма ко Христу происходило под газетное улюлюканье их былых единомышленников из левого стана и даже либеральной публики, солидарно обрушившихся на издание знаменитого сборника «Вехи», отразившего первый этап знаменательного мировоззренческого сдвига, который привел некоторых из его авторов к возвращению в лоно Церкви.
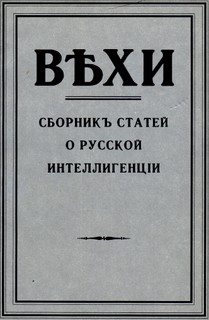 Религиозное сознание неофитов 1970-х годов, с увлечением подхватывавших идеи несравненно лучше образованных мыслителей начала века и их вдумчивых читателей, переживших религиозное обращение, страдало серьезными деформациями. Нуждавшиеся в руководстве и наставлениях, они спешили сами брать на себя миссию учителей и наставников, воспроизводя психотип сектантских проповедников. От деятелей и участников «религиозного ренессанса» Серебряного века – условно говоря, от тех, кто тогда с увлечением читал «Вехи», кто участвовал в Религиозно-философских собраниях, – неофиты позднесоветского периода отличались еще и тем, что их идейные предшественники на путях духовных исканий обыкновенно возвращались к вере своих отцов и дедов в буквальном смысле слова, подобно протоиерею Сергию Булгакову, а сами последователи и подражатели нередко происходили из совсем иной среды, далеко отстоявшей от Церкви; от своих же собственных отцов они, несмотря на обращение ко Христу, часто усваивали пристрастно критическое отношение ко всей истории России, включая и историю Русской Православной Церкви – все ее прошлое: и допетровское, и синодальное, и новейшей эпохи. Еще тогда, в основном в своем кругу, но также и в самиздатских и тамиздатских публикациях, особенно на страницах «Вестника РХД», они предлагали подвергнуть Церковь всестороннему и радикальному реформированию, в этой своей устремленности вполне совпадая с вожделениями прозападных политических диссидентов, так что церковное диссидентство воспринималось, как это ни парадоксально, диссидентством и по отношению к политическому режиму, и по отношению к Церкви, которую этот режим дискриминировал, изначально в основном как раз по причине ее тесной связи со старым дореволюционным Российским государством: дело в том, что во время гражданской войны и в 1920-е годы одним из самых тривиальных обвинений репрессируемым священникам – исповедникам и мученикам – было инкриминируемое им, в отдельных случаях облыжно, участие в деятельности правых союзов – Русского народа или Михаила Архангела, – что клеймилось как черносотенство и квалифицировалось как самое тяжкое преступление, достойное смертной казни.
Религиозное сознание неофитов 1970-х годов, с увлечением подхватывавших идеи несравненно лучше образованных мыслителей начала века и их вдумчивых читателей, переживших религиозное обращение, страдало серьезными деформациями. Нуждавшиеся в руководстве и наставлениях, они спешили сами брать на себя миссию учителей и наставников, воспроизводя психотип сектантских проповедников. От деятелей и участников «религиозного ренессанса» Серебряного века – условно говоря, от тех, кто тогда с увлечением читал «Вехи», кто участвовал в Религиозно-философских собраниях, – неофиты позднесоветского периода отличались еще и тем, что их идейные предшественники на путях духовных исканий обыкновенно возвращались к вере своих отцов и дедов в буквальном смысле слова, подобно протоиерею Сергию Булгакову, а сами последователи и подражатели нередко происходили из совсем иной среды, далеко отстоявшей от Церкви; от своих же собственных отцов они, несмотря на обращение ко Христу, часто усваивали пристрастно критическое отношение ко всей истории России, включая и историю Русской Православной Церкви – все ее прошлое: и допетровское, и синодальное, и новейшей эпохи. Еще тогда, в основном в своем кругу, но также и в самиздатских и тамиздатских публикациях, особенно на страницах «Вестника РХД», они предлагали подвергнуть Церковь всестороннему и радикальному реформированию, в этой своей устремленности вполне совпадая с вожделениями прозападных политических диссидентов, так что церковное диссидентство воспринималось, как это ни парадоксально, диссидентством и по отношению к политическому режиму, и по отношению к Церкви, которую этот режим дискриминировал, изначально в основном как раз по причине ее тесной связи со старым дореволюционным Российским государством: дело в том, что во время гражданской войны и в 1920-е годы одним из самых тривиальных обвинений репрессируемым священникам – исповедникам и мученикам – было инкриминируемое им, в отдельных случаях облыжно, участие в деятельности правых союзов – Русского народа или Михаила Архангела, – что клеймилось как черносотенство и квалифицировалось как самое тяжкое преступление, достойное смертной казни.
Многие из неофитов 1970-х годов, по, на первый взгляд, странному, но, конечно, объяснимому недоразумению, заражались нигилизмом и всякого рода нехорошими фобиями своих, считалось, идейных противников – большевиков первого поколения. И хотя они, вероятно, искренне причисляли себя к лагерю идейных антиподов большевизма и его предшественников, вплоть до Герцена и Радищева, однако во многом их взгляды оставались в колее, проложенной революционерами и нигилистами прошлого. В их сознании, в их осмыслении истории России и мира происходила подмена, имевшая характер самообмана. Подобно современным им политическим диссидентам, они идеологически вооружались против коммунизма, социал-демократии и марксизма, а в действительности по-настоящему им претил не деструктивный пафос революционеров, но окружавшее их российское общество позднесоветской эпохи на стадии его исцеления от революционной одержимости –общество, заклейменное бульварной журналистикой 1990-х звонкой кличкой «совка», действительный образ которого в своих основных чертах был предельно далек и от реалистического портрета, и от плакатной маски революционеров и диссидентов всех мастей, в том числе и большевистской масти.
И еще одна – не социально-психологическая, а идеологическая – черта религиозного диссидентства 1970-х: дело в том, что адекватное православное мировоззрение по природе вещей не может быть не заострено критически по отношению к той ветви христианской цивилизации, где она претерпела неизбежную мутацию вследствие искажения вероучения, что особенно остро чувствовали славянофилы, хотя, не будучи профессиональными богословами, они не всегда корректно объясняли этиологию и характер духовных болезней Запада.
Ныне в разных кругах российского общества, в том числе и в церковной среде, как никогда в последние десятилетия сильна потребность в действительном, а не лозунговом только стремлении к возвращению – не к истокам, что невозможно и абсурдно, а к тому, что с большой долей условности может быть названо нормальным, магистральным, органическим историческим путем России. Для рефлектирующего сознания существует естественная потребность в осмыслении самой сути этого пути, в уяснении адекватного места России в хоре мировых цивилизаций, а оно совершенно ясно: Россия принадлежит миру христианской, не конфуцианской и не индуистской, цивилизации, но христианский мир разделился без малого тысячу лет назад, и Россия, русский народ, наставляемые Православной Церковью, сделали тогда свой выбор и верность этому выбору подтверждали не раз в ходе истории. Но большая часть церковных диссидентов советско-антисоветской формации взирали в 1970-е годы на Запад с таким же благоговением, с каким правоверный мусульманин обращает свой мысленный взор в сторону Мекки. Для некоторых из них само исповедание христианской веры имело ценность главным образом потому, что по причине недостаточной информированности они считали Запад христианским, хотя, впрочем, под влиянием бедствий Второй мировой войны он и в самом деле в послевоенные годы стал более христианским, чем был до войны, не говоря уж о его современном «политкорректном» состоянии. Для политизированных религиозных диссидентов, вроде Глеба Якунина, уже тогда громко известного, церковное диссидентство было, очевидно, всего лишь одним из фронтов борьбы, которую вел Запад против Востока и в которую он включился с неуемной энергией то ли завзятого революционера, то ли усердного и расторопного наемника.
Неофиты 1970-х, несмотря на свою малочисленность, оставили заметный след в церковной истории, влияние которого не исчезло и в наши дни – почти полвека спустя. Немало современных пастырей и церковно-общественных деятелей, церковных публицистов вышло из этой среды, и по большей части они изжили болезни неофитства со всеми сопряженными с ними осложнениями. И все же хорошо памятные завихрения, осложнявшие церковную жизнь в 1990-е годы, – те, что были обозначены в свое время как неообновленчество, – коренятся в умонастроениях неофитской среды 1970-х. Оттуда же тянутся нити и к шокирующим выходкам церковных журналистов, в том числе и облеченных священным саном, которые безоговорочно или с оговорками взяли под защиту недавние разнузданные акции антицерковного хулиганства, вполне сопоставимые с комсомольскими «пасхальными» карнавалами 1920-х годов, но значительно лучше организованные, чем это умели делать в те веселые и еще неопытные годы: речь идет не о режиссуре – режиссеры тех лет были не в пример талантливее, а о том, что ныне называют пиаром, – медийно-пропагандистским сопровождением шоу.
Похоже, что недоброжелатели России ныне до конца осознали то обстоятельство, что главным тормозом ее соскальзывания на несвойственный ей западный путь – на который она в действительности и не может сойти, разве только имитировать его, что мы и наблюдали в 1990-е годы, – служит ее укорененность в православной византийской традиции. В этом свете становится понятным, почему некоторые из публицистов, задним числом обличавших хулиганские антицерковные зрелища 1920-х годов, радостно аплодировали современным карнавалам с той же стилистикой и с тем же адресатом. Крокодиловы слезы о гонениях на Церковь были пролиты духовными, а иногда и плотскими потомками гонителей, потому что тема гонений оказалась полезна для разрушения Советского Союза, после чего, как предполагали и надеялись и как оно складывалось в 1990-е годы, Россия поступит в покорные ученики и вассалы победителей в холодной войне. Но когда страница истории была перевернута и надежды на перевоспитание русского народа не оправдались, понадобились новые и более впечатляющие наглядные уроки хорошего тона. Представляющаяся на первый взгляд абсолютно необъяснимой и немотивированной сочувственная поддержка, оказанная со стороны некоторых церковных знаменитостей исполнителям и изобретателям провокаций, имеет очевидные идеологические основания, суть которых заключается в изначальном, уходящем в 1970-е годы родстве политического диссидентства с диссидентством церковным.





