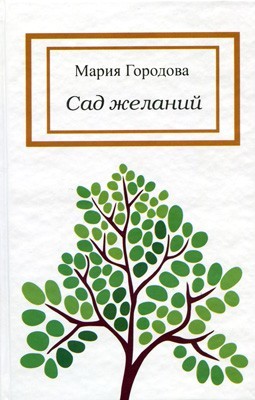 В издательстве Никея вышла новая книга Марии Городовой «Сад желаний». Предлагаем читателям главу из книги.
В издательстве Никея вышла новая книга Марии Городовой «Сад желаний». Предлагаем читателям главу из книги.
«Мария, здравствуйте! Вы часто печатаете письма, больше похожие на исповеди. Всегда читаю их с интересом, а потом спрашиваю себя: «А зачем?» Зачем люди занимаются душевным стриптизом? Чтобы выплакаться? Чтобы вспомнить то радостное и светлое, что было в их жизни? Чтобы оправдаться? Чтобы осмыслить, каким ты родился и кем стал, и где совершил непоправимую ошибку? Зачем?
Если бы кто-нибудь еще пару месяцев назад сказал мне, что я сама засяду за такое письмо, я бы расхохоталась этому человеку прямо в лицо. Но на прошлой неделе гинеколог отправил меня на биопсию, и, дожидаясь результатов анализа так, как ждут приговор, я вдруг сама села писать. Писала ночами, когда оставалась один на один со своими страхами, тяжелыми воспоминаниями, дурными предчувствиями. Писала и плакала.
Романа из этого письма не получилось, хотя моей бурной жизни хватило бы не на один десяток романов, а, может, и на детектив. Исповедь я так и не закончила – наверное, не хватило сил быть честной до конца, даже оставшись наедине с собой. Но, отсмотрев свою земную жизнь почти до половины, отплакав, я, вдруг, впервые за многие годы почувствовала себя по-новому. Будто стекла в квартире промыли, и твой взгляд на мир теперь не замутнен грязью, пылью и копотью – все видно ярче и ясней.
Так бывало ранней весной, давно, в детстве. Помню, как я, едва дождавшись первых теплых деньков, распахиваю огромные окна нашей с папкой сталинки, засыпаю в эмалированную лохань с водой дефицитный гэдээровский «Лоск», набираю у отца в кабинете ворох старых газет и торжественно взбираюсь на широкий подоконник. Жили мы на втором этаже, гостиная и моя комната выходили на главную улицу города, и я, включив запись Анны Герман на всю громкость, подоткнув подол юбки и закатав рукава свитерка, принимаюсь драить окна: направо – налево, вверх – вниз. Ласковый ветерок перебирает волосы, и они весело щекочут мне скулы и шею; кожа рук и ног, такая белая после зимы, еще не успевшая загрубеть, будто просыпаясь, начинает отзываться на нежные прикосновения солнечных лучей и поцелуи ветра; а весенняя свежесть воздуха пьянит. То ли от возбуждения, то ли от высоты, голова начинает слегка кружиться, мне становится легко и весело, и, упиваясь собственным бесстрашием, я все чаще, как бы невзначай, бросаю взгляды туда, вниз, на улицу, где на меня, такую молодую, красивую и гибкую, осуждающе смотрят старые тетки (а в четырнадцать лет все кажутся старыми!) и восхищенно – мужчины! Порыв ветра начинает рвать юбку, но я еще старательнее подтыкаю подол – пусть смотрят, пусть завидуют! – и продолжаю драить окно: вверх – вниз, направо – налево, отдаваясь восторгу чужих восхищенных взглядов.
Поздно вечером приезжает папка, увидев чистые окна, начинает ругаться: «Дурочка, зачем сама! Дождалась бы пока Нюся из деревни вернется (Нюська – нам и за няньку, и за хозяйку, моя мама умерла, когда мне было всего пять)» А я давай кружить вокруг папки – заласкаю его, зацелую: «Папуль, что нам Нюська – старая-костлявая! Навернется – назад не соберем! А я вон какая – красивая и смелая!» И папка не выдерживает, начинает смеяться. И долго-долго потом наши окна в гостиной сияют чистотой.
Папка меня так любил, что позволял многое. Чувственность во мне пробудилась очень рано, а такие девочки нуждаются в твердой руке и последовательном воспитании. Но откуда? Папка весь день на комбинате, а что Нюська? К пятнадцати я – заводила компании – научилась так лихо и незаметно для рассеянного папкиного взгляда лишать девственности каждую новую импортную бутылку из его бара, что все обзавидовались. Мы выпивали, курили, дарили друг другу свои молодые здоровые и глупые тела прямо под носом у Нюськи. А она упрямо верила, что вся эта гогочущая компания пришла в наш огромный хлебосольный дом готовиться к экзаменам. Впрочем, в наших загулах грязи не было: романтика «Токайского» вперемешку с Гаванским ромом, разговорами о «Мастере и Маргарите», спорами про «Pink Floyd» и про … забыла даже, о ком еще мы тогда спорили. Вообщем, все было достаточно невинно, хотя мы искренне думали, что прожигаем жизнь, а я лично гордилась тем, что считаюсь в компании самой чувственной (тогда такие определения были еще большой редкостью) и видела себя едва ли не Мессалиной – дура!
Что такое грязь в отношениях между мужчиной и женщиной я поняла позже. Уже и не вспомнить, как и почему я оказалась в тот день на чужой даче, куда подевались мои друзья-подруги, и отчего мое чувство опасности не включилось в тот момент, когда я осознала, что осталась одна одинешенька среди взрослых мужиков, годящихся мне в отцы, прилично набравшихся, и что все разговоры давно далеки от нашего обычного богемно-студенческого трёпа. Нет, почему чувство опасности не возопило во мне, это я как раз понимаю: мне нравилось то незнакомое доселе ощущение, когда взрослые, сильные мужики бросают на тебя тяжелые, долгие, неотступные взгляды. Я упивалась своей такой очевидной властью над этими большими дядьками с такими сильными, ловкими руками; обветренными, крепкими, загорелыми – не шеями! – выями; широкими, мощными – это тебе не студентики в джинсиках! – торсами. Меня будоражило сгущение этой медлительной тяжести, сделавшей в миг такой темной и тесной большую светлую залу. Я упивалась происходящим. Я казалась себе самой такой легкой, такой веселой, такой безмятежно парящей над этими тяжелыми грозовыми тучами… Дура! Дважды! Трижды! Четырежды – дура!
Не помню, как я под утро выбралась с той дачи – видно, мой Ангел Хранитель не спал и меня не бросил. Не помню, как ноги сами меня принесли к единственной в то время в нашем городе церкви. Помню только икону, перед которой я бухнулась об пол – вся еще душимая рыданиями, вся еще распластанная. Молитв я тогда, конечно, никаких не знала, но вся душа моя так скорбела, так оплакивала утерянную чистоту, что, может, слов уже никаких и не надо было. Помню еще, что когда буря во мне уже утихла и я начала замечать, что в храме понемногу собирается народ, я, уходя, попросила Божью Матерь: «Пошли мне любовь! Чтобы нестыдно было! Настоящую любовь!» И она случилась в моей жизни – настоящая любовь. Единственная.
Мария, Вы знаете, с тех дней прошел не один десяток лет, в моей жизни было немало такого, в чем трудно признаться даже самой себе – и стыдного, и грязного, и тяжелого. Наверное, как у всех. Такого, что так легко забывается в молодости, но что память услужливо подбрасывает, когда мы заболеваем или остаемся одни. Днем еще ничего – суета и заботы помогают отвлечься. Но вот ночью, когда уже нет сил смотреть телевизор, но и заснуть тоже не можешь, картинки всего того, что происходило с тобой, всех твоих глупостей, безумств и ошибок начинают так ясно вставать перед твоим взором, что выход только один. Ты садишься за такое вот письмо, пусть не законченное, письмо-исповедь, надеясь, что нежданно явившиеся воспоминания тебя отпустят…» Марина Васильевна Б.
Здравствуйте, Марина Васильевна! Марина Васильевна, письмо в редакцию, даже самое откровенное и искреннее – это еще не исповедь. И доверительный разговор с подругой, также как и сеанс у психотерапевта, тоже нет. Исповедь – это Таинство. То есть такое священнодействие, когда через видимые действия верующему сообщается невидимая Божественная Благодать. Во время Таинства Покаяния, то есть Исповеди, кроме раскаяния в наших грехах и исповедовании их перед священником – еще доступных человеческому взгляду событий, происходит и невидимое, недоступное человеческому глазу – это прощение Богом кающегося и избавление его от власти исповедованного греха – в церкви это называется «разрешением» от греха.
Я сейчас написала, что «прощение и разрешение от греха – это невидимая часть Таинства», но потом подумала, что если вглядеться в просветленные лица людей недавно исповедовавшихся, и, особенно если сравнить их с теми выражениями лиц, которые бывают у людей еще только идущих на Исповедь, можно легко заметить действие этой Божественной Благодати. Получается, что Таинство даже внешне меняет человека – понаблюдайте за людьми в храме, и Вы сами легко заметите это.
Так вот, для того чтобы наше сердце посетило раскаяние, чтобы мы смогли узреть в себе наши грехи, вспомнить их все, а потом найти в себе внутренние силы честно их исповедать, для того, чтобы наша исповедь была не просто перечислением наших постыдных деяний, а стала тем, что очистит нашу душу, промоет ее от копоти и грязи греха, вот для всех этих поступков нашей души и нужно присутствие Бога. Потому что только Бог может дать ослабевшей от греха душе силы совершить эти поступки – я настаиваю именно на этом слове!
Фактически, Исповедь – это предстояние человека перед Богом, момент встречи с Ним. Наше обращение к Творцу, и Его ответ нам.
Конечно, душа каждого человека чувствует жизненную необходимость такой Встречи, ощущает потребность в ее очищающем действии. Наверное, поэтому, Марина Васильевна, в тяжелые минуты жизни, наши души так жаждут раскрыться навстречу Ему, нашему Творцу. И так жалко, что не понимая этого, мы раскрываемся только тому, кто просто готов нас выслушать.

