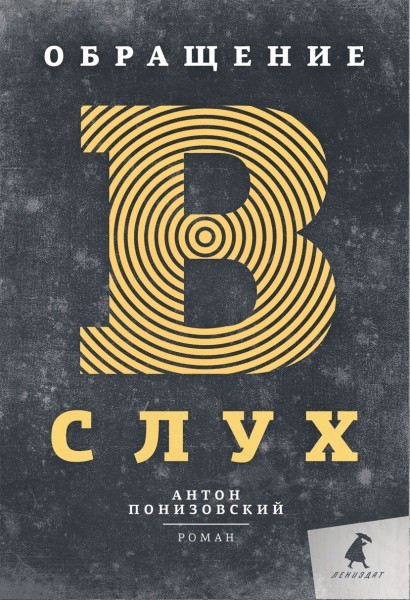Предлагаем вашему вниманию рецензию Анны Голубевой на книгу Антона Понизовского «Обращение в слух».
Взять и написать роман о тайне русской души. Вот натурально, без шуток – русская душа, русский народ, Бог, Достоевский. То есть сразу, в первой книге, подставиться. Для дебюта это, может, и ничего. Но одно дело так подставляться, когда тебе 20, другое – когда 40.
Начать книгу словами «Жила семья – муж с женой. У них было трое дочерей». Трое дочерей, понимаете. Запереть в маленькой альпийской гостинице двух мужчин и двух женщин, не считая эпизодического хозяина, который подать-прибрать — перевернуть страницу – и не то что никого не убить, а шагу не сделать в сторону детектива.
Небо над Европой закрыто — из-за исландского вулкана. В швейцарских Альпах застряли после каникул четверо русских – Дмитрий и Анна Белявские, средних лет семейная пара, приехавшая кататься на лыжах, юная сноубордистка Леля и главный герой, двадцатисчемтолетний Федор, который ни на чем не катается, самолета не ждет и тут совершенно случайно.
Хотя он-то как раз почти местный – учился в швейцарском университете, потом в аспирантуре, теперь помощник профессора, от занятий Достоевским перешел к антропологии, и русскую душу изучает уже по воле наставника, Николя Хааса. Идея у швейцарского антрополога примерно такая: надо записать на диктофон как можно больше устных рассказов простых русских людей, расшифровать и вывести общий знаменатель.
Федор занят расшифровкой и переводом этих самых записей не первый месяц. Кое-что в них ему, давно оторванному от родной почвы, не очень понятно. Случайные знакомые соглашаются помочь, надо ж как-то коротать время после катания. И вот все четверо сходятся в общей гостиной с камином, пользуясь тем, что кроме них в гостинице постояльцев нет, и слушают записи в Федином ноутбуке.
Все это излагается так бесхитростно, что прощаешь автору нескромность замысла. Никаких экстравагантных прыжков фабулы, лексических аттракционов и фонетических спецэффектов. Свои отношения со словесностью автор напоказ не выставляет – долго надо приглядываться, чтобы заметить, что между ними что-то есть.
«Обращение в слух» можно, в принципе, воспринимать как притчу, например, про народ и интеллигенцию. А героев — как в детстве бумажные фигурки: компромисс, на который идешь, когда нет под рукой нормальных, трехмерных, а потом увлекаешься так, что уже не важно. Мы ничего не знаем ни о ком из них, кроме Федора, да и о нем не так уж много. Нам не описывают их бэкграунд, занятия, внешность – есть только отдельные штрихи: «мягкая русая бородка», «острые ноготки», загадочная татуировка на девичьей шее. Но их и без описаний узнаешь, считываешь, кто и откуда – достаточно им начать говорить.
Монологи и диалоги действующих лиц, которым автор то и дело передает слово, почти превращают роман в пьесу, сочетание привычной драматургии и вербатима. Опять же, единство места, единство действия, время же вполне условно – все происходит в течение пяти суток, но могло бы уместиться и в классические 24 часа.
Пора сказать о главной дерзости автора. Рассказы людей из России, которые слушают его герои, не просто включены в книгу, а занимают добрую ее половину. Истории эти не придуманы — их наговорили реальные люди.
То есть, автор комбинирует два разнородных, разноприродных потока – свое и чужое, письменное и устное, фикшн и нон-фикшн, вторую реальность – с первой. Не смешивая, а именно монтируя встык — этот внелитературный, киношный прием обнажает границу, где кончается искусство и дышат почва и судьба.
Сначала это возмущает — как всякая игра не по правилам. Это все-таки не театр, давайте уж что-нибудь одно, либо прозу, либо человеческий документ. Потом начинаешь сознавать, какой решимости это потребовало от автора. Что-то свое писать рядом с этой живой речью — как актеру войти в кадр с ребенком. Большой риск, что тебя просто не заметят – а разве этого добиваешься, публикуя свою первую книгу?
Кроме того, трудно не оценить масштаб предпринятых автором «Обращения» усилий. Надо было найти всех этих людей: пожилого электросварщика, спортсменку-армрестлера, бывшего ФСБшника, офисную служащую, стриптизера, торговку с рынка, военного летчика, медбрата из сельской больницы, девушку из Чебоксар, дядьку-снабженца, абхазку, горюющую о погибшем сыне. Надо было каждого разговорить — а говорят они подробно, откровенно, о сокровенном.
Автор тут, похоже, действует по заветам своего персонажа, швейцарского профессора: лучше, чтоб рассказчики были людьми не городскими, желательно без высшего образования – наверное, предполагается, что почва и судьба в них дышат чаще и глубже, чем в людях, испорченных цивилизацией. Повествование же должно быть свободным (narrations libres) – человеку, почти не прерывая его вопросами, предоставляют рассказывать что угодно: о себе или о других, о снах или яви, всю свою жизнь или только эпизод.
И вот они перед нами, все эти свободные нарративы – подробные автобиографии, душераздирающие исповеди, живые свидетельства, слезные жалобы, случаи и байки, десятки историй от первого лица, сотни страниц. Они не просто увеличивают объем книги, раздвигая ее границы куда-то за пределы видимости, а меняют все пропорции, смещают фокус.
« — Эта комната…Горы…Как будто неплотное: то ли просвечивает, то ли…. то ли плывет. Вроде бы и реальное – но не совсем… — А реальность – наоборот, на пленке? – подхватил Федор. – Я тоже это чувствовал! несколько раз!»
Эту реальность герои обсуждают, от нее отталкиваются, к ней возвращаются. Весь их сюжет разыгрывается вокруг, как комментарий, сами они – рисунки на полях книги, которую читают. Точнее, слушают — как музыку. То и дело кто-то произносит: «Федя, поставьте уже про любовь!» или «Сядь сюда. И поставь какую-нибудь не очень длинную» или «Включайте дальше свою шарманку». Четверо, потерявшиеся в этом шуме русской жизни и русской речи. Какой там исландский вулкан, какая Швейцария.
«Обращение» вливается в разговор, который протекает по основной территории русской литературы со времен, кажется, ее появления: почему эта русская жизнь такая трудная и какой в этой трудности смысл?
Разговор этот, как водится, быстро превращает беседу милых и приятных друг другу людей в спор, почти противостояние. Описывать характер и ход этого поединка – значит пересказывать книгу, в которой, конечно, не только говорят, герои все-таки не бумажные, они едят, пьют, мучаются похмельем, шутят, испытывают чувства и делают шаги. Но то, что между ними происходит — симпатии и антипатии, коварство и любовь — судьба их личного сюжета зависит от исхода этого спора о русской судьбе. Если, конечно, у него может быть исход.
Понятно, что Федор Михалыча спорщики поминают через слово.
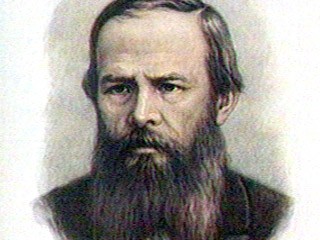 Как и сам автор – и Швейцария тут, ясно, не просто так, и воодушевление Федора от встречи с компатриотами и возможности вести умный разговор по-русски, и совсем откровенные ремарки вроде «страдая, воскликнул Федор», «дрожал Федя», «прянул Федя».
Как и сам автор – и Швейцария тут, ясно, не просто так, и воодушевление Федора от встречи с компатриотами и возможности вести умный разговор по-русски, и совсем откровенные ремарки вроде «страдая, воскликнул Федор», «дрожал Федя», «прянул Федя».
Ваз в гостиной бедный рыцарь не бьет (хотя во флешбеке прошибает лбом стекло – благодаря чему, собственно, и оказывается в Альпах); помнит о приличиях, старается не делать жестов, но произносит такие речи про народ-богоносец, живой источник и небесное отечество, что битье ваз конфузило бы слушателей гораздо меньше.
Его оппонента, Дмитрия Всеволодовича, соблазнительно нарядить Свидригайловым или Ставрогиным. На обеих дам вполне бы могло подойти что-нибудь из гардероба Епанчиных.
Не факт, что надо так уж всерьез принимать расставленные тут повсюду бюстики великого писателя. Аккурат в середине книги предпринимается основательный, страниц на 30, разнос Достоевского в режиме «анти-Ахматова»: тут вам и гроздья цитат с убийственными комментариями, и психоаналитические экскурсы в детство, и вивисекция самых трепетных мотивов зрелого творчества– слезинка ребенка, говорите? Религиозность? Чувство к русскому народу?
В общем, Достоевскому достается – от персонажа, да, но не сказать, что совсем без ведома автора.
Рикошетом попадает и Фединым светлым идеалам. «Нет, Федор, таких русских, как у Достоевского и у вас — нет в природе» — заключает Белявский, и с ним трудно спорить. В конце концов, он-то в России живет, в отличие от Федора. А чем кончают швейцарские мечтатели, пылко любящие русский народ издалека, когда им доведется с этим народом столкнуться, известно.
Выпад в сторону Достоевского – не единственное, что заставляет вспомнить о другом любимце русской музы и любителе швейцарских гостиниц. Его герои «Обращения» не цитируют – но его присутствие тут и без этого ощущается. И не потому, что созерцаемые Федором облака на горных отрогах напоминают о Годунове-Чердынцеве, а мелодия дуэта супругов Белявских повторяет интонацию супругов Черносвитовых.
Дело, скорее, в настройках авторской оптики. В этих его визуально выверенных мизансценах. В манере внезапно брать крупным планом ухо собеседника, хризопразовый глаз возлюбленной, потолочную балку, пуговку на байковой рубашке. Собственно, в тех вещах, за которые Набоков хвалил создателя «Братьев Карамазовых», называя его «зорким писателем».
Зоркий читатель наверняка заметит в романе «Обращение в слух» и другие источники авторского вдохновения. У любой книжки всегда много соавторов. Это только кажется, что ты располагаешь буквами, запятыми и цитатами по своему усмотрению – они тобой не меньше. Не говоря уже о почве и судьбе, которые дышат где хотят, так же, как и Дух.
Читайте также: