— Вы исследуете любовь. А как вообще это возможно посчитать, понять, измерить?

Полина Аронсон
— Понять любовь действительно сложно, а вот посчитать и измерить мы можем практики, то есть то, что люди делают. Мы можем посчитать, как меняется состав и количество разного рода домохозяйств, как меняются формы сожительства. Например, в развитых странах, в больших городах мы действительно наблюдаем нарастание домохозяйств из одного человека. Причем это миф, что только молодые и красивые живут поодиночке и на лабутенах ходят в соседнюю кофейню. Очень большой процент от этой группы как в США, так и в России составляют пожилые, весьма небогатые люди, преимущественно женщины, что часто связано с разрывом в продолжительности жизни.
В любом ЗАГСе есть статистика, сколько людей женятся, сколько разводятся, сколько рождается детей. Но важно понимать, что сами эти цифры нам ничего не скажут, если люди не объяснят, что они об этом думают, потому что у них может быть много разных мотиваций, и тут действительно можно задаться вопросом о том, какое отношение любовь имеет к сожительству. Для многих людей сегодня идея о том, что если вы друг друга любите, то вы должны жить вместе, — это представление из прошлого.
«Если тебе кто-то нужен, ты не можешь выжить сам»
— Насколько то, как мы любим, зависит от экономики и культуры, в которой мы живем?
— Про брак как буржуазный конструкт писал еще Маркс. Но отношения, институционализированные в той или иной форме, нужно отличать от непосредственной эмоции, которую человек испытывает. Если мы почитаем Овидия, то поймем, что тот аффект, который люди испытывали в Древнем Риме, немногим отличается от нашего, поэтому мы и в состоянии понять литературу от античности до наших дней. Хотя многие вещи нам уже действительно непонятны. Сохнущие по прекрасным дамам рыцари с точки зрения поп-психологии ущербны, они зациклены на каком-то одном человеке, идеализируют его и ломают себе жизнь. Более того, мы сейчас уже не очень понимаем модели любви, секса, привязанности, которые были развиты в Советском Союзе. Эти модели сейчас пересматриваются с точки зрения психологизированного представления об эмоциях как о чем-то управляемом, и многим людям эти советские идеи кажутся совершенно абсурдными. Достаточно посмотреть на море текстов, доказывающих, что фильм «Ирония судьбы» про невроз, а не про любовь, и главные герои — два инфантильных человека, у которых нет личных границ, поэтому они никогда не будут счастливы.
Вообще брак, основанный на романтической любви, — это изобретение совсем недавнее, ему буквально 150 лет. Ведь до середины XIX века ни о каких браках по любви речи не шло ни в одном социальном классе. Брак был формой передачи собственности, а женская верность являлась гарантом надежности помещения этого капитала. Идея о том, что брак каким-то образом может быть связан с любовью, появилась в конце XIX века на волне романтизма. У Гете в конце XVIII века уже есть это понятие — «родство по выбору».
Современное представление об отношениях, в том числе о браке, основанное на идее выбора, стало возможным с изменением экономики, переходом к индустриальному капитализму, где люди начинают бесконечно переезжать, женщины выходят на рынок труда, живут отдельно от своих семей, у них появляется потребность во времяпрепровождении вне пределов семьи.
— А что прямо сейчас происходит с браком и отношениями?
— Мы живем при экономическом и эмоциональном режиме, который социологи называют эмоциональным капитализмом. В этом режиме все мы, вольно или нет, видим свою личность, навыки, происхождение, связи как капитал, и наша эмоциональная жизнь — это тоже капитал. Мы вкладываем свои эмоции в совместное предприятие с другим человеком, работаем на достижение результата и получаем прибыль. Как говорят американцы, «инвестируем в отношения».
Это модель, выросшая из производительного капитализма из середины XX века. Вы снимаете квартиру — надолго, устраиваетесь на работу — подписываете контракт, вступаете в брак — подписываете брачный контракт. Но сейчас мы живем в эпоху, когда вообще-то и модель капитализма изменилась. Мы ушли от капитализма производительного к капитализму событийному, когда нет никаких долгосрочных производственных процессов, а есть проекты. Образованное городское население все время переключается с одного проекта на другой, вы не знаете, что будет дальше, над каждым из новых проектов вы зачастую работаете с новой командой, нередко вам приходится переезжать. Экономика событий — это Uber, это «Яндекс.Еда».
То, что сейчас происходит в области межличностных отношений, следует той же логике.
Tinder - инструмент этого капитализма, способ выжить в культуре, которая от нас требует постоянного переключения внимания, постоянного вложения себя куда-то еще, постоянного поиска наиболее оптимального приложения своих сил на короткий срок.
Я думаю, что вопреки оптимизму поп-культуры, штампующей эту модель в сериалах и даже в компьютерных играх, к ней очень тяжело привыкнуть.
Еще в 90-е и в начале 2000-х многие люди из числа образованного городского населения ринулись в поп-психологию, взялись строить отношения по той прежней, производительно-капиталистической модели, работать над ними, измерять риски, проговаривать. А теперь вдруг выясняется, что мы уже живем в новом времени. Навыки поддерживания отношений уходят на второй план, а на первый план выходит способность все время плыть в потоке, мгновенно подстраиваться под новые вызовы, все время посылать сигналы, что ты к чему-то готов, и быть на низком старте. Это довольно утомительно.
— А нужны ли нам вообще отношения? Есть ощущение, что нужны, но их просто сложнее стало заводить.
— Я думаю, что многие сегодня постоянно испытывают сильный внутренний конфликт между потребностью в привязанности и идеологией радикальной автономии. Социальная структура, экономические вызовы призывают нас к идеальной самоизоляции, чтобы каждый был, как подводная лодка, то есть мог полностью сам себя обеспечить, в том числе эмоционально. Отсюда эти бесконечные призывы стать самому себе папой и мамой, «надеть кислородную маску» и так далее — то есть удовлетворить все свои потребности самостоятельно. Но потребность в привязанности никуда не девается. Проблема в том, что она нередко патологизируется и в поп-психологической литературе, и в поп-культуре: ты инфантильный, если тебе кто-то нужен, ты не можешь выжить сам, значит, ты ущербный. Мы поэтому не знаем, как эту потребность в привязанности правильно реализовать.

Потребность в привязанности — норма для человеческой психики
— Есть разница в том, что от отношений хотят мужчины, а что женщины?
— Сама категория «мужчины» и «женщины» в разных социальных классах, этнических группах, религиозных сообществах наполнена разными смыслами, как и категория «отношения». Чего ждут от любви, чего от отношений — это тоже разные вещи. Если обобщить, наверное, мы сами калибруем свое положение внутри спектра между автономностью и привязанностью и находимся в поисках человека, который понимает наше положение и готов его с нами разделить.
— В этом смысле россияне отличаются от европейцев? Мы по-другому чувствуем, любим, строим отношения?
— По-другому, конечно. Гендерное неравенство в России — это все еще очевидная заданная рамка, и это неравенство очень специфическое, потому что, в отличие от других обществ, где существует разрыв в правах между мужчинами и женщинами, у нас женщины экономически относительно эмансипированы и включены в рынок труда. Но при этом от женщин все еще ожидается, что они будут выполнять все патриархальные роли: тянуть на себе все, что социологи называют «эмоциональным трудом» — заботу, участие, понимание, уход за детьми и пожилыми — и ничего не просить взамен.
В России в данный момент конкурируют две модели понимания того, что такое чувства, кто их субъект, как их правильно проживать. Первая выросла из коллективистских представлений об обществе, и ее отличает некий фатализм в понимании себя и своих возможностей. Советский человек в рамках своего жизненного пространства вообще мало на что мог повлиять. Он не мог повлиять на то, чтобы жить в той квартире, в которой хочет, не мог запросто уехать работать в другое место, и к тому же, естественно, испытывал на себе постоянное политическое давление. При этом, как отмечает моя коллега, социолог Юлия Лернер, этот фатализм мог иметь вполне стоическую интерпретацию: смирение с обстоятельствами часто рассматривалось как своего рода духовная практика, а не просто слабость. Любовь в этом миропонимании находилась вне повседневности, часто вне брака — это святое место, куда можно сбежать.
Эта модель конкурирует сейчас с эмоциональным капитализмом, о котором мы говорили выше. Конфликт между ними разворачивается прямо у нас на глазах, и мы все в нем непосредственно задействованы.
Психологизированное представление о любви как отношениях, как практике взаимного удовлетворения психологических потребностей становится все более популярным, его берет на вооружение средний класс, это рамка, которая производит новую рациональность. С другой стороны, мы все еще во многом видим любовь как судьбу, как побег, или, как говорит один мой приятель, как складочку в пространстве, в которой можно укрыться.
Почему, чтобы обняться, нужна специальная вечеринка
— Как сейчас люди все-таки знакомятся: по большей части это традиционные методы (на улице, в баре) или уже сайты и приложения знакомств?
— Социологи (Ева Иллуз, Лори Эссиг, многие другие) сейчас много пишут о том, как стремительное увеличение числа возможных партнеров, возникшее благодаря дейтинговым приложениям типа Tinder, Grindr, Bumble, влияет на нашу способность создавать отношения. Постоянные пользователи этих приложений часто следуют сложным стратегиям, у них есть расписание, сколько раз в неделю ходить на свидание, сколько оно должно длиться, они отсеивают огромное количество людей за год — то есть действуют предельно рационально — но они при этом хотят эмоциональных отношений.
Мечта встретить своего человека никуда не девается, просто запрос к этому человеку становится чудовищно нереалистичный. Связано это с тем, что, во-первых, мы живем в обществе, где риску подвержено все, все непредсказуемо, а уж в России все тем более непонятно, поэтому на партнера возлагается большое ожидание, что он будет твоим домом и даст тебе эту укорененность. С другой стороны, у нас к самим себе есть невероятный запрос, связанный с идеей свободно избранной романтической любви. Раз уж за меня не решает коммуна, церковь, семья, то моя задача заключается в том, чтобы тщательно изучить свои активы и найти именно того человека, который поможет мне наилучшим образом эти активы инвестировать в совместное предприятие. При этом поиском этого человека мы занимаемся в этой «уберной» системе. Поэтому часто проще сказать себе, что моя свобода в том, что я не буду ни с кем.
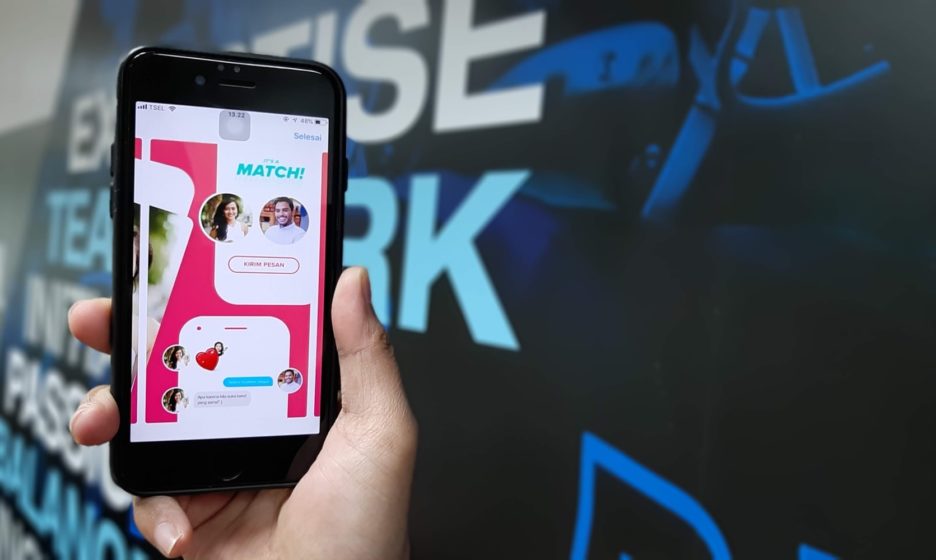
Приложения для знакомства стали повседневностью
Но, конечно, «Тиндером» все не исчерпывается. Всегда будут актуальны разные модели поиска партнера, вопрос в том, для кого и как они будут социально распределены. Уже сейчас социологи говорят о том, что жизнь вне дигитального пространства становится привилегией правящего класса. Cреди политологов, активистов, социологов идет дискуссия о включении права на non-digital life в список прав человека, потому что мы действительно во многом принуждены к цифровой жизни и отказаться от нее мы можем, только накопив большое количество ресурсов.
В США это уже так: у властей бедных городов и районов нет денег нанять квалифицированных учителей, поэтому ребенку в школе выдают таблет, он целый день сидит с ним и таким образом получает хоть какое-то образование. То же самое происходит с больницами. «Нью-Йорк Таймс» писала о том, как в бедном городе, в бедной больнице умирал, опять же, бедный человек, и в какой-то момент к нему в палату вкатился робот, сообщил ему: «Вы умираете» и уехал. То есть человеческий контакт становится привилегией. В России это пока еще не так, у нас пока доступ к новым технологиям является и считается чем-то статусно высоким, но, возможно, через некоторое время и мы придем к тому же, к чему пришли США.
— А почему, как вам кажется, человеческий контакт становится так сложно получить?
— Есть масса причин, по которым современные люди боятся близости, и эти причины нельзя списать со счетов. Все-таки столкновение с насилием — это опыт огромного числа и мужчин, и женщин. Поэтому, с одной стороны, очень ценно то, что сегодня задумываемся о том, что допустимо, а что нет. С другой стороны, страх сделать что-то не так парализует спонтанное общение, спонтанные знакомства.
Уже сейчас люди собираются, чтобы потрогать друг друга руками по протоколу. Это такие hug parties, вечеринки обнимашек, куда приходят, чтобы получить телесный контакт. Перед началом участникам говорят, как можно себя вести, чего делать нельзя, потом они в течение часа обнимаются, трогают друг друга и расходятся. Это делается не в целях романтических знакомств, просто мы живем в таком мире, где телесный контакт тоже становится очень спорадическим и связан с большими рисками, поэтому создаются специальные сейфспейс, где его можно получить, не рискуя вляпаться в насилие и прослыть насильником самому, где все регламентировано и за этим наблюдают обученные люди.
Возможно — это мои фантазии — знакомства на теплых ламповых вечеринках, какими их помнят наши родители, станут своего рода привилегией людей, которые могут себе это позволить: у них есть время, чтобы сходить туда, им есть к кому идти, то есть в том месте, где они живут, есть укорененная социальная сеть людей, которые не были вынуждены 10 раз за свою жизнь переехать к 25-летнему возрасту, и, конечно, это люди, у которых есть просто навыки говорения, смотрения в глаза.
Может быть, следующее поколение придется уже обучать этому, кто знает. В Японии, где вообще остро стоит проблема атомизации молодого поколения, государство запустило программу по организации вечеринок для молодых, оплачивает им бар, то есть искусственным образом создают атмосферу, в которой люди общаются друг с другом лично, а не через гаджет.
— То есть «Тиндер» нас испортил?
— «Квартирный вопрос нас испортил» — это из той же серии. Я думаю, Tinder создает тревожность, с которой людям тяжело справляться. Tinder повлиял на сферу отношений так же, как Airbnb повлиял на рынок недвижимости. То есть он создал модель, в которой выгодно бегать на очень короткие дистанции, это приносит большую прибыль тем, у кого есть ресурс.
Tinder, как и Airbnb, создает интерфейс, в котором выгодно все время переключаться, все время искать что-то новое, а ресурс этот, во-первых, есть далеко не у всех. Даже если вы не участвуете в экономике Airbnb, даже не знаете, что это такое, вы вынуждены жить в мире, им созданном. То же самое происходит в сфере отношений. Не обязательно вам лично пользоваться «Тиндером», но если критическая масса людей уже участвует в этих практиках, имеет навыки быстрой сортировки «нравится — не нравится», жесткого поведения во время свиданий, если вы уже живете в этой социальной рамке, вам от нее никуда не деться.
Кроме того, Tinder обостряет социальные неравенства.

Алгоритмы работы создавали пары, где мужчина был выше по статусу
Французская журналистка Джудит Дюпортай провела расследование того, как работает «Тиндер». Оказалось, у приложения был свой алгоритм, который собирал огромное количество данных о вас по всем социальным сетям, в основном из фейсбука, на основании этих данных выставлял вам индекс, и сводил он вас на основании этого индекса. То есть вы думаете, что он показывает вам потенциальные матчи в радиусе трех километров? Ничего подобного, он показывает вам только те матчи, которые, как он считает, достойны вас по этому индексу. Но суть в том, что индекс этот для мужчин и женщин рассчитывался по-разному.
За высокий уровень образования, дохода и возраст Tinder снижал очки женщинам и повышал мужчинам, потому что целью алгоритма было создавать пары, где мужчина был бы выше по статусу.
Я думаю, в этом большая проблема. Мы не знаем, что эти технологии с нами делают, а алгоритмы эти сочиняют люди вполне определенного социального статуса, гендера, образования. Это узкая прослойка власть имущих, в основном мужчин, которые решают, как мы будем жить, а мы не подозреваем об этом. По крайней мере, благодаря работе Дюпортай «Тиндеру» пришлось сделать каминг-аут, сказать, что они этот алгоритм больше использовать не будут, но какой будет следующим, мы тоже не знаем. Принцип сортировки пользователей по категориям, принципиальный для таких аппов, никуда деться не может.
Брак с собой и уничтожение человека политического
— Что такое брак с собой? Вы участвовали в таком эксперименте, расскажите о нем.
— Эту практику осуществляют в основном женщины, для них очень важно показать всему миру, что их образ жизни легитимен. Это ироничное, постмодерновое использование общепринятой рамки брака, чтобы показать, что я тоже вообще-то человек и мне ваши разрешения не нужны. Я участвовала в эксперименте два с половиной года назад, была на тот момент уже давно замужем и матерью двоих детей, у меня не было социальной потребности, была исследовательская мотивация. И как социолога во всей этой истории меня беспокоит то, что зачем-то людям нужна рамка брака, чтобы сделать себя, пусть и в ироничном жанре, достойным членом этого общества.
То есть все равно модель брака — доминантная, единственная, которая может легитимировать тот или иной образ жизни. Брак с самим собой — это история про то, чтобы встроиться в рамку, навязываемую сверху. Я считаю, что по-настоящему революционным движением было бы не называть это браком, а жить, как хочется, без оглядки на институты.
Еще меня поразило то, что эти отношения с самой собой строились по модели классического американского дейтинга, а это по сути процесс совместного потребления услуг и продуктов. Ты водишь себя в ресторан, покупаешь себе подарки, ты должна свозить себя в медовый месяц, написать себе любовное письмо, написать для себя стихотворение. Ты как бы аутсорсишь саму себя на выполнение тех функций, которые в культуре должен играть, как правило, гетеросексуальный партнер.
И это мне показалось тоже очень печальным: любовь к себе конструируется через рамку не только буржуазного среднеклассового брака, но и буржуазного среднеклассового потребления.
— Какова цель всего этого? Женщина в 30-40 лет решает, что ей вообще никто не нужен?
— Брак с собой — это не целибат, ты можешь даже параллельно ходить на свидания с мужчинами, ты можешь потом встретить кого-то и выйти за этого человека замуж. Но цель брака с собой — показать, что главный человек, которого ты любишь, — это ты. С тобой все в порядке, ты верна именно себе, ты в первую очередь обеспечиваешь свой комфорт. Это, конечно, болезненная реакция на то самое общество, которое говорит, что испытывать одиночество неправильно.
Еще 20 лет назад мы сочувствовали Бриджит Джонс, а ведь сейчас ее поведение совсем по-другому воспринимается. Вместо того чтобы лежать на диване, пошла бы в спортзал, Бриджит, драгоценное время тратишь на эти страдания. Это нелегитимно. Хорошая, правильная Бриджит Джонс — та, которая водит себя на обеды в ресторан, покупает себе дорогие вещи и потом справляет свадьбу с самой собой в присутствии лучших подруг.

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»
— То есть самосвадьба тоже бывает?
— Да, это обязательный ритуал. Мой онлайн-курс с коучем из Калифорнии длился девять недель. За две недели до конца была помолвка, потом вместе с моей подругой, художником-перформанистом, мы придумали, какой будет моя самосвадьба. Мне очень хотелось включить в этот ритуал свою критику по отношению к этому всему, сделать его предельно анонимным и коллективным одновременно, вернуть переживанию любви социальность.
В Берлине около моего дома есть огромная площадка, каждые выходные там собираются люди и поют в караоке. Я выбрала джазовую песню «I need a man», специально, потому что хотела подчеркнуть важность привязанности к другому. Певица, которая ее писала, вероятно, имела в виду белого гетеросексуального мужчину, но я в нее вкладывала понятие, что мне нужен человек, нужен значимый другой, иначе я не выживу, я буду как роза из «Маленького принца». Публика не знала, что это моя самосвадьба, знали только подруга, муж, дети. Им было очень за меня стыдно, потому что я совсем не умею петь, меня освистали. Более того, на сцену влез какой-то алкаш и хотел со мной станцевать. Я подумала, что это очень хороший знак. Я звала другого, и вот он ко мне пришел, совсем другой, мы с ним танцевали и это было прекрасно.
— Как вам кажется, у этого всего могут быть негативные последствия?
— Наш коуч была в общем-то грамотной женщиной. Раз в неделю она присылала письмо с инструкцией, как правильно себя любить. Письма были интересные, вдумчивые, она цитировала и Данте, и Шекспира. Было много поводов для саморефлексии, это не плохо и не хорошо само по себе, это все инструменты, и ими можно пользоваться. Но в одном письме она взялась объяснить стоическую практику медитации. У стоиков вся эта практика на самом деле несла социально-политический смысл, для императора Марка Аврелия эти практики осознания краткосрочности жизни были связаны с тем, чтобы понять, что еще хорошего он может сделать для страны. А здесь эта практика апроприируется в целях гедонизма: что хорошего я еще должна успеть сделать для себя, как я себя должна успеть полюбить. Да, я могу пожертвовать деньги на благотворительность или обнять пожилого соседа, но потому, что от этого хорошо будет мне. Здесь нет никакого чувства социальной ответственности.
Тотальная психологизация ведет к уничтожению человека политического. Недавно я побывала на тренинге для терапевтов под названием «Лечение от любви», где практикующий психолог с большим опытом рассказывал, как можно вылечить человека от любовной боли. Психолог говорил, что идеализация бывает не только человека, но целых сообществ, и показал отрывок из российского фильма, где рабочие пытаются своими силами бороться с коррупцией, поэтому берут в заложники директора завода. Главный герой в конце произносит пламенный спич о том, что все кругом сволочи, общество устроено несправедливо, в общем, он такой Робин Гуд.
Психолог назвал его поведение болезненной идеализацией: герой идеализирует общество, оно ему что-то должно, он к нему привязан из-за каких-то детских травм, он все время ожидает, что кто-то ему что-то даст. То есть он создал образ человека, включенного в общественно-политическую жизнь, как личности ущербной, неспособной саму себя обеспечить в тех условиях, которые у нее есть, поэтому зачем-то вторгающейся в чужие границы.
Иными словами, если довести эту логику до гротеска, люди, которые в Москве на проспект Сахарова выходят — все больные, у них точно невроз, а иначе занимались бы своей жизнью. Понятно, каким удивительным образом эта риторика монтируется с тоталитарностью, с безудержным ростом капиталов в привилегированных сферах. Это далеко не безобидные вещи.
Одиночество — это стыдно
— Я слышала теорию, что одиночество как образ жизни навязывает нам капитализм, потому что одинокий человек больше потребляет. Вы с этим согласны?
— Не капитализм нам навязывает, а мы интернализуем эту модель, нам же надо как-то жить. Причем мы подводим под эти правила такую рациональную базу, которая наши действия не только оправдывает, но делает ценными для нас: мы живем одни, потому что не хотим, чтобы кто-то выносил нам мозг, мы ни от кого не хотим зависеть.
Для чего был нужен брак в прошлые времена? Чтобы хозяйство вести — кто-то должен лампочки закручивать, а кто-то готовить обед. То есть брак — совместное производство с четким разделением труда. Сейчас мы живем в эпоху, в которой разделение труда потеряло привязку к домохозяйству. Домашний обед можно три раза в день заказывать через приложение, можно пригласить мастера, который будет двигать тебе мебель, и тогда одному быть нормально, даже поудобнее.
Но если ты живешь в обществе, где еще не произошел аутсорс домашнего труда, например, в глухой деревне в Зауралье, приходится существовать традиционно и даже подводить под это рациональную базу — у нас вот духовные скрепы, не то что у вас в Москве.
— Складывается ощущение, что в современном мире стыдно признаться, что ты чувствуешь себя одиноким и главное — переживаешь из-за этого. Так вот, одиночество — это стыдно?
— Это стыдно, да. В английском языке есть как минимум два слова для состояния отсутствия перманентных отношений. Есть singlehood — это просто статус, и есть loneliness — чувство, которое вы по этому поводу испытываете. В обществе очень педалируются все прелести первого и поэтому нивелируется второе. Ну чего ты чувствуешь себя таким одиноким, ведь быть синглом так хорошо. У «Тиндера» целая рекламная кампания про это — single does what single wants. То есть сингл воплощает в себе идеальный тип личности, которая полностью управляет своей жизнью сама и ни в ком не нуждается. Поэтому испытывать по этому поводу негативные чувства социально недопустимо.
В русском языке нет альтернативы слову singlеhood, и мы, я думаю, еще не научились это описывать, но признаваться в том, что тебе одиноко, уже стыдно.
Это значит, что ты ущербный, ты не накопил еще такое количество ресурсов, чтобы самого себя и эмоционально, и экономически поддерживать. Ты как бы сигнализируешь миру, что в тебе есть какая-то пробоина.
— Но в том, чтобы чувствовать одиночество и скрывать это, есть некоторый конфликт. Разве эта мода на самосчастье не делает нас еще более несчастными?
— Конечно. В чем я вижу проблему поп-терапевтической культуры? В отличие от терапии как профессиональной практики, поп-психология предлагает одну рациональность, одну модель для всех — идеологию современности. И вот эта идеология делает боль нелегитимной. Вам говорят, что сама ваша потребность в другом нелегитимна, у вас как у взрослого человека ее быть не должно — вы должны были реализовать ее в детстве. Апологеты этого подхода любят повторять, что детям надо давать корни и крылья. То есть до определенного возраста вы им создаете основу привязанности, но это нужно именно затем, чтобы дальше они могли жить самостоятельно. Акцент делается на том, что человек во взрослом состоянии вообще-то должен быть сам по себе.
На тренинге лечения от любви, о котором я говорила выше, речь шла о методике EMDR, когда при помощи воздействия на зрительный канал восприятия удается практически свести на нет аффект, связанный с теми или иными воспоминаниями. Этот метод хорошо работает, он давно применяется для лечения посттравматического шока и широко используется с людьми, которые прошли Вьетнам, Афган, Чечню.
И вот, оказывается, такую тонкую манипуляцию с мозгом сегодня терапевты применяют и к людям, которые пережили развод, разрыв, находятся в абьюзивных отношениях. При этом цель такой терапии — стереть эмоциональную значимость хороших воспоминаний. Клиента раз за разом просят воспроизводить в памяти самые теплые и светлые моменты из несложившихся или приносящих страдания отношений и как бы выводят их из активной памяти. После нескольких сессий вы совершенно равнодушны ко всему хорошему, что успели пережить (а, как мы знаем из сериала «Большая маленькая ложь», даже с самым отъявленным негодяем можно успеть испытать минуты счастья) — но зато отлично помните все плохое. Это называется «работой с идеализацией».
Я была потрясена этим совершенно техническим подходом к человеку. Мне кажется, что терапия должна учить человека жить в ситуации амбивалентности: удерживать в голове две противоположные идеи и не быть ими парализованным, двигаться дальше с пониманием сложности мира. Я абсолютно не за то, чтобы люди оставались в отношениях, где им делают больно. Если вам систематически плохо, надо, необходимо уходить, но при помощи специальных техник вытравливать из себя хорошие воспоминания — это, на мой взгляд, не имеет никакого отношения к гуманистическому посылу терапевтической профессии. Потому что наша способность любить кого-то, даже если он сволочь последняя, — это и есть то, что делает нас людьми, это признак того, что мы еще несем в себе какую-то искру Божию, дар видеть в человеке что-то большее, чем, может быть, он сам в себе видит. Ну и кроме того: внедрение и широкое распространение таких методик делают из тех, кто испытывают страдания, неразумных лишенцев. Ну, чего ты страдаешь, тут такая методика есть, пойди полечись за 15 минут.
— Как вы относитесь к селф-хелп книгам и вообще всей этой теории, когда для счастья тебе нужен только ты?
— Я очень критично отношусь к этому жанру из-за его фронтальности и готовности перекраивать людей по общей схеме: 12 правил настоящих мужчин, 7 законов успешных людей и так далее. В этом плане жанр поп-психологии изначально нетерапевтичен — в нем отсутствует принцип коммуникации и непрерывной рефлексии. Есть отдельные очень хорошие книги, которые я всем рекомендую. Моя любимая — «Attached» про типы взрослых привязанностей и как с ними жить. Но на самом деле читать социологическую литературу в какой-то степени терапевтичнее, чем селф-хелп, потому что ты ставишь себя в некую рамку социальных отношений, понимаешь, где есть какие-то неравенства, почему от тебя требуется то или иное и перестаешь бесконечно возлагать ответственность за все, тобой переживаемое, на самого себя.
Мой любимый социолог Ева Иллуз написала прекрасную книгу «Why love hurts». Все хотят узнать ответ на этот вопрос, правда? Она описывает, почему в XXI веке, когда мы так зациклены на гедонизме, когда есть столько терапевтических практик, любовь все равно делает нам больно. В конце Иллуз пишет, что цель ее книги — дать людям право на их боль, понимание того, что их боль связана не с тем, что они какие-то ущербные, неумелые любовники, любящие, любимые, а что они вписаны в такую систему социальных отношений, в которых близость, интимность, эмпатия становятся все более сложными категориями, все более сложно их прожить и организовать. В этом плане, я считаю, такого рода исследования действительно освобождают людей.
Фото: Анна Экольд; unsplash.com






