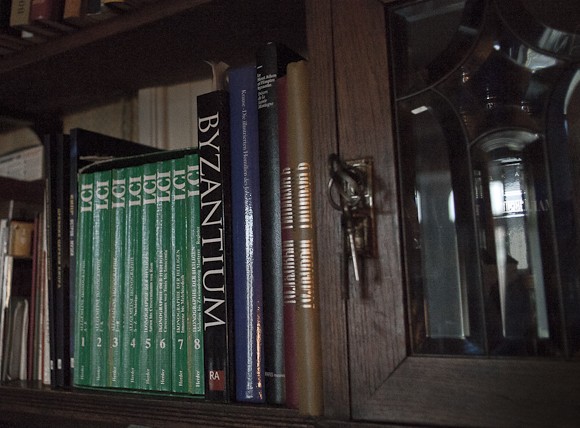Ольга Сигизмундовна Попова — доктор искусствоведения, профессор кафедры всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Один из крупнейших в мире специалистов по древнерусскому и византийскому искусству. В 1973 году защитила кандидатскую диссертацию «Искусство Новгорода и Москвы первой половины четырнадцатого века, его связи с Византией» и в 2004 году – докторскую диссертацию «Византийские и древнерусские миниатюры».
«Я помню детство как сплошную трудность»
Родители мои — поляки, отец вообще был эмигрантом из Польши, а мама — из поляков, которые издавна жили на территории нынешней Белоруссии, то есть, тогда Восточной Польши. Мой отец был журналист, а мама по образованию филолог, лингвист, она даже была ученицей Николая Яковлевича Марра, занималась сравнительным славянским языкознанием. Но ей не пришлось заниматься наукой. Марр преподавал и жил в Ленинграде, и мама тоже жила там.
В послереволюционные годы человек ничего не выбирал, ему приказывали. Так мою маму, сняв ее с аспирантуры, к сожалению, послали в какую-то очень глухую белорусскую деревню, населенную поляками. В Белоруссии тогда были целые гнезда польского населения, потому что это были пограничные области. И там была польская школа, на польском языке. В царской России этого ничего не было, а Ленин учредил сразу: гимназии упраздняли и создавали национальные школы для национальных меньшинств. Маму послали, конечно, возражения не принимались, — по комсомольской молодежной линии преподавать в эту школу. Она горько плакала, но пришлось поехать. И когда она оттуда вернулась в Ленинград, ее научно-исследовательское продвижение оборвалось.
Трудностей у людей не пролетарского происхождения было — бездна. И надо было какими-то способами их преодолевать. Например, учиться могли только дети рабочих и крестьян, а дети других классов, не говоря про дворян, конечно, не могли. Священников — не могли. Купечества — не могли. И в общем, старались скрывать свое происхождение. Это было замысловато. Мама дворянского происхождения, что она скрывала всю жизнь. Даже документы они все уничтожили.
Жили мы в Москве, я родилась в 1938 году в очень особенных и жестоких условиях. Мама была арестована как польская шпионка. Камера была набита, женская камера. И женщины делились на две части. Одни считали, что надо быстрее все подписать — всю ту ахинею, в которой всех обвиняют. А некоторые считали, что ни за что нельзя ничего подписывать. Мама была среди последних, что ее и спасло.
Подписывали… Ведь все хотели «убить Сталина». Террор на Сталина — это был общий пункт обвинения. А у мамы еще был пункт «польская шпионка», «шпионка Пилсудского». Это было ей так смешно. Смешно, несмотря на тюремные условия. Где этот Пилсудский, как она могла быть его шпионкой? И она следователю так и говорила: «Не говорите глупостей, ничего этого я не подпишу».
Мама не могла понять, почему ее выпустили из тюрьмы, пока в самиздате не появился «Архипелаг Гулаг», где Солженицын объяснил, что произошло. Ежова расстреляли, пришел к власти Берия и поначалу дал некоторое послабление, как они любили. И целый ряд людей, в целом небольшой по отношению к общей сидящей массе, выпустили, закрыв дела. Конечно, — тех, кто ни в чем не признался, а мама была из числа, поэтому она вышла. Со мной, маленькой, на руках: я родилась там.
Маму очень преследовали просто за то, что она польской национальности. Я помню детство как какую-то сплошную трудность, понимаете? У меня нет светлых и радостных воспоминаний о детстве.
Когда началась война, в 1941 году, мне было три года. До тех пор я ничего не помню. Война началась летом, мы жили на съемной даче. И я была в это время в гипсовой кроватке, потому что я упала с велосипеда, и меня заковали в гипс для того, чтобы выправились кости. Так что я была не ходячая.
Дача была в Малаховке, и я запомнила страшный грохот. Что то, видимо, разорвалось где-то недалеко, и все, кто жил на этой даче, оказались в погребе, как в бомбоубежище. Нас засыпало землей от взрыва, и нас отрывали, но никто не пострадал. Я помню ощущение отвратительного грохота и катастрофы, бедствия. Мои первые впечатления жизни начались со взрыва рядом.
Отец мой очень быстро погиб на войне, его не стало уже в 1941 году осенью. Он погиб под Ельней, где вся армия полегла. Это была ужасно безвыходная битва. Они были очень плохо вооружены, оставшиеся в живых отступали. Но трупов было больше, чем оставшихся в живых. Там полег и мой отец. Я потом очень долго думала, когда осознала это во взрослом состоянии. Ведь он может быть даже не похоронен, понимаете, — а кто, собственно, хоронил этих мертвецов? Может, он там валялся где-нибудь, вороны съели, а косточки под кустом? Потом такие косточки пионеры и комсомольцы разыскивали.
Мама осталась со мной, лежащей все еще в этой гипсовой кроватке, а я в ней пролежала три года, потому что диагноз поставили «костный туберкулез тазобедренного сустава». Была еще жива моя бабушка, которая умерла позже во время войны. Из Москвы, конечно, все кто мог, уезжал, потому что немцы были все ближе и ближе. А мама решила: ну нет сил, куда мы поедем? Никуда. И мы остались в Москве.
Был один день, когда Москва была абсолютно пустая, а немцы стояли уже в Филях. То есть, если бы они были поповоротливее и не такие организованные, какими они были, то они могли бы прорваться в Москву. Но этого, к счастью, не случилось. А вот на следующий день уже было очень большое сопротивление. Этот день в истории непонятен, это чудо.
Война трудна всем. Бабушка умерла, я осталась вдвоем с мамой. Она мыкалась, у нее в паспорте было написано «полька», и это закрывало ей дорогу к работам. И это было по жизни так, когда чуть лучше, когда совсем плохо. Переделать эту графу было абсолютно невозможно. В войну было очень тяжело. Мама была очень больная, у нее был туберкулез. Почему и мне такой диагноз поставили: у нее был активный туберкулез, а я ребенок. Но мама была наполнена энергией, несмотря на физическую скудость своего состояния, она была воительница, конечно. Очень умная, очень собранная такая. Она выживала — и выжила.
О шампиньонах на Патриарших, коммуналке в палаццо и пленных немцах
Потом я училась ходить. Мне было лет пять с небольшим. У меня были тоненькие атрофированные ножки, и сперва я все время падала. Но все-таки я ребенок, все это восполнилось, и началась уже моя детская, школьная жизнь.
Я пошла в школу в 1945 году: кончилась война, и 1 сентября мое поколение пошло в школы. Учиться мне нравилось. Школа была очень советская, и воспитание было очень советское. А я дома была воспитана совершенно не так, потому что мама моя не имела такой идеологии. Но я держала себя аккуратно, не болтала вслух о том, что я слышу дома.
Мы жили на Патриарших прудах, это мое любимое место на свете, не только в Москве. Это вот моя родина, «Патрики». Там прошла школа, прошел университет. Потом я уже университет окончила и пришла на работу в Ленинскую библиотеку в отдел рукописей. И все равно «Патрики» были родные.
Раньше, в те времена, во времена моего детства, дети гуляли. Это сейчас дети не гуляют, а ходят во всякие интеллектуальные или спортивные кружки. И все безумные родители беспрерывно возят их то в один, то в другой конец Москвы. Но тогда ничего подобного не было, мы были свободно растущие, диковатые девчонки и мальчишки и проводили очень даже хорошо время на Патриарших прудах. Зимой там был каток, а летом лодки. Я сейчас туда как-то съездила: ни травинки нет, все вылизано. Там были густые травы, в которых мы искали грибы. Грибы росли, шампиньоны во множестве, мы приносили их домой.
Я помню из этих игр на «Патрях», например, такую картину. В Москве было много военнопленных немцев, и они в 45-м году строили на Патриарших «генеральский дом». Он сейчас стоит, красивый такой, в старинном стиле — с колоннами, со львами. Мы все видим этих немцев, а они нас — детей. И они нас подзывают как-то и просят хлеба. Они по-русски выучили: «хлеба». И я бегу домой и говорю: «Мама, опять немцы просят хлеба. Дай хлебушка». Мама всегда давала. И не только я, другие тоже приносили им такие подачки. Это же немыслимо! У всех кто-то на войне погиб, у меня папа погиб, — а мама давала кусок хлеба немцам.
Вообще, русские, конечно, очень быстро все прощают и забывают, это характерно для славянского племени. Мы долго не застаиваемся на обидах — это факт. К немцам относились уже не как к врагам, которых надо убивать, а как к несчастным, которые в беде и здесь голодные. Сейчас современной психологии это абсолютно не свойственно.
Мы жили в доме в Ермолаевском переулке: Ермолаевский, дом 17. Это очень красивый дом, построенный в начале века, в 1908 году, одним из учеников школы Жолтовского. Он в стиле Жолтовского — с полуколоннами, «колоссальный ордер» так называемый. Рустованный камень облицовывает фасад в стиле итальянского палаццо. Там выгравировано на доме «Московское архитектурное общество», потому что архитекторы его строили для себя. Второй этаж занимает огромный зал во весь фасад дома. Зал, где во времена, когда дом был построен, устраивались выставки. А выше были квартиры, которые все стали коммунальными. Никаких отдельных квартир ни у кого из наших знакомых не было.
Там была квартира, доставшаяся от моего отца: три большие комнаты, и в них три большие семьи, только наша была маленькая — мы вдвоем с мамой. У меня воспоминания не о квартире, а о доме. Все друг друга знали и все как-то очень по-человечески друг к другу относились. Мама должна была меня оставлять, потому что она шла на работу. И оставляла она меня не одну и даже не на квартиру, а на дом.
Я свободно ходила всюду по лестницам. У меня всегда был большой бант на голове почему то, так маме нравилось. И во всех квартирах меня все знали, все привечали, я стучала к кому-нибудь, и меня везде очень любвеобильно принимали. И покормят, и что-то дадут, что-то хорошее расскажут. Некоторые квартиры я даже очень хорошо помню. У нас были «недорезанные князья» — князья Меньшиковы, графини Измайловы. Что значит «графини Измайловы?» Два Божиих одуванчика. Но они были Божии одуванчики из другого царства.
В доме была очень очеловеченная атмосфера. Я неверно скажу, если скажу, что это атмосфера взаимопомощи — каждый жил своей отдельной жизнью. Но все-таки некая общность была. Конечно, я немножко сейчас идеализирую, потому что были люди, которых все боялись, и я даже одного такого помню очень хорошо. Он жил в квартире через лесенку. Его все боялись, потому что знали, что он стучит. Он часто приходил к нам в квартиру, просился позвонить по телефону, потому что у нас был телефон, а у него нет. И как-то все очень ежились. Так что мир был черно-белый. Потом все стало смешано. Я не могу сказать, плохо это или хорошо, я не оценочно говорю, а просто констатирую факт, что атмосфера была такая.
О художниках на Масловке
В школе я была гуманитарной девочкой, это было довольно ясно. Математик у меня была подруга, я при ней как бы существовала. Я много читала, начиная с шестого класса. До шестого класса я бегала, и в голове был один ветер. А вот при переходе из пятого в шестой класс произошел явный перелом. Я вдруг перестала бегать, гулять и стала читать книжки. И за лето прочла основной корпус великой русской литературы девятнадцатого века. Повзрослела сразу, поумнела сразу. Упоена была совершенно всем этим.
И еще одно случилось в моей ранней жизни. В ранних классах, когда я была еще глупа, мама почему-то подарила мне томик «Истории искусства» Александра Николаевича Бенуа. Этот томик она купила где-то в букинистическом, потому что никаких своих хороших старых книг она не сохранила, все у нас отобрали. Но томик Бенуа ко мне попал. Это был том, в котором был кусок позднего итальянского Ренессанса и потом германская живопись Средневековья и Нового Времени. Я уткнулась и стала читать.
И это какой-то фокус в моей биографии. Я же ничего не понимала. Имена были такие, которых я сроду не слышала. Но я была загипнотизирована, оторваться не могла от этих картинок. Я считаю, что я тогда стала искусствоведом. Это был такой мощный толчок к истории искусства.
И еще тогда маме помогли найти работу, это было очень трудно. Ее взяли работать в Библиотеку художников. Сейчас ее уже нет, это особая судьба, очень печальная, я оплакиваю эту библиотеку. Она находилась на Масловке, где был городок художников, в верхнем этаже дома № 15. Это была библиотека по искусству, в основе ее, как я думала долго, была библиотека Стасова. Сейчас я проверила, это не так, Стасов все-таки жил в Петербурге, были какие-то другие истоки. Но библиотека была очень хорошая, со старыми книгами девятнадцатого века по искусству.
Мама работала во вторую смену, и я после школы отправлялась с ней на Масловку в эту библиотеку. В моей жизни, конечно, это было большим событием, я обожала ходить туда. Там стояла большая голова Давида Микеланджело. И это был дом, где художники жили или имели мастерские, и они, конечно, все шли в библиотеку. Там было что-то вроде клуба: там рисовали, писали, разговаривали. Это было очень необычно в советские годы. Голову Давида все рисовали. Еще там стоял настоящий скелет и скрипел костями, особенно когда весной открывали окна, я его побаивалась.
Мне разрешали ходить всюду, и я ходила между шкафами и смотрела книги, какие хотела. Там я листала старые альбомы девятнадцатого века, они были напечатаны сепией, не черно-белым, на отдельных картонах и укладывались в большие папки. Там были все мадонны Рафаэля, были папки с Дюрером, индийские альбомы, там были книги, про которые я даже не знала, что такое бывает на свете. Оттуда, конечно, началось мое движение в сторону искусства.
А взрослым — двум женщинам, работавшим там, одна из которых моя мама, и художникам, которые приходили, чтобы рисовать, писать, — конечно, всем ужасно нравилось, что ребенок с бантом ходит и разглядывает большие альбомы. Я не могла сама вытащить нужную мне книгу, я просила: «Дяденька, — говорила я, — дайте мне эту книгу», — и мне вытаскивали на стол. Я думаю, что это моя профессиональная искусствоведческая закваска.
Иногда мама мне что-нибудь рассказывала. Вообще, у меня импульс в сторону искусства был от мамы, хотя она не искусствовед, она была филологом. Но тем не менее, так как она попала в такую библиотеку, она историю искусств довольно хорошо знала. Она рассказала мне про художника Учелло и показала у него битвы, у него много сцен с битвами, и там копья такие наверх торчат, очень эффектно. Она рассказала мне про скульптора Донателло. И я до сих пор помню эти рассказы. Почему-то не про Рафаэля, не про Микеланджело… А может, я запомнила Учелло и Донателло из-за необыкновенности сюжетов и ее рассказов.
Что-то меня питало дополнительно, школа была вторична, а первична была мамина работа, книжки. Я прежде в искусство вовлеклась, а великую русскую литературу я начала читать, когда мне было между двенадцатью и тринадцатью годами. И это сильно на ребенка действует, начало чтения. Просто другая жизнь начинается.
О настоящем университете
Школа прокатилась, я всегда думала, «хоть бы она быстрее кончилась». Я очень увлекалась камнями, геологией, даже в геологический кружок в МГУ ездила в девятом классе, решила стать геологом. А искусство я очень любила, но не было понимания, что это может быть профессией. А потом я поняла, что камни я люблю за их красоту, за внешний вид, а все это изучать — мне показалось, что это ни к чему. И я выбрала искусствоведческое отделение МГУ.
Оно было очень маленьким. Это сейчас очень много народу принимают, и поступить не так трудно, а тогда было трудно просто потому, что оно было очень камерным. Я не сразу поступила в первый год, но меня взяли все-таки на вечернее отделение, слава Богу, а потом я перешла на дневное. Нас было пятнадцать человек. А сейчас сорок принимают. Но я все-таки там оказалась. И дальше было счастье учебы.
Учились мы на улице Герцена. Дом 5 и дом 6 — это был истфак. Я училась на историческом факультете, наша кафедра входила в исторический факультет. В Европе обычно кафедры истории искусств входят в философский факультет, а у нас исстари на историческом факультете. И вот в этом здании, очень нами любимом, мы и провели пять наших лет. И в аспирантуре я там была, а потом я там работала.
А потом нас выгнали оттуда, переселили в это здание на проспект Вернадского, в котором мы пробыли всю жизнь мою, кроме последних пяти лет, когда мы переехали в новое здание гуманитарных факультетов на Ломоносовский проспект. Эти здания мы все не любим, старое поколение — будь это Вернадского или Ломоносова. Казармы и есть казармы. А на Герцена было тесно, но очень уютно.
У нас были очень сильные профессора. Преподавательский состав был такого уровня, которого сейчас нет. Все они были люди, рожденные либо в конце девятнадцатого, либо в начале двадцатого века, европейски образованные люди из интеллигентного сословия. Это был другой уровень, мне очень повезло, что я застала такой университет. Сейчас университет даже физиогномически выглядит иначе. Так что само обучение очень нравилось, и оно было очень качественным. Оно было мировоззренчески более широкое и крупное, чем то, что сейчас предлагает университет, потому что таковы были люди — с иным кругозором, знающие. Все знали Европу, европейское искусство.
Конечно, среди профессоров были и более коммунистически ориентированные, более советски, скажем, ориентированные. Истфак, исторический факультет, был весьма разнообразным: там были старые профессора, но большинство были, конечно, новые советские люди, это же идеологический факультет. Но наша кафедра жила очень особенной, своей жизнью. Мой муж, Юрий Николаевич Попов, учился в это же время на филологическом факультете, там не было ничего подобного. Не было ни таких профессоров, ни такой атмосферы на кафедре. Мы, история искусств, были явно каким-то аппендиксом. Это долго держалось, все они состарились.
Мой учитель — Виктор Никитич Лазарев. Он был очень крупный ученый, всемирно известный специалист по византийскому искусству и итальянскому Ренессансу. Византийское искусство, надо сказать, он не преподавал, никогда не читал такой курс. Он читал нам курс Ренессанса — раннего и высокого — это было его дело. Он обладал теми же качествами, что все они, то есть очень широким кругозором и высокой культурной наполненностью. Еще он обладал большой корректностью по отношению к образу, к искусству, к памятнику, чему и нас учил. Такими были не все, некоторые от эмоциональности захлебывались и позволяли себе множество вольностей. У Виктора Никитича этого никогда не было, он был собранный, сдержанный человек.
Еще я очень любила тогда профессора, который преподавал нам античность, Юрия Дмитриевича Колпинского. Он был натурой сложной, работал одновременно в Академии художеств, в совсем другой среде, так что он так немножко идеологически продавался, за что другие, такие как Лазарев, его, конечно, не любили и презирали. Но он был очень талантлив. Он так читал лекции! Я подобных лекций никогда больше вообще в жизни своей не слышала. Древнюю Грецию я, благодаря ему, знала и запомнила на всю жизнь. Когда я первый раз в жизни, а это было в моей жизни очень поздно, попала в Грецию, я поняла, что я помню лекции Колпинского. Он создавал образы искусства, равные этому искусству. Это большой редкий дар.
Потом кафедра разделилась на две — зарубежного искусства и русского искусства. Но тогда все было единым, и во главе всего стоял профессор Алексей Александрович Федоров-Давыдов, тоже блистательный лектор.
Это же было такое время, когда люди очень боялись, сейчас из молодежи никто этого не понимает. Поэтому человек часто не развертывался в величину своих данных, по своим возможностям. Люди были скованы, боялись лишнее слово сказать, боялись тех, кто рядом. Вообще атмосфера страха и забитости была необыкновенно сильна, что там говорить. И Колпинский, он тоже из этих людей, которые просто боялись. А так как большая часть была «так себе происхождения» с точки зрения советской власти, то было много оснований для такого испуга.
Вот Федоров-Давыдов — очень яркий человек, при всей моей нелюбви к нему. Я не любила его, хотя должна признать, что он был одарен необычайно и читал лекции по русскому искусству восемнадцатого века, а потом девятнадцатого века так, что я не хотела ни одну пропустить. И если заболевала чем-нибудь, например, гриппом, я очень горевала. Я вообще всегда горевала, если не могла пойти в университет и послушать какие-то лекции. Мы любили университет, это характерно для нас всех, кто учился тогда, он был для нас, как дом родной. Мы любили своих профессоров, лекции. Очень все любили искусство.
Мы жили в те годы, и это важно, в атмосфере влюбленности в искусство, чего я совершенно не вижу сегодня среди своих студентов. Не то что они его не любят — конечно, все, кто пришел учиться, к нему как-то припали. Но у них такое функциональное, деловое отношение. Они получают профессию, дальше они будут ее использовать. Я не могу сказать, что это плохо, но это совершенно другое. А мы были, конечно, романтиками. Мы очень романтично относились к искусству, к лекциям.
Вот, например, четвертый курс. На четвертом курсе все всегда выбирают себе тему диплома, и в конце четвертого курса общее собрание курса, сидят все преподаватели, все студенты. Уже, конечно, все договорились с какими-то преподавателями о своих темах и специализации. Моя очередь подходит, я договорилась с Виктором Никитичем Лазаревым, что я поступаю к нему в ученики, и моя тема будет — фрески двенадцатого века в церкви святого Георгия в Старой Ладоге. Я произношу это все, и Федоров-Давыдов записывает. Молча, ничего не говоря, никак не комментирует. А Виктор Никитич, надо сказать, побаивался реакции. Византийских тем тогда вообще не существовало, а древнерусское было просто нехорошо. Но то, что произошло, превзошло наши ожидания.
Переменка, мы выходим все, высыпаем, как горох, в коридор. Выходит Федоров-Давыдов, подходит сразу целенаправленно ко мне. Я никогда не забуду, у меня был такой большой белый пикейный воротник на платье. Он берет меня за воротник так немножечко, желая показать, что он меня трясет, и говорит громко, все слышат, публично говорит: «Вы что же думаете, я не понимаю, почему вы берете такую тему? Это для вас форма отказа от советской идеологии!»
Мне стало страшно, потому что если кто-то донесет дальше об этом, это чревато тем, что никакой диплом мне не дадут писать, а просто выгонят. Это была весна 1959-го года. Обошлось, но конечно, все были очень впечатлены. Такие сценки время от времени происходили. Сам он, конечно, думал так же, как мы все. «Хоть бы это все провалилось», — наверное, думал Федоров-Давыдов. Но надо было быть начальником.
Сейчас молодые люди, конечно, не понимают, как мы жили. Была очень специфическая атмосфера. Никто никуда не ездил, все изучали по картинкам, по преимуществу — черно-белым. Был такой здоровый фонарь, он назывался «верблюд», мальчики его носили в аудиторию. И большие квадратные стеклянные слайды, часть из них была побита, имела трещины. Они были широкие, вставлялись в большую раму, конструкция ездила и показывала на экран. Никакого цвета не было в помине. Цветных книг было тогда очень мало, и они были, конечно, с точки зрения сегодняшней полиграфии, плохие. Мы привыкли, воспринимали черно-белый цвет как некую условность. Цвета описывались преподавателем словами.
Цветной фотоаппаратуры и цветных слайдов тогда, я думаю, нигде не было, и в Европе, и у нас. Но там люди везде путешествовали. А мы же никуда не ездили. У кафедры истории искусства всегда есть летом практики. Наши практики — это Новгород и Псков, Владимир и Суздаль. Ленинград. Потом нас даже, наш курс, например, свозили летом на Кавказ, в Грузию и Армению, это был подарок судьбы. Конечно, в Европу просто никого не пускали. Поэтому знаний о реальном искусстве у нас было мало, а фантазий много.
О романтике поколения
Музеи западные, Лувр — это была Луна. Одинаково недоступны. Но знаете, удивительная вещь: любили-то мы искусство гораздо больше, чем сегодня молодые люди, которым доступно все. Сегодня прекрасные съемки, у всех самые дорогие цифровые фотоаппараты, все всё снимают в поездках, все музеи мира. Они все ездят.
Предположим, я читаю второму курсу курс византийского искусства. Ко мне подходит группа маленькая, говорят: «Ольга Сигизмундовна, мы хотим сказать, что мы сейчас, субботу, воскресенье и плюс понедельник, — они прихватывают понедельник, потому что это был какой-то День народного единства, — говорят, мы поедем в Афины». А другой мальчик пришел ко мне тоже и говорит: «Знаете, я поеду в Париж. Если вы разрешите, я там задержусь. У меня там друзья очень хорошие, конечно, надо на три дня, но я недельку-то пробуду». Я говорю: «Да конечно езжайте, что вы, о чем говорить». Ну пропустит он лекции, но в Париж попадет…
Вообще, знаете, я давно поняла, что качество жизни, преуспеяние человека, карьера, как теперь все говорят, или даже полнота здоровья совсем не обязательно способствуют интеллектуальному развитию, другой стороне бытия, нематериальной. Мне трудно выразить и не хочется искать слова для этой «другой стороны бытия». Конечно, я вовсе не хочу всеобщей беды и нищеты, совсем нет. Я хочу, как всякий нормальный человек, всеобщего благополучия. Но бездна удовольствий разного рода, в том числе и поездок, не повышает внутреннюю заинтересованность и не обостряет духовный строй.
И наше поколение — яркий тому пример. Мое поколение уходит, уже очень многих похоронили. Мы были все бедные, все бесправные совершенно. Нас никуда не пускали, все с трудом добывали информацию. Сейчас нажми кнопки в компьютере, и выплывет уйма информации. Этого же не было, информацию нужно было искать. И мы были при этом в каком-то смысле, — я боюсь качественных оценок, чтобы не было так, что я хвалю себя и свое поколение, это не так, — но конечно, в чем то, душевно, скажем, и даже духовно, — немножко боюсь этого слова, потому что оно уж очень много в себя включает, — выше. Понимаете, выше, чем возможности современности.
Мое уходящее поколение было очень настоящим, очень романтичным, очень светлым в основе. Хотя жизнь была, конечно, трудная.
Оттепель
Когда началась «оттепель», в университете немножко все заволновалось. У нас были хорошие учителя, поэтому нам протестовать против наших учителей не было смысла. Свежесть была в разговорах. Разговоры стали открытыми и многочисленными, многосоставными. Разговаривали не только друг с другом тихонечко в тихой комнате, но как-то даже группками и в университете. Хотя все-таки побаивались, потому что стукачи были всюду, и это все понимали.
Мою маму, кстати, из библиотеки уволили в 1949-м году, когда была кампания борьбы с космополитизмом, и конечно, она отправилась бы в лагерь как космополит. Но ее быстро уволили, желая ей, чтобы она не была на виду. Она некоторое время вообще была без работы, а потом нашла место в Доме художника на Кузнецком мосту. Там открывались выставки, составлялись каталоги этих выставок, и она этим занималась. И когда началась оттепель и все стали немножко бузить, художники через маму передавали нам, студентам, чтобы мы боролись.
С кем боролись, было неясно — с засильем сталинизма в искусствоведении. Была такая страшная фигура — президент Академии художеств и директор Института истории искусств Академии художеств Кеменов. Но это был не университет, к нам он не имел отношения. Алпатов был как бы гонимый, поэтому надо было быть за него. Но тем самым нам, молодежи, старшее поколение передавало привет, поддержку и симпатию, надежду, что молодое поколение, немножечко оживит жизнь. Ничего мы не могли оживить, конечно. Но «оттепель» была.
Был потрясающий день в жизни, который я помню, — чтение письма Хрущева двадцатому съезду партии. Вот это было, конечно, на уровне шока. Читали всем: в разных организациях, на разных факультетах. Был приказ от Хрущева, чтобы все ознакомились. И нас всех на истфаке поместили в большой-большой зал, чтение занимало несколько часов. А с нами в группе училась дочка Поскребышева, личного секретаря Сталина, который был в этом письме Хрущевым очень обруган и смешан с помоями, что, конечно, правильно. Наташка Поскребышева была глуповатая, но хорошая девчонка, училась в нашей группе. Мы ее даже жалели, но что делать, имя Поскребышева прозвучало.
А вот когда это письмо читали в Доме художника, а там описаны ужасные страсти, ужасные факты, моей маме стало плохо, она потеряла сознание. И прервали чтение письма, привели ее в чувство и только тогда продолжали. Ей было плохо, потому что были у нее для этого были причины.
Вот так жили мы в советскую эпоху. Выжили. Смотрите, страна вся выжила. Выжила, несмотря на такое чудовищное испытание в виде советской власти, которое российскому племени было дано.
Эмиграция из Руси в Византию
Нас всех распределяли, нельзя было пойти работать, куда хочешь. И меня распределили — это было очень высокое назначение — водить экскурсии в музей Пушкина. И мне очень не понравилось. Я ушла оттуда, изобразила, что у меня горло больное, какую-то справку медицинскую добыла, и ушла. Не потому что музей плохой, он очень хороший, а потому что меня влек другой мир, древнерусский. И я стала искать работу и, к счастью, нашла ее неожиданно, и очень неординарную. Я пошла работать в отдел рукописей Ленинской библиотеки. О таком месте я узнала совершенно случайно от соседа по дому, который имел моего будущего начальника в друзьях.
Я пришла в дом Пашкова и была совершенно заворожена. Кругом на полках стояли и лежали стопками большущие манускрипты. Чувствовалось, что там есть атмосфера какой-то особой жизни, что было совершенно нестандартно для советской Москвы. Меня определили в «древнюю» группу, где было два филолога, историк, палеограф, лингвист и я в качестве искусствоведа. Я была девочка с косой сразу после университета, а все были очень ученые люди. Я ничего не знала, никаких рукописей сроду просто не видела. Мне трудно было пройти через отдел кадров, чуть не зарубили из-за польской национальности. Расспрашивали долго, где у меня родственники в Польше, чтобы я созналась. Так и говорили: «сознайтесь». Но все-таки взяли.
В Ленинской библиотеке я проработала пять лет. Это было счастье. Я там массу всего узнала, и до сих пор рукописи — моя любовь. Я очень многому там научилась, не только искусствоведению. Ну, а Византия выплыла из этого потом. Там почти не было греческих рукописей.
Я хотела поступить в аспирантуру, но это было невозможно. Я пришла к этому самому убойному Федорову-Давыдову и сказала, что я бы очень хотела по древнерусской теме в аспирантуру, Виктор Никитич Лазарев согласен. Он посмотрел на меня и говорит: «Ну вы же понимаете, ваша тематика совершенно не актуальна. Древнерусское искусство в аспирантуре мы не можем». Отказ. А потом произошло для меня замечательное событие: Виктор Никитич, который уже больше не мог терпеть этого Федорова-Давыдова и эту общую кафедру, а он был в очень хороших отношениях с ректором, — устроил разделение на две кафедры. И стала кафедра зарубежного искусства, а во главе ее был уже мой Лазарев, и я пришла в аспирантуру в 1965-м году, через пять лет после окончания университета.
Я к тому времени уже сориентировалась: не чисто Русь или Византия, а связи русского искусства с византийским. Это меня действительно интересовало, я очень много работ на эту тему написала. Но чтобы оказаться в аспирантуре, я должна была уйти из отдела рукописей Ленинской библиотеки. Это был очень сложный момент, меня там осудили как предателя. Совершенно серьезно, коллектив осудил. Мой начальник, Илья Михайлович Кудрявцев, человек очень грозный, с клюшкой, говорил: «Матросы не покидают корабль». А я был тот «матрос», который предал корабль для того, чтобы пересесть в другой, более для меня удобный. Кудрявцев стучал кулаком и клюшкой, но я все-таки ушла.
А потом Виктор Никитич, который вообще очень много для меня сделал, создал курс византийского искусства. Раньше Византия была в виде нескольких лекций, которые читал член-референт ЦК партии Полевой. А Виктор Никитич создал большой семестровый курс византийского искусства и оставил меня в университете этот курс читать. И это повернуло меня, мой корабль, мой парус из Древней Руси в сторону центра, в сторону Византии. Я в некотором роде эмигрировала из Древней Руси в Константинополь. И очень этим довольна. Я сама византийская по натуре, я центральная, я люблю столичное византийское искусство в его самых высоких вариантах.
Потом было время, когда Виктор Никитич мне еще подсунул еще одно большое дело. Моя коллега и подруга по кафедре Ксения Михайловна Муратова читала параллельно со мной курс западного средневековья. В начале семидесятых годов она из Москвы смылась на Запад: вышла замуж за итальянца и уехала навсегда, сейчас она живет в Париже. А курс искусства средних веков остался сиротским. И Виктор Никитич предложил мне его читать.
Я западное средневековье всегда очень любила, но я не была специалистом, у меня не было нужной подготовленности. Я взяла этот курс и читала и Византию, и Средние века очень долго параллельно. Для средневековья я год занималась только этим, прочла бездну книг по средневековью, подготовилась. Это тоже страница моей биографии очень важная. Поэтому я оказалась в редком положении. Такого нигде нет, надо сказать, на свете, это не принято. В университетах специалист либо по средневековой Европе, либо по Византии, это редко соединяется. Был еще один грек, он сейчас умер, который читал в Канаде, а потом в Греции оба курса. А вообще это не принято.
Я византинист до мозга костей по своей изначальной преданности Византии, но и Запад я очень люблю. Я не из тех, кто говорит, что истина только в Православии. Для меня два христианских мира — православие и католичество — существуют на равных, и только вместе они дают полноту. Потом, с возрастом, это все уже стало большой перегрузкой. И я отдала курс западного средневековья молодому человеку. Он теперь медиевист, а я византинист.
О КГБ и национальном искусстве
Я не проповедник, а ученый, поэтому такого активного проповеднического начала не было. Но я никогда не искала эзопов язык. Раньше очень много чужого народу ходило на лекции послушать. Такая сенсация в Москве была: большой византийский курс. И один из присутствующих как-то мне сказал: «Вы знаете, Ольга Сигизмундовна, я должен вам сказать, тут сидит человек, который штатный сотрудник КГБ». Он мне показал этого человека. Он ходил регулярно на все лекции, этот сотрудник КГБ.
И я подумала: ну и что, пусть сидит. Немножко, конечно, меня покоробило. Я дома рассказала маме, она говорит: «Прекрасно. Пусть сидят, пишут. Ты же, надеюсь, там не призываешь к чему-нибудь? К вооруженному восстанию против советской власти?» Я говорю: «Нет». Она говорит: «Все в порядке. Пусть слушают, почему нет?» Ну вот он ходил, может, ему интересно было, я не знаю.
Я не считаю, что при советской власти в византийских лекциях и проповедях была опасность, нет. И власти тоже так не считали. Это какая-то дремучая старина. Древнерусское даже немножко хуже, потому что это национальная почва. Например, тоже был такой сюжет. Я ведь сначала читала Византию и Древнюю Русь, потом я оставила древнерусское искусство. И на эти лекции ходили люди из музея Рублева.
Через некоторое время мне говорит Виктор Никитич: «Знаете, Оля, будьте осторожны, потому что мне уже доложил Полевой, — это референт ЦК, — что вы древнерусское искусство подаете как зависящее от Византии». Я говорю: «Виктор Никитич, но ведь так же и есть на самом деле». Он говорит: «Конечно, но так нельзя говорить. Надо подчеркивать, что это все особое, национальное». Я говорю: «Откуда вы это знаете, и откуда Полевой это знает?»- «А ему, — говорит, — сказали в музее Рублева те, кто слышали ваши лекции».
Интерпретация была очень злобная. Тогда все понимали, что это все опасно, так что люди, которые в таком свете все это представили, конечно, понимали, что они ставят меня под угрозу. И потом Виктор Никитич по телефону позвонил деятельнице из музея Рублева и сказал ей крепко как следует.
О Церкви
Я вообще считаю, что жизнь — подарок. Подарок, который нам всем почему-то дан. Жить очень интересно. И, в общем, прекрасно, если не тюрьма. Вот тюрьма, конечно, все переворачивает.
В школе и студенткой я была неверующим человеком. Мама была католичка по происхождению, и вначале, когда она в Москве поселилась, пошла в костел. Тем более, бабушка была жива, а бабушка, конечно, была очень верующей. Ее очень быстро вызвали в КГБ и спросили, какой западной державы она агент.
В костел приходили кто? Всякие иностранцы. Ну, русские отчасти, там сидели старые обрусевшие польские бабушки, такие, как моя бабушка, например. А чего пришла молодая женщина в костел? Значит, она агент, чей-то агент. Она отделалась, но больше не ходила в костел, конечно, никогда, это произвело очень сильное впечатление. Тем более что у нее было такое прошлое ущербное. Бабушку мою вообще в тюрьму сажали в каком-то 1938 году за, как они выразились, религиозную пропаганду. Никакой пропаганды она, конечно, не вела, а просто у нее дома нашли много польских и латинских церковных книг — этого было достаточно.
В Бога мама, пожалуй, верила, потому что если какая-то беда, заболевала я, например, — она начинала быстро-быстро читать польские молитвы, прося Боженьку о выздоровлении. Но в целом она была совершенно не церковный человек, так же, как мой учитель Виктор Никитич Лазарев. В отделе рукописей были церковные книги, меня окружали письменные предметы, связанные с церковной традицией. Правда, народ был неверующий, вот эта вся моя «древняя группа», и даже активно неверующий начальник — Юрий Михайлович Кудрявцев. Его отец был священником в Филях, поэтому церковь он ненавидел, что бывает с детьми священников.
Но я помню, как первый раз со мной произошло нечто. Я была в Ленинграде, тогдашнем Ленинграде в командировке от отдела рукописей. Там у меня был свой круг знакомых, и мы поехали в выходной день на могилу Ахматовой. А перед этим заехали в Парголово, ленинградцы хотели мне показать тот ресторанчик на берегу огромного озера, где Блок написал «Незнакомку». И вот в Парголово была небольшая церковь, — я не знаю, сохранилась она сейчас или нет, где шла служба. Это, очевидно, 1962 или 1963 год.
Мы зашли, и в этой церкви была публика, человек пять, все они были люди верующие, а я нет. Я не знаю, что случилось, я этого не понимаю. Но на меня нашло какое-то особое светлое чувство-то, что называется озарением. Я стояла в этой церкви, ничего особенного вроде не происходило, обычная служба. Но я почувствовала прилив необыкновенных светлых сил и какого-то духовного восторга, я прямо летела. И очень плакала, слезы лились сами — не от горя, а от радости. И я потом поняла, что это было религиозное чувство, принятие мира, которого я не знала. Оно произошло для меня таким путем, в виде необыкновенной мгновенной озаренности.
Похожее чувство и похожие слезы я испытала потом еще один раз в Москве, в церкви Всех Скорбящих Радости, около метро Новокузнецкая, там тоже на одной из служб на меня такое нашло. Я не придала этому значения, но что-то в душе моей изменилось. Раньше я даже школьницей бегала в церковь, чтобы поставить Боженьке свечку, весной особенно, когда у мамы были обострения туберкулеза. И я тогда бежала в храм и ставила свечки, вполне по-детски. А тут я поняла что-то такое и стала в церковь ходить иногда. Всегда ходила на Пасху.
Мой муж Юрий Николаевич был человек верующий с детства, но он ничего никак мне не навязывал. Потом мы стали вместе ходить. Дальше больше, потом мы встретили священника, с которым мы очень дружили, отца Николая Ведерникова. Сейчас он жив, но очень стар уже.
Я же не была крещена, вот какая штука. А как меня крестить? Семья католическая, но мы живем в православной стране. Мама не хотела, и кроме того, как крестить? Понести в церковь ребенка или привести девочку, — это было очень опасно, все этого старались избежать. Тем более, она с ее таким прошлым. И я крестилась дома, мне помогли мои друзья в этом. Меня крестили мои друзья Буевские в 1971-м или 1972-м году.
Уже мы с Юрием Николаевичем крестили Аверинцевых у отца Николая Ведерникова, с которым были очень дружны. Вот такая была история вхождения в церковь.
Я не верю, что на истфаке не было сведений о том, что я хожу в церковь. Стучали же кругом все на всех. Но в общем, я тихо вела себя, я же не митинговала про это.
Я не была никогда атеистически настроена. Поэтому мои лекции и то, что я писала, всегда содержали в себе элемент большой признательности, преданности к этому миру.
Но очень сильная вспышка религиозного чувства, которая действительно повлияла на все то, что я пишу, и все то, что я говорю, произошла в девяностые годы. Потому что в 1990-м году умер мой сын. И я стала очень религиозно-церковной. И словесно тоже.
Все окружающие меня коллеги понимали, что со мной произошло что то, связанное с событием в моей личной жизни. Но все смотрели благосклонно, потому что понятны были истоки. И сочинения мои приобрели особый оттенок. Ну скажем, была статья про Сергия Радонежского и иконы его круга, конечно, очень церковная, излишне церковная. Я потом ее перепечатывала в сборнике статей, убрала некоторую словесность, которая казалась мне уже излишней. Но это был такой порыв души под влиянием событий жизни. Я искала в этом выход и спасение.
О первой встрече с Парфеноном
Я вам расскажу немножко курьезный реальный случай. Это была не первая моя поездка за границу, но первый раз в Грецию. Мы поехали большой русской командой на конференцию на острове Крит, критские деятели устроили там большущую выставку поствизантийских икон. Не в византийские времена, а после, когда турки захватили Византию в середине пятнадцатого века, греческие художники из Константинополя поехали в эмиграцию на Крит, поэтому на Крите образовалась целая иконописная школа, и очень много икон создавалось в конце пятнадцатого, в шестнадцатом веке. Они устроили выставку таких икон, и меня тоже пригласили.
От России было очень много людей, потому что иконы отсюда поехали, из всех музеев. Я сказала: «я не могу про поствизантийское искусство, не могу. Я в это не вникаю, это не моя любовь — поствизантийское искусство». И тогда мне устроители выставки, критяне, греки сказали: «Ну хорошо, все будут говорить про поствизантийское искусство, а вам одной мы разрешаем говорить про позднее византийское». И я поехала с докладом про Феофана Грека.
Мы прилетели в Афины, а из Афин должны были ночью лететь на Крит местным самолетиком. Был вечер, и было некоторое количество времени, чтобы увидеть Афины. И мы вчетвером сели в троллейбус и едем по Афинам куда-то. И вдруг я увидела за окном Акрополь. Я увидела живой настоящий Акрополь! И Парфенон стоит. Не на картинке, а мраморное все, живое! И я с воплем «Акрополь! Выходим!» на остановке первая из нас четверых ринулась вниз, на тротуар, а я уже была с палкой, оставив сумку в троллейбусе. Трое за мной. Мы вышли к Акрополю. Без сумки. Я даже не сразу сообразила, что сумку оставила. Троллейбус уехал, Акрополь перед нами. Влезть на него нельзя, потому что поздно, вечер, — но вот он стоит. Счастье полное. У меня полное обалдение от этого.
Счастье было сильным, но мимолетным, потому что ночью все полетят на Крит, кроме меня. В сумке вообще все мое имущество: билеты на Крит, по Греции, на Москву обратно, паспорт, все документы и вся фотоаппаратура, которая была по тем временам очень хорошая. Все, я — никто, я вообще никто.
И мы разделились. Володя Сарабьянов отправился чего-то искать, мы две пожилые дамы ждем на остановке, когда троллейбус опишет круг и вернется сюда. Во всех проходящих троллейбусах, во-первых, мы надеемся узнать шофера, во-вторых, — спросить, где тот, в котором мы оставили сумку. Аховая ситуация, конечно, совершенно. Ситуацию спасла Ольга Этингоф. Она как-то сообразила, что надо идти в полицию. И узнала, что есть такая круглосуточная полиция, которая занимается иностранцами, и там прекрасно говорят по-английски.
Полиция выяснила, что этот троллейбус на остановку не придет, потому что у него кончились рейсы, и он будет отдыхать до утра. И Оля схватила такси и помчалась на ночлег троллейбусов. Да, в полиции предупредили: будить шофера нельзя. Его сон, его отдых — это священно. Он сегодня спит, его нельзя разбудить. Она примчалась туда, где стоят все спящие троллейбусы и взмолилась, видимо, рассказала сюжет тем, кто там дежурил, — и они открыли. Они открыли, сумка стояла нетронутой.
Большая такая кожаная, из тонкой кожи, раздувшаяся от вещей сумка. Теперь подумайте, сколько в нашем троллейбусе времени простояла бы эта одинокая сумка, набитая прекрасными товарами? Оля схватила эту сумку, примчалась в аэропорт уже. И мы туда горестно приехали — не было же мобильных телефонов, и я не знала, что сумка найдена. Я уже для себя выработала план, что пойду в греческую патриархию сдаваться. Скажу, что вот так и так, я русская, православная, попала в такой переплет: документов нет, денег нет, ничего нет, а все мои коллеги на Крите. Думаю, ну не выгонят они меня на улицу. Но это не понадобилось, к счастью.
Вот так я впервые увидела то, чему меня учили в университете. У меня было состояние шока, просто шок, конечно. Я при этом кричала на весь троллейбус, что Парфенон.
Беседовала Ксения Лученко
Фото Евгения Глобенко