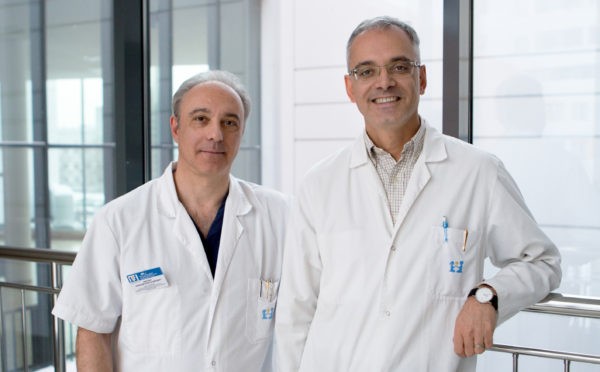CAR-T терапия — один из подходов иммунотерапии — пожалуй, наиболее перспективного сейчас направления в онкологии. У пациента забирают T-лимфоциты (клетки иммунной системы), встраивают в ДНК этих клеток ген, кодирующий специально модифицированный рецептор — он умеет распознавать злокачественные клетки и убивать их. Такие модифицированные клетки получили в английском языке название CAR-T (chimeric antigen receptor). Затем эти «обученные» Т-лимфоциты заново вводят пациенту.
У наших больных нет щенков, зато есть дистанционная школа, радиостудия и киноклуб
— Если смотреть документальные фильмы о западных больницах, там распространена такая практика: пятница — день щенков из приюта, когда их привозят волонтеры. Веселятся все: и болеющие дети, и врачи, и щенки. И вот ты сразу хочешь такое здесь.
— К сожалению, по санитарным нормам у нас животных нельзя. Хотя, конечно, ужасно хочется.
— А по американским — можно, и никакого вреда для пациента?
— Боюсь, что ответ будет очень простой — потому что там просто другие санитарные нормы. Если честно, мне кажется, мы и так в нашем центре — благодаря позиции руководства — раздвинули границы возможного в отдельно взятой клинике. Еще на старте — доступ в реанимацию.
В прошлом у нас с этим были большие проблемы: хотя там было много гематологических больных, попадет ли родитель в реанимацию, во многом зависело от позиции того, кто дежурит сегодня вечером. Был более добрый реаниматолог, который мог пустить, а был более злой — который мог не пустить. Это была вечная борьба, которая закончилась, когда мы перешли сюда.
— Вы сразу набрали только добрых реаниматологов?
— Не так. Мы счастливы, что в наших рядах оказались люди, разделяющие наши убеждения, хотя это не просто. Даже для очень позитивно настроенных реаниматологов это очень тяжелая нагрузка, это не так, что можно просто открыть дверь и сказать — а теперь все входим. Это огромная нагрузка на персонал, который никогда не учили, как себя вести в присутствии родственников.
О чем врачи между собой говорят, как они это говорят — со стороны некоторые вещи могут показаться цинизмом. На самом деле к цинизму это никакого отношения не имеет, это просто профессиональный метод справляться с ежедневным стрессом. Врачи могут обсудить состояние пациента в двух-трех предложениях, которые со стороны могут показаться неуважительными или пренебрежительными. Но это совсем не так. Но понимать, где ты находишься в данный момент: с родственниками — одно, в ординаторской — другое, не так просто.
— Когда в стрессовой ситуации оказывается взрослый, он может понять, чем ему грозит заболевание, взвешивает свои шансы, более осмысленно, наверное, это переживает, чем ребенок. А как переживают дети?
— Они по-своему тоже тяжело переживают ситуацию лечения. Очень сложно сказать – сложнее или проще. Проще в том смысле, что до определенного возраста они не так чувствуют и понимают, что такое смерть, не просыпаются, как взрослый, подавленными этим каждый день, с мыслью, что это может плохо закончиться. Но ребенок растет и развивается, и болезнь вклинивается в его нормальные рост и развитие, в те моменты, когда формируется его психика, в том числе в его отношения с родственниками.
У нас есть очень сильная психологическая служба, которая пытается помочь детям и семьям — проводить их сквозь сложные моменты. Там масса вещей, о которых мы мало задумываемся. Нет ситуации ежедневной страшной боли, но есть совершенно другие ситуации — ребенок в клинике, мама в клинике, второй ребенок — далеко, с папой или бабушкой. Все внимание смыкается на том, кто сейчас болеет. Ребенок, который далеко, чувствует себя брошенным. Мама чувствует свою вину. Масса историй, когда в момент болезни один из родителей — чаще это папа — уходит из семьи.
Реабилитация и помощь нужна всем. Кому-то удается выйти из тяжелейших историй и потерь здоровым, а кто-то ломается или ломаются семьи, даже когда вероятность выздоровления 90%.
— Если дети находятся в вашем центре месяц или больше, как решается вопрос со школой и их социальными потребностями?
— Наш центр этим очень много занимался и, как мне кажется, занимает здесь передовые позиции. Во-первых, пациенты, которые трансплантируются, проводят здесь не месяц, а минимум 3-4. Потому что надо быть здесь до пересадки и после. Пациент, который лечится от ОМЛ, проводит здесь 6-8 месяцев, поскольку это курсы химиотерапии. Здесь есть специальная образовательная программа, дистанционная школа, радиостудия, киноклуб. В общем, космос.
— Это все организовано волонтерами?
— Это официальное подразделение внутри центра Рогачева. Волонтеры играют большую роль в деятельности центра, но подготовка детей — это профессиональные учителя.
— В НМИЦ им. Дмитрия Рогачева лечат только детей?
— До 18 лет мы имеем право лечить за бюджет. До 25 лет мы лечим за внебюджетные средства, подавляющее большинство таких больных — это наши бывшие пациенты, у которых произошел рецидив и которых нам не хочется бросать, которых фонд «Подари жизнь» берет под опеку и оплачивает лечение в нашем центре.
И это не совсем правильно: я не очень понимаю, почему 25-летнему пациенту государство может оплатить лечение в РОНЦ или в НМИЦ гематологии, и не может — в НМИЦ им. Дмитрия Рогачева. По каким причинам? Лицензия на взрослых у нас есть, но государство не позволяет нам тратить на взрослых бюджетные деньги. Юридически мы можем их лечить. Но делаем это редко, потому что получается очень дорого.
— А если больной старше 25 лет?
— За всю историю мы несколько раз брались за таких пациентов, но стараемся этого не делать. Юридически мы имеем право, но профессионально не чувствуем себя очень-то вправе. Дело в том, что до 30 лет гематологические заболевания у детей и взрослых одинаковы, молодые взрослые болеют такими же лейкозами, ближе к детским.
Чем старше — тем дальше от нашей зоны компетенции. И зачем влезать в не свое дело? Там просто появляются свои проблемы — проводить химиотерапию человеку с ишемической болезнью сердца — возможно, но в моей практике таких пациентов не было. И было бы нечестно по отношению к пациенту браться за такую ситуацию. Или, например, в НМИЦ гематологии огромный опыт терапии беременных — ну, и что нам здесь тогда делать.
— И взрослые гематологи, соответственно, не берутся за лечение детей?
— Есть небольшой зазор. Иногда подростки 16-17 лет попадают во взрослое отделение. Но чаще всего до 18 лет — это детские отделения, старше — взрослые. Не во всех странах это одинаково, в США пациенты до 21 года лечатся у детских гематологов, в Израиле есть отделение подростков и молодых взрослых, где пациенты до 35 лет, кажется.
— Какие еще клиники, кроме НМИЦ им. Дмитрия Рогачева, занимаются такими онкогематологическими пациентами?
— Нечестно и неправильно говорить, что свет сошелся клином на НМИЦ им. Дмитрия Рогачева. Есть по крайней мере еще два крупных центра федерального уровня — НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой и РДКБ, наша «альма матер». Это три центра, делающие трансплантации детям со всей страны.
Есть Институт детской онкологии в онкоцентре (НМИЦ онкологии им. Блохина) — там ситуация немножко сложнее, у них должны открыться новые корпуса, и мы ждем, что после этого по мощности они станут центром очень высокого уровня. Недавно начал функционировать центр в Морозовской ДКБ.
Еще при поддержке фонда «Подари жизнь» довольно здорово за последние 2-3 года изменилась ситуация на Урале, там областная детская больница №1 в Екатеринбурге — единственная региональная клиника, которая делает трансплантации по федеральной квоте. Они делают порядка 35 трансплантаций в год, это немало.
— А вы сколько делаете?
— Около 200.
—А РДКБ и институт им. Р.М. Горбачевой?
— РДКБ около 80, НИИ им. Р.М. Горбачевой — около 150. Это очень много. В Европе центров, выполняющих больше 50 пересадок в год, меньше 10. Это у детей, у взрослых несколько иная история — есть центры, делающие несколько сотен в год. Вообще, если сложить показатели по трансплантации взрослых и детей, самый крупный в Европе центр ТКМ, я думаю, — это клиника имени Раисы Горбачевой.
В США есть индустриальные монстры, где показатели под тысячу, но надо понимать, что есть аутологичная пересадка при миеломе, где химиотерапия проводится один день, а затем больному переливают обратно его собственные клетки, там не бывает иммунных осложнений. И есть пациенты, которые получают по две такие пересадки. И если все это сложить — цифра получается космическая. Это не значит, что они плохо работают, просто это другая технология. Это нельзя сравнить с аллогенной трансплантацией, очень сложной.
Мы до сих пор не можем сделать этот тип терапии легальным
— В целом лейкозы у детей лечатся лучше, чем у взрослых?
— Да, несопоставимо. Вообще, все лейкозы делятся на две группы. Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) — в основном болезнь взрослых и пожилых. Точной статистики нет, но если экстраполировать популяционные данные западных стран, то в России ожидаемое число заболевающих ОМЛ детей — порядка 250 в год, у взрослых же ожидаемая заболеваемость — примерно три тысячи случаев. То есть чем старше, тем больше риск. А вот острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) дети болеют чаще, число впервые заболевших взрослых и детей примерно одинаково — по 800-900 в год.
При ОЛЛ у детей шансы выздороветь — примерно 85%, а у взрослых — 40%. При ОМЛ у детей — 60-70%, у взрослых — 20-30%. Это я привожу усредненную мировую статистику, в России адекватных данных для острых лейкозов, на мой взгляд, просто не существует. Это большая проблема, но в педиатрии, опять, чуть-чуть легче — меньше больных, они все лечатся в определенных местах и отделениях, их судьбы проще отследить. И с определенного возраста пациенты вообще становятся слишком хрупкими для лечения, то есть даже не начинают лечиться, особенно в глубинке — могут даже не доехать до места, где кто-то мог бы взяться за их лечение. Поэтому всей картины, думаю, мы себе даже не представляем.
— Детские лейкозы лечатся лучше — потому что детские врачи научились эффективнее подбирать протоколы?
— Есть три причины. Первая и главная — биология болезни. У взрослых биология лейкозов чуть ближе к солидным опухолям, и в опухолевых клетках происходит накопление мутации в течение многих лет. На момент, когда человек заболел, у него может быть множество онкогенных поломок и их комбинаций, лечить такую опухоль очень сложно. У детей, как правило, болезнь — результат одной или небольшого количества поломок. То есть детские лейкозы в чем-то проще устроены.
Вторая важная причина: у взрослых часто присутствуют сопутствующие болезни — сердце, печень, почки, легкие. Терапия — тяжелая, и не каждый взрослый может перенести то, что способен перенести ребенок. То есть часть взрослых больных мы теряем из-за осложнений.
И третья причина, действительно, в том, что в педиатрии в большей степени принято лечить по четко очерченным протоколам. Во взрослой медицине пациенты часто лечатся по территориальному принципу, где живут. Для детской медицины норма, что к нам приедет пациент из Хабаровска. Во взрослой медицине такая мобильная схема реализуется гораздо сложнее.
— В медицинском сообществе много говорят про технологию CAR-T cell. Действительно ли до нее долго не было прорывов в лечении лейкозов?
— Да, для острых лейкозов за два, если не три, десятилетия практически не было новых препаратов. Когда пытаешься сделать обобщение, всегда найдется кто-то, кто скажет, что ты не прав, но, думаю, не совру, сказав, что между 1985 и 2005-2006 годами новые препараты практически не регистрировались.
Потом появилось несколько новых лекарственных препаратов — для использования во второй и третьей линиях терапии, они заняли весьма небольшую нишу — применялись у очень здоровых пациентов, которых нужно было подготовить к трансплантации. Эти препараты не удалось вывести в первую линию терапии — они не имели таких преимуществ перед стандартными препаратами, у них есть своя, немаленькая, токсичность, а цена, как правило, очень высока. То есть стоимость в целом не соответствует тем преимуществам, которые они дают.
А в последние три-четыре года происходит явный прорыв. Для ОМЛ это появление новых малых молекул, в основном — таргетная терапия. А для ОЛЛ прорыв связан с CAR-T технологией. Она стала более знаменитой, потому что малые молекулы — это не новость, они разрабатываются для многих солидных опухолей. Малые молекулы занимают нишу хронической сдерживающей терапии, как правило, они не вылечивают, но позволяют сдерживать болезнь, иногда очень долгое время.
У пожилых людей это в каком-то смысле является желательным и продуктивным лечением. Но у детей такого рода терапия не кажется продуктивной — их ожидаемая продолжительность жизни измеряется десятилетиями, в этом случае лекарство, которое продлевает жизнь на год или на два, ни пациентами, ни родителями, ни врачами не воспринимается как ценная опция.
Первое важное отличие CAR-T от всех использующихся сейчас методик лечения в том, что по механизму действия эта технология похожа на функцию иммунной системы. Она находит инфицированные клетки и уничтожает их, не блокирует их размножение, а совсем убивает. Исходя из этого принципа, эта терапия потенциально куративная, если это не слишком вычурно звучит.
Нет гарантии, что она излечит всех пациентов, но механизм ее действия дает надежду на полное излечение в случае успеха. Второе отличие — совершенно новый принцип: 10 лет назад только пионеры и разработчики метода понимали, как это должно работать.
Трудно было представить, что мы можем так глубоко забраться в биологию человека — биоинженерными способами менять функцию его клеток. Эти клетки, возвращаясь обратно в организм, начинают делать то, что в норме они делать не умеют. Это как выход в открытый космос.
CAR-T отличается от технологий разработки молекул, когда лекарства штампуются на заводе, доктор их прописывает, а человек их принимает или получает внутривенно. Здесь процедура в чем-то более волнительная.
— И как она проводится?
— Терапия, получившая одобрение в США и получающая одобрение в Европе, построена следующим образом: клетки пациента берут с помощью несложной процедуры, в принципе, можно просто забрать лимфоциты при помощи донации цельной крови. Затем специальными агентами эти клетки активируются, культивируются, выращиваются вне организма, и потом к ним добавляется специальный реагент — вектор, несущий ген, кодирующий химерный антигенный рецептор. То есть лимфоцит пациента мы можем направить на любой антиген — на любую мишень в организме.
Дальше начинается самое интересное: возникает вопрос — какие мишени атаковать? Само это оружие — Т-лимфоциты — это супер-эффективные клетки-убийцы, если направить их на здоровые клетки, они причинят вред, могут и убить пациента. И выбор мишени стал критической точкой для развития всей этой технологии. И пациентам с ОЛЛ и В-клеточными лимфомами в этом смысле повезло — на поверхности клеток лейкозов и лимфом такого типа есть молекулы, которых нет ни в каких других здоровых тканях организма. Если быть совсем честным, эта терапия направлена не на опухолевую мишень, а на тканевую: вместе с опухолью мы уничтожаем все В-лимфоциты. Хорошая новость заключается в том, что без В-клеток можно жить. Мы их уничтожаем на много недель или даже месяцев, но с помощью переливаний иммуноглобулина функцию В-клеток можно заменить.
Пока при хроническом лимфоцитарном лейкозе эта терапия не получила одобрения, еще нет достаточно обнадеживающих результатов, а вот для двух других заболеваний — ОЛЛ и В-клеточных лимфом — после нескольких лет исследований одобрение получено. Самая главная надежда в принципе оправдывается. Ничего похожего с точки зрения эффективности медицина не знает: все предыдущие поколения химиопрепаратов у больных с рефрактерными опухолями давали частоту ремиссии 10-15% — это считалось неплохим ответом, достаточным, чтобы двигать лекарства к дальнейшим исследованиям и применению.
Здесь в исследовании I фазы уже была получена частота полных ремиссий от 70% до 90%. Такого в принципе никто не видел, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Для CAR-T клеток не было исследований III фазы, сравнительных исследований, настолько очевидна их эффективность. И второе: спустя два-три года наблюдений за больными, вышедшими в ремиссию, стало ясно, что в ней остаются примерно 50% детей и 40% взрослых. В принципе, продолжительность жизни у больных с рефрактерным ОЛЛ — несколько недель или месяцев. То, что такой больной остался в живых 2-3 года, может говорить о том, что он фактически излечен.
— Непохожесть ни на что этой технологии не осложняла дело при ее внедрении в практику? Ведь Институт рака США сначала финансировал проект, но затем, когда понадобились средства на лечение первых пациентов, спонсировать это отказался, терапию пациенты получили благодаря пожертвованиям филантропов.
— Действительно, когда нужно было получить финансирование на первые клинические исследования, эта технология мейнстримной наукой воспринималась настолько маргинально, что желающих их финансировать не было. Стоимость лечения была очень высокой — на одного пациента нужно было потратить сотни тысяч долларов, чтобы показать, что это работает. То есть это очень дорогой эксперимент.
Но в Штатах филантропическая поддержка — хорошая традиция. Мы в каком-то смысле пытаемся ее перенять: в детской медицине это сделать гораздо проще, чем во взрослой, но в этом случае и здесь не так просто искать средства. То, что сделано у нас в центре, сделано целиком за счет благотворителей.
— У нас тоже шли исследования?
— Не совсем так. В России есть несколько научных групп, интересующихся этой темой. Для детской гематологии ОЛЛ — болезнь номер один. Лечится он стандартной химиотерапией неплохо — выздоравливает 80-85% пациентов. Пациентов, которым стандартная химиотерапия и трансплантация костного мозга (ТКМ) не помогают, в России около 100 в год. И в 2013 году появились первые публикации о CAR-T. Мы в НМИЦ им. Дмитрия Рогачева выступали не столько как исследователи, сколько как клиницисты, которые как можно скорее хотят дать доступ пациентам к этой технологии.
Можно было бы начать с нуля свои исследования, изобретать велосипед в отдельно взятой стране. Но наша цель была — сделать терапию доступной если не одновременно с пациентами на Западе, то не сильно позже. Для этого нужно было заниматься переносом уже достаточно продвинутых технологий. Дело в том, что получить CAR-T клетки можно разными способами: вручную, автоматизированно, можно переносить ген одним вирусом, другим или совсем без вируса, можно с помощью биореактора, а можно — открытым способом, в чистых помещениях. Много деталей, которые нужно было выстроить в технологическую цепочку, понять, что возможно в России, а что — нет. Чем мы в центре и занимались.
— И когда вы начали работать?
— Совсем активно мы стали работать в 2015 году.
— Терапию с этого времени пациенты уже получили?
— Лечение получили пять детей. Одна из главных проблем заключается в том, что у нас регуляторная база до сих пор — а с момента принятия закона «О биомедицинских клеточных продуктах» прошло два года — не позволяет сделать этот тип терапии легальным.
Мы бы хотели сделать ее доступной, но сейчас применять ее мы можем только по жизненным показаниям, на основе консилиума, пациентам, у которых уже невозможно никакое другое лечение. Эта ситуация очень осложняет нам жизнь. Плюс есть нормативные акты, которые до сих пор не приняты. И само законодательство писалось из расчета на индустриальную историю. На мой взгляд, это большой тормоз для развития технологии.
— Что значит — под индустрию?
— В США все, что было сделано до 2013 года, и все первые успехи были сделаны в академических исследованиях — они не были инициированы фармкомпаниями, проекты разрабатывались не в недрах фармкомпаний. Технологии финансировались либо государством, либо филантропами, все наработки, которые затем Novartis и Kite Pharma вывели на рынок — это на 95% технологии, сделанные учеными в университетах на деньги налогоплательщиков. И мне кажется, это надо иметь в виду.
Когда такая технология стартует, одно из ключевых условий для ее развития — определенная гибкость: когда вы какие-то вещи можете быстро менять, принимать быстрые решения рядом с пациентами. История с фармкомпаниями инерционна по определению — фармкомпания должна вложить такие средства в один вид CAR-T клеток, что потом разворачиваться на ходу и менять технологию становится крайне сложно. Фармкомпании нужны и необходимы на этапе масштабирования технологии и обеспечения доступа к лечению большого числа пациентов.
Но на раннем этапе, с которым мы имеем дело сейчас, академические центры и лаборатории будут продолжать играть большую роль. А законодательство, прописанное под фармкомпании, ставит нас как академический центр в очень непростые условия.
Приведу простой пример: чтобы получить разрешение на производство клеток для клинических испытаний клеточной терапии, нужно иметь лицензию на производство — вещь сама по себе не банальная для государственного академического учреждения. Мы еще не знаем, как это — никто еще ее не получал, потому что еще не приняты правила для этого. Но это полбеды: в списке документов на получение лицензии стоит заявление о госрегистрации на применение клеточного препарата.
Вопрос: что делать, если мы не хотим и не планируем регистрировать препарат? С индустрией все понятно: если они сделали что-то, их единственная задача — довести это до стадии лекарства, зарегистрировать и продавать. Но у нас нет такой задачи, наша цель — лечить пациентов. То есть мы по определению не можем собрать пакет документов: мы не хотим регистрировать препарат, мы хотим исследовать технологию и вылечить пациентов.
— Вы говорили о группе пациентов — около 100 человек в год, для которых CAR-T может стать единственным шансом — тех, кому не помогла химия и не получилось с трансплантацией костного мозга. Почему не удалась пересадка — не нашли донора?
— Все хитрее. Дело в том, что при ОЛЛ трансплантация имеет шанс на успех, только если количество оставшихся опухолевых клеток очень маленькое. То есть мы должны сделать пересадку в тот момент, когда опухоли в организме почти не осталось — часть клеток «пересидела» химию, и их-то мы с помощью трансплантации, если хотите, добиваем. Но если на момент выполнения трансплантации в организме остается достаточно много опухолевых клеток, пересадка — это выкинутые деньги. Такие пациенты неизбежно рецидивируют в течение нескольких месяцев после пересадки.
Есть пациенты, рецидивирующие после пересадки, а есть больные, которые не могут быть даже приняты на пересадку, из-за того что в организме слишком много опухоли. CAR-T сейчас применяется в двух ситуациях — у пациентов, рецидивировавших после пересадки, и у пациентов, которых нужно подготовить к трансплантации — для них CAR-T становится таким мостиком.
— А можно ли пациентам, у которых сейчас невозможна трансплантация, выполнить ее после терапии CAR-T?
— Можно, и здесь сейчас как раз зашита некая неизвестность. Мы точно знаем, что после применения CAR-T клеток при ОЛЛ у детей примерно половина из них выздоравливает — остается в длительной ремиссии. Из тех, кто остался в ремиссии, часть успела получить пересадку, а часть — нет, по разным причинам — кто-то отказался, у кого-то это уже вторая или третья пересадка и родители отказались, где-то не нашли донора.
И пока нет способа предсказать — кому из пациентов нужны и CAR-T, и пересадка, чтобы остаться в ремиссии, а кто может остаться в ремиссии только после CAR-T. И это то, что предстоит выяснить в ближайшие годы. Для этого нужно отдельное, очень сложно организованное клиническое исследование.
— Условно говоря, две группы пациентов — одним делать трансплантацию после CAR-T, другим — нет?
— Примерно. На очень большой группе пациентов. И понять это не так просто, люди — не мышки, их нельзя просто засунуть на трансплантацию, потому что так решил врач. Кто-то скажет: нет, если без пересадки можно обойтись, то я хочу без нее. А кто-то наоборот: нет, я при любом раскладе хочу. Организовать такое исследование очень непросто, и здесь тоже большая роль академических центров, потому что фармкомпаниям будет это сделать непросто.
— Им будет непросто организовывать? Или им будет не очень интересно, делают ли кому-то после CAR-T трансплантацию?
— Трансплантации компаниям в принципе неинтересны, вы правы. Но в конечном итоге, думаю, им станет интересно: это единственный способ доказать, что CAR-T — самостоятельный излечивающий метод, а не просто мостик к пересадке. Время все расставит на свои места. Это в педиатрии относительно легко делать пересадку, потому что нет таких проблем с поиском донора.
Мы с легкостью стали делать трансплантации от родителей к детям. И в педиатрии ситуацию «не нашли донора» я просто не знаю с чем сравнить, потому что так можно было сказать 15 лет назад. В 2018 году это возможно сказать, если пациент круглый сирота из какой-то очень редкой этнической группы. Тогда действительно может не получиться найти донора.
Но вот взрослым и пожилым людям сложно делать трансплантацию, опасно. Полагаю, там будет много пациентов, которые просто откажутся от этого. И постепенно, думаю, накопится масса людей, которые получили CAR-T, но не получили пересадку. И просто проследив за их судьбами, можно сделать какие-то выводы. То есть не для всего можно придумать клиническое исследование.
Без способа борьбы с выгоранием в детской онкологии остаться нельзя
— После того, как в 2016 году вы стали заместителем директора центра, вам добавилось административной работы?
— У меня лично? Да, добавилось. И, честно говоря, сильно убавилось клинической.
— А есть еще научная. И каково соотношение?
— Научная доминирует. Мне просто много раз в жизни сильно везло, но особенно повезло с коллегами, с которыми я работаю последние годы. Это настолько высокого класса клиницисты и врачи, что несколько лет назад я смог отойти чуть-чуть от клиники и заняться такими инновационными проектами, где требовалось еще много организаторской работы. Совсем не работы ученого, а проектного менеджмента, решающего медицинские задачи.
Но связи с клиникой я не теряю — из-за хорошей организаторской работы и потому, что это та область медицины, где пациенты лечатся не так, как сегодня думает и чувствует лечащий доктор, а по очень четким схемам. И есть возможность контролировать процессы лечения очень большого числа пациентов, не входя к ним каждый день в палату, а обсуждая ключевые вещи с лечащими докторами или заведующими. В клиническом плане я сейчас, скорее, оказался в такой позиции консультанта.
— И мысли «пойду-ка я позаглядываю в палаты» нет?
— Знаете, есть опасения, и небезосновательные, что человек, который не смотрит пациентов каждый день, в конце концов теряет спортивную форму. Необходимо нахождение на острие принятия решений для конкретных пациентов. В голове врача для каждого пациента есть даже не ячейка, а туннель, где разложено все, что было до: анализы, состояние, история болезни, что было раньше, есть некий горизонт планирования — чего ты хочешь добиться для конкретного пациента. И есть сегодня — точка принятия решений: от очень маленьких — антибиотики, переливания, разговоры с родителями, до очень больших — например, сегодня пришла информация, что случился рецидив или терапия не подействовала.
И у заведующего отделением в голове десяток таких туннелей с пациентами. И конечно, держать большое число пациентов в поле такого активного интеллектуального внимания очень сложно. И если не делать это каждый день, навык теряется. Думаю, я это уже потерял. Но благодаря системе, тому, что у болезней есть свои законы и типы лечения, я приблизительно знаю, где нужно участие, где я могу помочь врачам в принятии решения, потому что в некоторых ситуациях, наоборот, нужна некая отстраненность, чтобы видеть большую картину.
— Вы пошли в медицину за братом. А в педиатрию почему?
— И в педиатрию — за братом, и в гематологию — за братом. Я хотел быть врачом, когда пошел в институт, поступил на педиатрический факультет — там был меньше конкурс. Я не обладал блестящими академическими результатами на тот момент, не уверен, что я бы в год поступления попал на лечфак. Это не единственная причина, но тем не менее.
— А ваши дети вас не ревнуют — что вы ходите, встревоженный судьбой другого ребенка, или уделяете много внимания какому-то другому, больному, ребенку?
— Во-первых, я, честно сказать, стараюсь не транслировать все свои профессиональные тревоги дома. Это не очень правильно. Но мне кажется, они с пониманием относятся. Как и любые дети, родители которых много работают, они бы, наверное, хотели, чтобы мы больше времени проводили с ними. Но — сколько можем.
— Врачей же часто спрашивают о синдроме выгорания, многие как раз говорят, что спасаются, приходя домой, к детям.
— Проблема выгорания действительно существует, но мне кажется, что универсальных рецептов нет. Человек, который не нашел в себе какой-то системы борьбы с выгоранием, в детской онкологии остаться не может.
Сюда нужно прийти, учиться, работать, и через 2-4 года человек либо понимает, как лично ему можно и нужно бороться с выгоранием, либо он уходит. Причин для выгорания, стрессовых ситуаций, горя и неудач здесь такое количество, что обойти это невозможно. Не уверен, что рецепты из серии «я хожу на рыбалку», «занимаюсь кикбоксингом» работают, это смешно.
Главный рецепт, наверное — не переставать видеть смысл в том, что ты делаешь, когда оказываешься перед тупиком.
Я бы, наверное, выгорел, если бы понимал, что нет никаких надежд улучшить ситуацию. И, к сожалению, правда здесь заключается в том, что для каждого конкретного пациента такой тупик может наступить. И есть десятки пациентов, которые умирают от прогрессии болезни или осложнения от лечения, что еще психологически тяжелее для врача. И момент невозможности помочь конкретному пациенту — самый тяжелый для врача. Он наступает сейчас, он наступит в следующем году.
Но глобально мы видим, что чуть-чуть результаты улучшились, однозначно каждый год мы спасаем больше пациентов — если сравнить с показателями 5, 10, 15 лет назад. Всегда было видение, куда мы делаем следующий шаг. Иногда бывает, что это шаг вперед и два шага назад, но все равно. Ощущение, что это не тупик, а работа, которую нужно сделать завтра и послезавтра, чтобы прийти в будущее, всегда сохранялось.
И моя версия, что это видение — один из защитных механизмов для людей, остающихся в профессии. Способность не терять общего смысла. Сейчас реже, раньше — гораздо чаще ты не можешь спасти пациента, иногда — очень любимого пациента, пациента, с родителями которого сложились дружеские отношения. Тем не менее, у тебя есть надежда, что через год будет лучше.
— Когда про вас читаешь, всегда натыкаешься на положительные отзывы о вас и вашем брате. Причем люди пишут именно о по-человечески важных для них вещах. Вот этот гуманизм — в вас откуда? Из семьи? Или дело совсем не в ней?
— Во-первых, мне кажется, нужно с определенной долей самоиронии относиться к таким позитивным откликам. И я знаю много пациентов, в случае с которыми была неудача и которые уезжали с разными словами — поэтому я отношусь к этому достаточно… трезво, это не то слово, но с долей самокритики.
Но однозначно все из семьи. Я уже говорил, что мне повезло в жизни, и с семьей тоже — тот запас любви, который я получил в детстве, до сих пор не кончается. Мне есть что отдавать в этом смысле. Слишком много любви и поддержки я получил в детстве и юности от близких. Какой-то бесконечный запас.
— Из семьи — в целом? Или это история, где важна фигура одного из членов семьи?
— Нет, я думаю, что речь про всю семью. Это была буквально такая атмосфера безусловной любви, принятия и восхищения, которая сопровождала детей — меня, брата, наших двоюродных сестер. И однозначно — это главный источник сил.
— И до сих пор так?
— Ну да. Слава Богу, родители живы и здоровы, и сейчас нас поддерживают. Да, во взрослой жизни человек обрастает огромным количеством проблем, бытовых историй. Но этот детский заряд — это как импульс в будущее.
Фонд «Правмир» помогает онкобольным взрослым и детям получить необходимое лечение. Помочь можете и вы, перечислив любую сумму или подписавшись на ежемесячное регулярное пожертвование в 100, 300, 500 и более рублей.