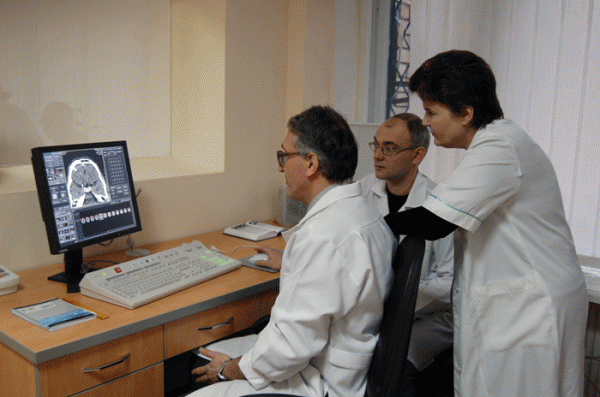Андрей Борисович Рябов – руководитель отдела торакоабдоминальной онкохирургии Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена, доктор медицинских наук. Ранее заведовал хирургическим отделением НИИ детской онкологии и гематологии Российского онкологического научного центра имени академика Блохина. В блоге хирурга за 2012 год – дневник операций (их бывало до 17 в неделю) типа «центральная резекция печени по поводу гепатобластомы», «гемигепатэктомия по поводу эмбриональной саркомы печени», «перитонэктомия с интраперитонэктомией и гипертермической химиотерапией». Диагнозы его пациентов – например, нейробластома верхней апертуры грудной клетки, мезотелиома брюшины и др. Многие из операций выполнялись доктором Рябовым впервые в этих российских клиниках.
– В 2013 году прошла первая на постсоветском пространстве обязательная диспансеризация, недавно огласили результаты. Осмотрели 34 миллиона человек, выявили 27 тысяч случаев злокачественных новообразований. Почему люди не идут на обследования самостоятельно? Почему у нас так плохо с ранней диагностикой?
– К сожалению, это известный факт. За последние 10–20 лет ситуация с диагностикой ранних форм опухолевых патологий в России не изменилась. Порядка 60% или 70% опухолевых патологий в нашей стране диагностируются уже в довольно поздних стадиях заболевания.
– С чем это связано?
– Это сложная проблема. Прежде всего, у населения должна быть выраженная мотивация изменить свой образ жизни, выраженная мотивация заниматься своим здоровьем, мотивация долго жить, причем жить качественно, вести здоровый образ жизни. Если такая мотивация будет, то, естественно, люди будут, в том числе, чаще проходить диспансеризацию, профилактические обследования, участвовать в скрининговых программах, которые направлены на выявление ранних форм злокачественных опухолей.
Многое здесь определено общеэкономическими факторами, потому что для такой мотивации у человека должно быть все хорошо дома. У него должна быть хорошая здоровая семья, устойчивое экономическое положение, он должен быть уверенным в завтрашнем дне. Он должен понимать, что у него и его детей есть перспективы в будущем. Тогда он будет думать, что ему необходимо сохранить себя и для работы, которую он не хочет потерять, и для семьи, где он – основополагающее звено.
– Люди уже знают, какие именно исследования следует проходить?
– Второй вопрос, конечно, это информированность населения. Люди должны быть образованны и понимать сегодняшние возможности и диагностики, и лечения онкологических заболеваний. Но люди знают мало. Здесь, естественно, вина лежит, в том числе, на Министерстве здравоохранения, на нас, врачах, и на масс-медиа. То, что мы видим на экранах – а сегодня телевидение играет в информировании населения одну из основополагающих ролей, – это, конечно, совершенно некачественный опыт. Передачи, которые посвящены медицине, не удовлетворяют в полной мере запросы и общества, и нынешних или потенциальных пациентов и врачей.
– Обязательная диспансеризация в нынешней России – это возможно?
– Конечно, должны быть регламентирующие акты, и сегодня они уже существуют. Например, на производствах, где есть профессиональная вредность (я занимался этим вопросом) – например, на ряде металлургических заводов – сегодня уже действительно эффективно работают эти программы.
Предписано обследовать своих специалистов не реже одного или двух раз в год в связи с профессиональной вредностью в своих медицинских пунктах или в тех профильных учреждениях, за которыми закреплены эти производства. Этот закон начал работать в последние годы, и диспансеризация входит в обязательный компонент трудового договора. Это касается не только металлургов или шахтеров, это касается, в том числе, и врачей.
Прежде чем уйти в отпуск, мы обязаны сделать рентгенографию легких, сдать анализы – пройти минимальный набор обследований. Таким образом, администрация больницы страхует нас от возможности пропустить у самих же себя наиболее распространенные формы заболеваний – это рак легкого, у женщин – это рак молочной железы, это кожные заболевания у мужчин и женщин, и онкологические заболевания у женщин.
Чтобы не был, как говорится, сапожник без сапог. В этой сфере должен быть жесткий контроль работодателей за тем, чтобы их сотрудники проходили обследование.
Я думаю, что экономические факторы будут стимулировать работодателя. Например, в Японии высокая распространенность рака желудка – и без предварительной гастроскопии работодатель не возьмет к себе работника. Вдруг он заболеет, и фирма потеряет работника. Самое главное, что работодатель очень часто предоставляет страховку своим сотрудникам. Естественно, если он берет уже больного человека на работу, то лечить его ему будет накладно. Это тоже стимулирует администрацию обследовать население, а людей – следить за собой.
Больной человек никому не нужен, это надо понимать. Мы живем (по крайней мере, начинаем жить) в условиях жесткой конкуренции. Понятно, что в этой конкуренции могут выжить – да и вообще участвовать в этом процессе – только здоровые люди. Поэтому очень важно объяснить людям, что задача быть здоровым – это задача не только государства, но и их самих. Нужно запустить все самомотивационные механизмы в человеке, чтобы он сам за собой следил, потому что лучшего доктора для себя, чем ты сам, ты не найдешь. Перекладывать всю ответственность на государство – несправедливо.
Мы очень долго жили в государстве с довольно стабильной структурой – я имею в виду Советский Союз. В нем твоя жизнь была во многом предопределена, и от твоей личной инициативы мало что зависело. Сама система позволяла человеку выжить, и он перекладывал всю ответственность на государство. Сейчас ситуация несколько меняется. Ответственность человека за свое здоровье в современном мире возрастает. Той системы, которая была в Советском Союзе, – очень стабильная, мощная система, которая поддерживает человека на плаву, – этой системы сегодня нет.
Думаю, что все будет идти параллельно: будут решаться социально-экономические вопросы, будет улучшаться информационное поле. И я думаю, что на фоне этого будет развиваться и расти желание человека быть здоровым. Тогда он сам будет заниматься своим обследованием.
– Может, у нашего человека нет осознанной мотивации беречь себя ради любимой работы, но канцерофобия у него точно есть. Почему она не стимулирует его обследоваться?
– Не совсем с вами соглашусь по поводу канцерофобии. Во-первых, у нас есть момент фаталистического отношения к своей жизни. Бог дал, Бог взял. Во-вторых, я не уверен, что этот страх настолько распространен среди населения. Ученые абсолютно точно доказали, что курение – это обязательная причина развития рака легкого, результат лечения которого крайне неудовлетворительный.
При первой стадии заболевания не доживают до пяти лет, на четвертой стадии пациенты имеют минимальную продолжительность жизни. Курение – это причина развития и других заболеваний – рака груди, рака пищевода и поджелудочной железы. Однако людей это не пугает и не заставляет отказаться от привычки.
Чрезмерное употребление алкогольных напитков, помимо того, что приводит к десоциализации человека, – это также и предиктор развития очень многих заболеваний. Однако люди в нашей стране продолжают чрезмерно употреблять алкогольные напитки. Совершенно их не пугает перспектива не только цирроза печени, энцефалопатии, то есть нарушения уровня сознания, но и развития фатальных злокачественных опухолей.
Куда пропадает эта канцерофобия, которая должна человека настраивать заниматься собой, изменить образ жизни?
– Моя знакомая умерла от рака печени. Когда у нее уже болел бок, она говорила: «Не иду к врачу, потому боюсь, что они у меня что-то тяжелое найдут». С вашей точки зрения, статистически таких людей в России мало?
– Ваша знакомая была плохо осведомлена в медицинских вопросах. В нашем обществе вообще очень мало внимания уделено медицине. Что может быть важнее, безусловно, наряду с духовным и интеллектуальным развитием человека, чем его физическое развитие и его физическое состояние? Мы зачастую обсуждаем всякие несерьезные вещи вместо демонстрации современных медицинских возможностей и достижений науки в современном мире. Как результат, на бытовом уровне люди говорят: «Ах, как бы чего не вышло! Не дай Бог разрежут».
Нам кажется, что онкология нас не коснется. Это коснется. В каждой семье есть люди, у которых были или есть случаи онкологических заболеваний. Надо понимать, что люди чаще всего погибают от сердечно-сосудистых заболеваний, а на втором месте идут онкологические причины смерти, и только в случае каких-то катаклизмов – травмы.
Поэтому если мы хотим продлить жизнь человеку, то нужно проводить профилактику тех факторов, которые приводят к развитию и сердечно-сосудистых, и онкологических заболеваний. Эти факторы известны и понятны. Но человек так устроен, что он слаб, он все же не робот. Он, естественно, позволяет себе много такого, чего с точки зрения медицины делать не надо. В том числе позволяет себе откладывать обследование. Бывает, что риск нарастает в силу особенностей профессии или жизненных обстоятельств. От всего себя не убережешь.
– Есть представление, что когда у тебя уже начались боли, то стадия у тебя уже четвертая, и все равно умрешь…
– Это совершенно неверно. Зачастую небольшое новообразование может находиться рядом – я говорю на бытовом уровне – с нервным корешком и вызывать очень выраженную болевую реакцию. При этом его можно целиком удалить. Боль не всегда связана с тем, что опухоль большая и стадия запущенная. Бывают большие опухолевые процессы, когда ничего не болит, все хорошо у человека, и он даже не знает, что в нем скрыто развилась такая катастрофа.
– Другое всеобщее убеждение – в том, что российская медицина слабо развита по сравнению с немецкой, американской, израильской… Насколько Россия сейчас в ногу идет с остальным миром в области онкологии?
– Я вам так скажу: Россия старается, как вы говорите, идти в ногу с остальным миром. И нельзя отделять Россию от остального мира. Вот есть остальной мир с развитой медициной, а есть Россия – это неправильно. Каждая страна, даже страны так называемого «золотого миллиарда», имеет плюсы и минусы в своей системе здравоохранения.
В самой богатой стране мира – Соединенных Штатах Америки – каждый шестой ребенок не имеет медицинской страховки. В Российской Федерации все дети имеют медицинскую страховку. Америка не может себе этого позволить. Проект Обамы по здравоохранению детей был отвергнут Конгрессом. Они посчитали, что это непомерно дорого. Не надо идеализировать Запад. Есть, безусловно, и преимущества западных специалистов, и не все катастрофично и плохо у нас.
Многое за последние годы удалось сделать. Благодаря национальным проектам, про которые вы, наверное, слышали по телевидению, произошло переоснащение, построены новые центры и больницы. Этот факт нельзя не признать. То, что вы ко мне пришли, – это тоже тенденция, что людей стала беспокоить проблема их здоровья. Еще 10–20 лет назад, в 90-е годы людям было не до этого, они решали вопросы пропитания.
Сейчас уже обсуждают, где лучше лечиться, нужно ли добровольное страхование или все же довериться ОМС. Какие клиники? Кто из врачей? Куда ехать лечиться – в Германию, в Израиль, в Америку и так далее?
Когда у людей появляется желание выбирать, это говорит о том, что у них есть возможности, о том, что на самом деле их начинает волновать их здоровье, и уже существует конкуренция на медицинском рынке. Действительно, в нашей сфере ситуация не безоблачная. Но если бы люди были лучше информированы, где в России они могут получить адекватную квалифицированную высококачественную помощь, они сэкономили бы ресурсы не только свои, но и своих спонсоров, и всей страны.
Мне кажется, что лучше для нас было бы, если мы имеем отставание в каких-то областях, приглашать ведущих специалистов сюда, а не ехать к ним на Запад. Надо организовывать здесь инфраструктурные компоненты, а не развивать их, если можно так говорить, у наших конкурентов (обычно мы их называем партнерами). На самом деле, отъезжая туда, мы увозим колоссальные материальные ресурсы в западные клиники. И они используют их на свое развитие, дальнейшую модернизацию.
Я за развитие нашего внутреннего рынка профессий, за процветание и за здоровую конкуренцию в этом вопросе.
Здесь надо подходить очень трезво и поднимать вопросы так, чтобы все общество участвовало в обсуждении проблем и выявлении недостатков, которые у нас есть.
– Часто говорят, что медицина (в сфере онкологии и тяжелых заболеваний) у нас слишком централизована и потому работает плохо.
– У нас была создана одна из лучших систем здравоохранения не отдельных слоев населения, а всего населения в разных уголках страны, начиная от чабана, шахтера и кончая членами Политбюро. В целом медицина в Советском Союзе была на очень высоком уровне, потому что медицина – это и профилактика, и внедрение здорового образа жизни, и развитие диспансерной помощи. Медицина в Советском Союзе касалась всех и каждого.
Было медицинское производство, это был элемент национальной безопасности. Многие компоненты этой системы мы утратили. Мы переживаем сейчас смутный период.
Мы сейчас столкнулись с большой проблемой того, что первичной помощи на местах практически нет. Поэтому я не знаю, как можно критиковать Советский Союз, который эту помощь в целом обеспечивал, посылая молодых специалистов после института работать в деревню, на какие-то корабли, на острова и так далее, в малодоступные места, куда человека очень сложно мотивировать поехать. Поэтому медицина была доступна.
Да, высоконаучные центры концентрируются в Москве, Санкт-Петербурге, в Челябинске, Новосибирске. Невозможно и нет необходимости строить крупный институт, например, в деревне с численностью населения 100 или 1000 человек. Невозможно создать всю инфраструктуру там, где небольшая плотность населения. Специалистов можно туда завезти, у них не будет опыта, потому что наша медицина имеет клиническую компоненту. Опыт врача определяется числом его клинических наблюдений, числом пациентов. Это возможно только там, где есть большой поток.
Другое дело, что есть вопрос образования, информированности, вопрос формирования потока пациентов. Сельский врач должен хотя бы заподозрить возможность онкологии, чтобы перестать лечить «пневмонию» и направить ребенка на обследование в многопрофильную клинику. В этом смысле у нас есть недоработки. Врач первичного звена должен четко представлять, что делать с пациентом, куда направлять. Как теперь говорят, «логистика» должна, конечно, работать безошибочно.
– В феврале наш главный детский онколог Владимир Поляков заявлял, что отправка детей лечиться за границу дискредитирует российскую медицину.
– Мне эта тема очень близка, потому что я работал в институте детской онкологии, руководил отделением на Каширке, и Владимир Георгиевич Поляков был моим непосредственным руководителем. Я подписываюсь под каждым словом, которое сказал Владимир Георгиевич, и абсолютно его поддерживаю. Владимир Георгиевич сказал еще очень мягко.
Дело в том, что в нашей стране отправка детей за границу стала бизнес-проектом многих фондов – я не говорю, что всех. Зачастую люди, которые этим занимаются, искренне верят, что они помогают. Но сама процедура при нынешнем масштабе и размахе, контроль за средствами, которые собирают в интернете и на телеканалах, – хромает. Это бесконтрольный сбор колоссальных сумм в масштабах страны.
Владимир Георгиевич говорил о том, что из-за низкой информированности люди не понимают, какие возможности в плане детской онкологии есть в нашей стране. А они очень обширны, я говорю это ответственно. Построен новый Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва – с большими возможностями, с большой пропускной способностью.
Работает Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина на Каширке. Сейчас строится новый комплекс зданий этого института. Институт сконцентрировал большое количество пациентов, имеет крупнейший опыт по многим заболеваниям. В других странах десятилетиями накапливается такой опыт лечения больных с одной и той же формой редких опухолей, какой на Каширке аккумулируется в течение одного года. Многие больницы открывают онкологические отделения.
В Екатеринбурге фантастическое отделение. В Санкт-Петербурге в институте Петрова и в 31-й больнице онкологическое отделение, в Архангельске и так далее. Наши специалисты проходят специализацию и профориентацию и в России, и за рубежом. Очень много лидеров, которые оказывают помощь на очень высоком уровне. Люди об этом просто не знают. Зачастую собрать деньги на лечение за границей кому-то выгоднее, чем обратить внимание на ту систему, которая уже здесь сложилась, развивается и оказывает детишкам квалифицированную помощь.
– Все-таки известные фонды работают и с Центром имени Димы Рогачева, и с больницей на Каширке. И отправляют за границу лишь тех, кому не могут помочь здесь.
– Я разговаривал с представителями одного небольшого фонда. Они приходят к нам и просят: направляйте к нам детей, мы соберем под них деньги. Ведь это не просто благотворительная организация. Людям надо получать зарплату и какую-то прибыль. Порядка 4–5% идет по закону на административные расходы. Чем больше вы собрали денег, тем больше у вас доход.
Этот товарищ из фонда говорит: «Мы отправили 600 детей лечиться за границу». Но я ни одного ребенка из этих сотен не видел. Может быть, мы могли их вылечить здесь, а может быть, они были безнадежны. Лидер в этом направлении – Владимир Георгиевич Поляков – этих детей не видел. Куда они девались потом? Какая их судьба? Ведь лечение детей – это не просто хирургия, это комплексный подход, это химия, лучевая терапия и так далее.
В лечении должна быть преемственность. Какую-то компоненту выполняют, например, в одной клинике. Потом обязательно лечение должно продолжаться соответственно той логике, которая была принята на первом этапе. Владимир Георгиевич Поляков говорит, что отправлять детей за границу надо тогда, когда экспертный совет специалистов признал невозможность проведения этого лечения в Российской Федерации. В таких случаях мы, специалисты, лучше знаем, где помощь этому ребенку могут оказать более квалифицированно.
Потому что шарлатанов на этом пути очень много, а суммы, которые собираются и которые тратятся на лечение детей, огромны. Они увозят эти деньги наших налогоплательщиков, заработанные и на эмоциях переданные. Сколько детей возвращается? Кто умирает, кто не умирает? Что происходит с теми деньгами, которые собрали всем миром на этих несчастных детей? Зачастую за рубеж едут дети, которым в принципе нельзя помочь. Их берут на экспериментальные программы только для того, чтобы заработать деньги. Многие клиники просят предоплату, говорят: «Дайте 100 тысяч долларов, и мы беремся лечить кого угодно».
Я не большой специалист ни в «Подари жизнь», ни в «Русфонде», не буду комментировать дела конкретных фондов. Я считаю, что в целом эта практика порочная.
– Хорошо, вы не в курсе работы «Русфонда», тогда я вам приведу цифры: за время своего существования они отправили за границу 43 онкологических ребенка, из них умерли шестеро. Соответственно, 37 выжили.
– Эта статистика для обывателя. Никогда в это не поверю, чтобы специалисты экспертного класса, которые есть в России, могли ошибиться в прогнозе заболевания. Это казуистика. У нас есть специалисты экспертного класса по детской онкологии, это Поляков, Манткевич, братья Масчаны, Румянцев…
– Заведующий отделением трансплантации Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Михаил Масчан – как раз председатель правления фонда «Подари жизнь». После выступления Владимира Полякова он говорил в одном из интервью: «В российских клиниках, я имею в виду федеральные центры, где оказывается помощь того уровня, которая необходима таким пациентам, нет свободных мест. Мы ежедневно, еженедельно отказываем таким пациентам, не потому что нет денег, а потому что нет мест. Я это говорю, потому что я это делаю каждый день. Я сегодня рассматривал выписки пациентов, которым мы вынуждены отказать или вынуждены перенести их терапию на месяцы, не будучи уверенными, что они доживут до этого лечения».
– Надо разбирать конкретно каждый пример. Я не хочу комментировать действия «Русфонда» или «Подари жизнь», я просто не знаю их работу. Да, центров нужно больше, и они будут строиться.
– Хорошо. 75 детей в год нуждаются в MIBG-терапии по поводу нейробластомы. Фонд «Подари жизнь» отправляет их за границу…
– MIBG-терапия – это экспериментальный вид лечения, который показан чрезвычайно узкому кругу пациентов, т.е. единичным пациентам – с непонятным выходом и лечебным эффектом. У нас пока нет MIBG-терапии как терапии, у нас есть MIBG-диагностика. Терапия есть, по-моему, в Европе – в Голландии, в Германии в одном центре. Не так много этих центров.
В Америке волна увлечения MIBG-терапией если не проходит, то не получает широкого развития. Очень узкий это путь. Нейробластомы очень разные, иногда нужна операция, иногда нет, иногда химиотерапия и лучевая, иногда – да, MIBG-терапия.
А говорят: «Ах, у нас нет MIBG-терапии – в этом вся проблема», – и давай строить. Это дорогостоящие проекты с очень низким КПД. Нужно понимать, кто заинтересован в том, чтобы запустить этот очень крупный проект, кто дает рекламу под это, всем объясняет, что без этого мы остановимся. Это очень важные и нужные, безусловно, компоненты в медицине, но зачастую они носят экспериментальный и научный характер, хотя кому-то могут действительно помогать. Всегда нужно понимать, какие есть альтернативы MIBG-терапии, какие есть альтернативы протонным центрам и так далее.
– Другой пример: у ребенка саркома кости, и здесь говорят, что нужно ампутировать ногу, а в Германии, например, ногу сохраняют, вставляя раздвижной протез внутрь.
– И у нас то же самое делают! У нас колоссальный опыт. Например, академик РАМН Мамед Алиев – директор НИИ детской онкологии и гематологии при РОНЦ имени Блохина на Каширке, может рассказать, какой прогресс достигнут в Российской Федерации, сколько эндопротезирования выполняется у детей. Детям устанавливают самые современные протезы, мы закупаем их по квоте, государство это оплачивает. Органосохраняющее лечение развивается в России, для пациентов это бесплатно.
– Квот ведь на всех не хватает? Приходится откладывать лечение, а время в детской онкологии дорого?
– Это полная фальсификация. Несколько лет назад действительно фонды еще покупали эндопротезы, собирали деньги всем миром. Сейчас все эндопротезирование детское обеспечено государством. Не оставляем мы ребенка на месяцы без эндопротезирования, потому что нет квоты.
– А что со взрослыми?
– Раньше больные бегали куда-то за какими-то «розовыми талонами». Сейчас у нас все через сеть запущено. Пациент приходит, мы говорим: «Квоту мы вам сделаем сами». Идет автоматический запрос, мы получаем документ, подтверждение, переводятся деньги, начинаем лечить пациента. Это уже не проблема, отладили.
Есть неразбериха, безусловно, есть определенный хаос. Эндопротезы мы заказываем за рубежом – в Германии, в Англии, в Соединенных Штатах. Снимаем вначале размеры, потом ждем, пока протез придет. На этом мы, естественно, теряем время. В это время проводим ребенку химиотерапию, не оставляем его без лечения.
У нас нет производства своих качественных эндопротезов. Это большая проблема, это плохо, но пока мы не можем ее решить. Это вопрос не одного дня и не недели – этот производственный кластер формируется годами и десятилетиями.
Мы ставим немецкие эндопротезы, но здесь, в России. Если человеку сказали, что здесь ногу можно только ампутировать, а там вставили протез, – значит, он здесь не туда обратился. Вы вот, перед тем как куда-то ехать, в интернете карту смотрите. То же самое и с медициной. Если человек плохо информирован, он будет, как слепой котенок, попадать не в те двери, и потом скажет: «Мне не смогли ничем помочь, потому что я не нашел нужную дверь. Отправьте-ка меня в Германию». И люди за большие деньги с удовольствием его туда отправят.
– То есть на Каширке мест всем хватает, люди просто не знают, куда ехать?
– Вопрос в доступности информации, и это наша главная большая задача. Для этого вы ко мне приходите, для этого я даю интервью. Для этого мы создаем информационный портал, клиники создают свои сайты. В России все идет, как всегда, немножко не так, как нам бы хотелось, но потихонечку идет. Если сравнивать ситуацию с той же детской онкологией или взрослой онкологией десять лет назад и сейчас, разница огромна. И в плане оснащения, и в плане доступа к информации есть прогресс.
В год у нас заболевает 3,5–4 тысячи детей, это не так много для Российской Федерации. Мы должны иметь информацию в электронном виде по каждому ребенку. Выявили онкологию у ребенка во Владивостоке – информация сразу должна пойти в центральный координационный центр. Всех заболевших детей можно легко контролировать и понимать, что происходит, тогда не будет таких проблем.
– Но пока такой системы нет.
– Пока ее нет. Она потихонечку отлаживается. Открыли институты, которые только сейчас выпускают руководителей здравоохранения. Этому надо учиться, нужно понимать, как организовывать потоки пациентов, чтобы не было очередей. Это как гостиничный бизнес, этому надо учиться. Мы будем идти по этому пути, у нас нет другого выхода, если мы, конечно, хотим выжить.
– К вопросу о национальной безопасности и законопроекте об ограничении госзакупок импортного оборудования. Насколько это ударит по вашим пациентам?
– Глобально я за этот закон, я его давно ждал. Медицина последних лет чрезвычайно коррумпирована. Тотальная коррупция привела к тому, что было разрушено национальное производство медицинского оборудования, которое существовало или потихонечку зарождалось. Закупать проще, чем что-то производить.
Нужно понимать, что в Российской Федерации из государственного бюджета на медицину выделяются огромные деньги. Очень большие деньги, на которые мы зачастую покупаем не то, чего у нас нет вообще, и что мы не можем производить, а резиновые перчатки; шприцы (я видел швейцарские шприцы), дренажи, которые мы ставим в плевральные полости. У нас бывают халаты иностранного производства, постельное белье, шапочки и так далее. На эту мелочевку в масштабах страны расходуются миллиарды.
Цены, по которым мы закупаем высокоточное оборудование (например, на компьютерные томографы), значительно выше для нас, чем на внутренних рынках в Европе и в Соединенных Штатах. То есть, в сумму заложен коррупционный процент. Это безобразие. Все компании-участники рынка, в этом заинтересованы, потому что «в России ведь деньги не считают». Кто считает государственные деньги? А на самом деле это оплачивается из нашего с вами кармана.
Как купленное оборудование используется? Зачастую оно используется неэффективно и покупается «лишь бы освоить к концу года бюджет».
Я считаю, что законопроект абсолютно оправдан. Он идет в логике развития медицинской промышленности внутри страны. Своего производителя в какой-то степени надо защищать от конкурентов. И надо ограничивать в какой-то степени возможность закупать на большие суммы западное оборудование. Вообще надо потихонечку менять вектор интересов: смотреть, где то же самое оборудование производят дешевле. Производить его научились и в Китае, и в Индии, и в Южной Корее.
– Вам известны томографы и рентгеновские аппараты, которые сейчас производили бы внутри Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан)?
– Внутри Таможенного союза мало что, наверное, эффективно производят. Но сначала нужно научиться использовать эффективно те компьютерные томографы, которые уже закупили по национальному проекту. Нужно идти не по экстенсивному пути, по закупке все новых и новых компьютерных томографов, а по интенсивному: эффективно использовать то, что уже купили. Второе: не обязательно покупать компьютерные томографы в Германии у «Siemens», можно покупать в два-три раза дешевле в Китае – и не факт, что они будут менее надежны. И потихонечку нужно научиться их производить самим.
То же самое касается и лекарственной базы. Концентрация на западных закупках – это интерес коррупционеров, которые подписывают миллионные контракты. Там не бывает честных закупок, цены завышены. Этому нужно препятствовать.
– То есть когда общественники паникуют, что скоро запретят покупать инфузоматы, у нас снова мамы детям в больницах будут высокодозную химию на глаз по каплям считать, то это все спекуляция?
– Это все спекуляция, подогреваемая СМИ. Все это выгодно фирмам, у которых упадут продажи. Надо себя уважать, и уже давным-давно надо было концентрироваться на внутреннем рынке, развитии собственных возможностей.
– То есть у нас есть свои инфузоматы?
– У нас будут инфузоматы, поверьте. Это не проблема. Это все высосано из пальца. Ну, купим мы в Корее эти инфузоматы или в Китае – в десять раз дешевле. Или сделаем их сами, это не проблема. Сейчас их можно закупать на Западе, но инфузоматов и сейчас нет в достаточном количестве. Пока не будет своего производства, для такой большой страны, как Российская Федерация, эта проблема не будет решена.
Вот с этого надо начинать. Где своя медицинская промышленность? И журналисты должны сконцентрироваться на этом и бить тревогу, что нет своей промышленности. А то, что какой-то закон принимают, и мы не купим 1000 инфузоматов у какой-нибудь немецкой или американской компании – да это ерунда.
– В масштабах страны ерунда, в жизни больного ребенка – важно, что в его отделении на Каширке инфузоматы покупает благотворительный фонд.
– Не нужно преувеличивать роль благотворительных фондов в здравоохранении. Это не панацея. В этом очень много пиара и мало смысла (хотя он и есть). Ну, купил благотворительный фонд 100 инфузоматов, а рассказал про это всему миру. Об истинной благотворительности никто бы не узнал. А купить один 50, 500 инфузоматов и на их фоне фотографироваться – это не благотворительность, это бизнес. Просто бизнес бывает разный.
– Матери конкретного ребенка все-таки не важно, бизнес или милосердие, а важно, чтобы капли высокодозной химии на глаз не считали. Их не считают?
– Бывает по-разному. Бывает, что есть инфузоматы, бывает, что инфузоматов нет. Всякое бывает. Мы живем в стране, где много чего есть, и много чего нет. Должно быть взвешенное понимание ситуации, а не сенсации. Мы еще самолеты выпускаем самостоятельно, и наши ракеты летают в космос. Инфузоматы тоже научимся выпускать. Это вопрос мотивации. Раньше у чиновника не было мотивации развивать свою промышленность: его в тюрьму за бездействие не сажали, понимаете? Выгоднее было покупать инфузоматы на Западе и треть стоимости класть себе в карман. Вот и все.
Сейчас ситуация изменилась. Я считаю, что события на Украине отрезвили государство и чиновников – меньше будут воровать. И задумываются о том, что будет со страной. Россия не может быть, никогда не будет, никогда ей не позволят быть так называемым членом какого-то «единого мира». Мы – самодостаточная страна, со своим укладом, интересами и политическим выбором. Со своей судьбой. А чтобы иметь право на свободу, нам надо быть независимыми. Независимость – это, в том числе, умение производить инфузоматы. Или эндопротезы. И это не Бог весть что.
– Принят закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», где в ч. 4 ст. 10, ч. 1 ст. 32 говорится: «Победителем торгов на поставки лекарственных средств становится поставщик лекарств, предложивший наиболее низкую цену контракта». Часть 1.1 ст. 46.6 того же закона требует при размещении заказа на лекарственные препараты указывать не торговое наименование, а международное непатентованное наименование (МНН). В итоге многие больные вместо оригинальных лекарств получают дженерики с тем же действующим веществом, но большими побочными эффектами. Насколько это опасно для конкретного пациента и насколько сказывается ситуации по России в целом?
– Проблема дженериков, безусловно, существует, но и это – последствия безумных 90-х, когда всё отечественное было разрушено, а нефтедоллары тратились без счета. Я думаю, что эта ситуация тоже будет решаться.
Надо налаживать производство антибиотиков и необходимых медицинских средств у нас. За счет закупок медикаментов мы не решим проблему доступных лекарств в нашей стране, и у нас не будет никакой перспективы.
У нас и денег не хватит, чтобы все покупать на Западе. Нужно развивать свое. Да, есть такая проблема – проблема дженериков. Боремся, справляемся. Потихонечку. Не так быстро, как хотелось бы.
– С вашей точки зрения, пациент должен знать свой онкологический диагноз?
– Должен. Но не каждый. Это определяет врач. Многое зависит от психотипа, от социального статуса пациента. Врач смотрит, как пациенту легче. Сейчас пациенты в большей степени информированы о своем здоровье, чем раньше. Мы сейчас чаще сообщаем диагноз. Сейчас почти все больные, с которыми я веду беседы, знают о своем заболевании почти все.
Жизнь изменилась, человек более прагматично подходит к своей жизни, у него много проблем, много обязательств перед близкими, он должен понять, как урегулировать вопросы наследования, многие юридические вопросы. Это ответственность перед другими людьми.
Есть разные методы лечения, и мы обсуждаем это с пациентами. Говорим о прогнозах, о рисках. Многие методы конкурируют, есть свои плюсы, свои минусы. Человек выбирает. Многие методы лечения связаны с потерей каких-то функций, которые человек не хочет терять, даже под угрозой сокращения срока жизни. Это очень серьезные вопросы.
– Должен ли знать свой диагноз ребенок или подросток?
– По закону требуется согласие родителей. Зачастую дети не знают диагноза. Но подростки уже читают Интернет, и многие знают. Чаще всего, разумно сказать диагноз: дети очень быстро взрослеют, столкнувшись с бедой. Они информированы о заболевании, все понимают и воспринимают как данность.
Я видел молодых людей, которые знали, что умрут через год, а продолжали готовиться к экзаменам в институте. Бывает такая стойкость. Это такая форма жизни, как у бабочки: один живет чуть больше, другой – меньше, а кому-то суждено прожить всю эту жизнь в течение одного дня. 18 лет живет человек или три года – но это жизнь.
Мы боремся за то, чтобы увеличить ценность жизни, саму жизнь продлить ребенку.Развивается работа с болью, потому что, естественно, ни взрослый, ни ребенок не должен страдать, и надо обеспечить ему достойный уход из жизни. Это очень тяжелый, но очень важный вопрос. И это наша рабочая реальность.
– В СМИ появляются рассказы об уходящих от рака детях и «инструкции» для родителей: как поговорить с ребенком, как отвечать на его вопросы, когда он начинает подозревать, что он безнадежен.
– Уже есть, безусловно, опыт хосписной помощи. Но многие вещи ребенку сложно объяснить, и многие вещи ему не надо знать. Если вы придете в Институт детской онкологии, то вы увидите, что маленькие пациенты продолжают играть, они веселятся, они отвлекаются, они живут обычной детской жизнью – но глаза взрослые уже, потому что они страдают.
– Бывает ли, что родители просят вас сказать ребенку о диагнозе и прогнозе?
– Ни разу не просили. Я часто разговариваю с детьми, мы обсуждаем, какие операции будем делать, другое лечение. Но чтобы родители пришли и сказали: «Расскажите нашему ребенку, что он умрет», – нет. Мы дружим, общаемся с детьми, как со взрослыми людьми, но никто меня не просил что-то рассказать ребенку такое, что не решаются сказать сами.
– А скрывать диагноз просили?
– Бывает, что об этом просят родственники взрослых пациентов. Многое, что не надо знать ребенку, мы не говорим – зачем? Ребенок не вполне дееспособен, за него несет ответственность родитель. И то не всегда он имеет право на это.
Кстати, по закону мы берем согласие родителей на лечение ребенка. Были ситуации, когда родители отказывались от лечения, по каким-то причинам – религиозным, как им казалось, или из-за каких-то заблуждений. И забирали. Я всегда думал: какое они имели право? Это фактически непредумышленное убийство. Но зачастую они просто исчезают – и все. Я знаю, что, например, в Германии очень жестко: сразу лишают родительских прав на время лечения.
– С вашими пациентами работают онкопсихологи?
– Психологи работают и с родителями, если говорить про детскую онкологию, и с детишками. В Российской Федерации эта служба развита в недостаточной мере, но такие специалисты появляются. Естественно, пациенты с онкологической патологией находятся в стрессе, и они нуждаются в работе с психологами. Врачам зачастую не хватает времени, чтобы психологически поддержать больного.
Важна не только работа с психологами, но и обстановка у больного дома – как родственники к нему относятся. Важно, как общество принимает больных. Сейчас, если идет пациент после химиотерапии, лысый – все оборачиваются, пальцем показывают. Вы знаете, даже врачи скрывают от администрации, если у них обнаружено онкологическое заболевание, потому что боятся, что к ним будут относиться, даже в профессиональной среде, как к некомпетентным членам команды.
У нас нет всеобщего понимания, образованности, культуры – мы должны в себе это формировать. Социальная адаптация больных у нас тоже не на высшем уровне. Делаются только первые шаги в этом плане. Вот сделали Сочи – безбарьерный город, провели Паралимпийские игры. Наша задача – распространить такой опыт, чтобы не было барьеров не только для людей-колясочников, но и для онкологических больных, для пациентов с другими заболеваниями. Это большая, сложная работа на многие годы.
– В масштабах страны – это другой вопрос, а как работает онкопсихолог в масштабах конкретного случая? Если у человека депрессия или просто усталость от продолжительного лечения.
– Этот вопрос, конечно, лучше задать онкопсихологам, потому что я не знаю нюансов. Я только один раз видел, как врач хосписа работает с пациентом – мне очень понравилось. Они действительно большие молодцы. Внимание очень важно человеку. Больной цепляется за благоприятные моменты, которые врач находит в его состоянии.
Вчера, например, у вас был кожный зуд, сегодня его не стало – это хорошо. Вчера была температура, сегодня нет. «Вы сегодня хорошо спали? О, это очень важно. Аппетит у вас есть? Это тоже очень хорошо, помогает в лечении, это говорит о том, что лекарство действует, и поэтому у вас появляются жизненные силы».
Врач должен бороться за перспективу. Должен формировать какую-то реальную перспективу (или хотя бы иллюзию), чтобы человек имел силы бороться, потому что, естественно, пациент – твой партнер. Он не просто какой-то подопытный организм, на котором врачи ставят эксперименты. Он – партнер, он должен помогать своей волей, своей выдержкой, подсказывать, что не так в его состоянии, чтобы врач мог разобраться в ситуации.
Задача онкопсихолога – в том числе, вывести пациента на этот уровень доверия. Он должен информировать пациента, рассказывать о позитивных опытах в лечении. Например, есть опыт прославленного велосипедиста Лэнса Армстронга, он написал книгу «Не только о велоспорте: мое возвращение к жизни» (It’s Not About the Bike: My Journey Back to Life). Читали? Прочитайте, фантастическая книга.
Я прочитал ее прошлым летом и был просто поражен. Выдающийся велосипедист, у которого был рак яичек с метастазами в головном мозге, у него был паралич, и не было, как считали, перспектив. После этого он еще семь раз выиграл «Тур де Франс». Правда, потом был допинговый скандал… Но это легенда, это Мересьев нашего века. Фантастика. Вот пример стойкости, мужества..
У нас некоторые пациенты выживают вопреки. Когда спрашивают: «Какой прогноз?» – мы говорим в процентах. Иногда говорим: «Да, у вас низкий процент», – но вот есть же эти 10–15%, которые выжили, справились с болезнью. Мы многого не знаем, на самом деле, а жизнь зачастую зависит от того, чего мы не знаем.
– Столкнувшись с раком, люди ищут и находят истории чудесных исцелений, непонятных для врачей ремиссий. В вашей практике они хоть раз встречались?
– Непонятные ситуации мы пытаемся все же объяснить. Многие вещи невозможно объяснить. Они не обязательно связаны с чудом (хотя, естественно, уже то чудо, что человек живет). Чем больше мы узнаем про онкологические заболевания, тем чаще понимаем, что раньше мы рассматривали эту болезнь как одну болезнь, а на самом деле в ней есть подвиды, разновидности, и одни более благоприятны, а другие менее.
То есть от нашего знания, информированности и достижений в науке приходит и более широкое понимание чудес, которые происходят в медицине. Когда лечат, вроде, всех одинаково, но один умер, другой выжил. Могли неправильно поставить диагноз. Зачастую на консилиуме три классных морфолога ставят каждый свой диагноз при исследовании одного и того же препарата. У детей бывают абсолютно непредсказуемые возможности борьбы с болезнью. Всякое бывает. Они переносят колоссальные испытания, лечение, и справляются с этим.
– Но рассчитывать на чудо не стоит?
– Рассчитывать на чудо обязательно стоит. Надо верить в чудо. Без веры, без перспективы нельзя жить. В лучшее надо верить, поэтому мы стараемся вселить это в наших пациентов. Некоторые, конечно, перестраховываются и говорят: «Вы умрете, но мы постараемся что-то сделать», – я считаю, что это неправильно. Надо стараться поддерживать у людей надежду.