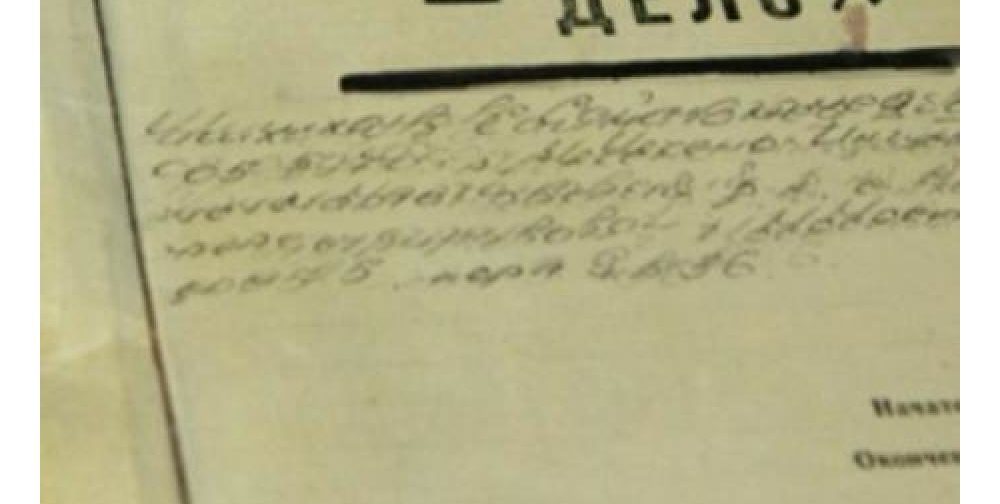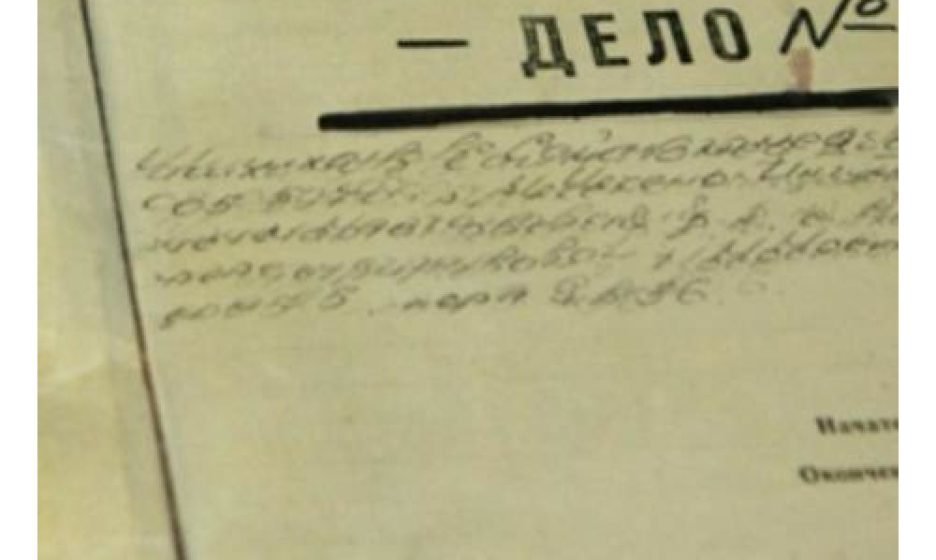
Человеку, мало знакомому со следственными делами, даже трудно представить себе, какие опасности поджидают его в этой работе. В настоящий момент в государственных и ведомственных архивах Москвы и других городов проводится большая работа по просмотру так называемых “церковных” следственных дел. Это связано с тем, что появилась возможность на примерах многих и многих подвижников проследить мученический путь Русской Православной Церкви в нашем XX веке, и с тем, что идет сбор материалов для канонизации и прославления новомучеников и исповедников Российских.
Знакомясь со следственными делами, бесценными для нас во многих отношениях (и прежде всего потому, что подчас это единственный источник сведений о пострадавших за веру), нам необходимо знать, насколько можно доверять этим материалам, и помнить о некоторых особенностях работы с ними.
Начнем с общеизвестного — того, что дела эти заводились отнюдь не для выяснения истины, а как раз с противоположными целями. Придерживаясь темы, к сожалению, придется меньше вспоминать мучеников, а больше — мучителей. Это нужно для того, чтобы обобщить хоть и известные, но разрозненные сведения о том, как именно проводилось следствие на протяжении конца 20–30-х гг. Так как я занимаюсь делами расстрелянных под Москвой на Бутовском полигоне (их по имеющимся на руках документам около 21 тысяч), мне в отличие от моих коллег по Православному Свято-Тихоновскому Богословскому институту приходится просматривать не только “церковные”, но и политические, и уголовные дела, и те, что невозможно отнести ни к тем, ни к другим (к этим последним относятся дела, заведенные за прошлые судимости, по которым вновь обвиняемый уже полностью отбыл срок наказания).
Между делами “церковными” и “нецерковными”, проходящими по одной и той же 58-й статье (в основном, пп. 10–11, реже — 6 или 8) — большая разница. Мы видим, что в большинстве случаях ни кровь, ни страдания, понесенные чадами Церкви, не могут заставить христиан возвести хулу на Церковь, поколебать их любовь к Богу даже перед лицом смерти; работая со следственными делами христиан, мы удостоились видеть их подлинную радостную готовность умереть за Христа.
“От Бога мы не отказывались и никогда не откажемся, что хотите, с нами делайте”, — говорят на допросе монахини Акатовского (Алексеевского) монастыря[1]. Подобные слова, сказанные в лицо своим мучителям, нередко встречаются в следственных “церковных” делах.
Священнослужители и миряне чаще всего обвинялись в антисоветской агитации, выражающейся “в монархических настроениях” и в “недовольстве политикой партии и правительства” из-за гонения на Церковь. Это последнее обвинение, записанное пером следователя, приобретало порой форму полнейшей бессмыслицы: истерзанный священник, находящийся в тюремных узах, обвинялся в “распространении ложных сведений” о том, что “священники арестовываются, храмы закрываются”. Подобные обвинения не редкость в 30-е годы. Но вопреки себе следователи в этих случаях писали чистую правду. Все так и было: священники арестовывались именно за то, что они священники, верующие — за то, что верующие. Самое серьезное обвинение, выдвигаемое против “церковников” (так писали следователи тех лет) — это участие в “контрреволюционной церковной группировке” или в “нелегальной церковно-монархической организации” со “Всесоюзным центром и филиалами на местах”; к такой организации чекисты отнесли, например, “ИПЦ” — дела 1928 и 1930–1931 гг.[2]. Но здесь все, как обычно. Более сложны для исследователя дела послевоенные, по которым священники, служившие в тяжелейших условиях оккупации, проходят как “пособники немцев”.
Работая со следственными материалами, мы должны постоянно помнить, что “церковные” дела, несмотря на их кажущуюся прозрачность, так же лживы, как и другие. Только здесь ложь не лежит на поверхности, а потому она представляется более опасной.
Собирая материалы для комиссии по канонизации, мы стараемся понять, выстоял ли на допросах священник или мирянин; не оговорил ли кого, не назвал ли имена людей, которые впоследствии были арестованы (или могли быть арестованы). И здесь, хотим мы этого или нет, мы берем на себя роль судей, причем в вопросе заведомо неразрешимом. Некоторые подследственные категорически отказываются называть какие-либо имена; чаще всего это простые монахи и монахини. Таких дел немного, но они есть. Как правило, в подобных следственных делах мы видим один, реже два коротких допроса. Но означает ли это, что люди, отказавшиеся назвать какие-либо имена, обладают большей твердостью духа и большей верой в помощь Божию, чем другие, мы не можем знать. Единственное, в чем не приходится сомневаться, это в том, что обвиняемые, не назвавшие ничьих имен, на тот момент просто не интересовали следствие. Причины этому могли быть самые прозаические; о них будет сказано дальше. В основном же подследственные, не отрекаясь от своих религиозных убеждений и чувств, обычно, если верить протоколу, называют три-пять-десять, а то и больше имен. Но мы не должны верить этому безоговорочно. Может быть, так все и было, а может быть и нет. Занимаясь столь ответственным делом, как собирание материалов по новомученикам, мы не имеем права идти на поводу у следствия, которое и затевалось-то только затем, чтобы оболгать все и вся и имело возможность и множество способов это сделать. Обратим внимание, что рядом с названными именами людей обычно пишутся точные их адреса (иногда их более десяти), что представляется совершенно неправдоподобным для реальной ситуации допроса.
Мы, конечно, знаем, что подавляющее большинство протоколов писалось заранее, но в конкретной работе опять и опять забываем об этом. Полезно было бы приглядеться к ровному бесстрастному почерку, которым заполнены многие страницы протоколов допросов. Так не пишет человек, который без конца прерывается, чтобы задать вопрос, выслушать ответ, и чернила ведут себя в этом случае по-иному. Да и сами впоследствии арестованные следователи неоднократно подтверждали, что они “днем сочиняли протоколы, а ночью заставляли их подписывать” (из показаний оперуполномоченного Кунцевского РО НКВД Куна).
В последние годы стало известно, что для ведения уголовно-следственных дел существовали две группы следователей, которые на жаргоне сотрудников НКВД назывались литераторами и забойщиками. Забойщики “выбивали” подписи под протоколами допросов, а литераторы составляли сами протоколы, которые редактировались начальством и посылались в высшие инстанции. Назывались эти сочинения “обобщенными протоколами”[3]. Для их составления имелись весьма сведущие люди, которые отвечали на интересующие следствие вопросы от имени обвиняемых: ученых, известных писателей, главных инженеров заводов, конструкторов, военных специалистов. Не приходится сомневаться, что подобные “сочинители” существовали и для некоторых особо важных “церковных” дел. Но в массе своей “церковные” дела конца 20–30-х гг. не представляли особого интереса для служб ОГПУ–НКВД, и этими делами скопом занимались рядовые, часто безграмотные следователи, не имевшие ни малейшего понятия о жизни Церкви.
Фальсификацией следственных дел (или, на языке чекистов, — липачеством) занимались все райотделы Управлений НКВД, в том числе, Москвы и Московской области. Из-за обилия дел в конце 30-х гг. к следственной работе стали привлекать людей из других ведомств и учреждений. Так, арестованный в 1940 г. начальник городской пожарной охраны А. С. Живов рассказывал, что он, как и другие его сослуживцы-пожарники, а также призванные со стороны работники ЗАГСа и фельдсвязи изготовляли протоколы допросов по “вопроснику”, который предоставляли им сотрудники Кунцевского РО УНКВД Каретников и Кузнецов. “Фактически никаких допросов не было”, — сообщает оперуполномоченный Мытищенского РО УНКВД Н. Д. Петров[4]. (Мытищенское РО НКВД отличалось тем, что проводило расследование в течение суток. Особенно усердствовал в деле фальсификации следственных дел уполномоченный Прелов со своей группой. Когда пришли арестовывать его самого, он, прекрасно понимая, что его ждет, застрелился).
О том, как проходила работа по изготовлению липаческих протоколов в Кунцевском РО УНКВД, рассказывает инструктор ЗАГСа Петушков: “Часть протоколов <начальником Кунцевского РО УНКВД> Каретниковым писалась заранее, то есть они печатались на пишущей машинке под диктовку, а после он давал приказание работникам ЗАГСа переписывать с напечатанного в бланк протокола допроса. После этого вызывался арестованный, и ему предлагалось подписать написанный заранее протокол”.
Конечно, к признаниям бывших следователей или тех, кто привлекался к проведению следствия, надо тоже относиться критически. Но совершенно очевидно, что ложь здесь была иного рода. Пытаясь снять с себя ответственность за содеянное, эти работники перекладывали вину друг на друга и на вышестоящие чины.
Рассказывает начальник Коломенского РО УНКВД Галкин: “Протоколы писались в отсутствие обвиняемых специальной группой сотрудников. Другая группа принуждала подписывать”.
Таким же образом, по признанию самих следователей, фабриковались “собственноручные признания” и даже протоколы очных ставок. Как пример можно привести рапорт начальника Первого спецуправления УНКВД МО старшего лейтенанта Овчинникова на имя начальника Управления НКВД по МО майора Журбенко. В рапорте по делу рабочего Рыцарева говорится: “В следствии имеется протокол очной ставки Рыцарева с Минайченковым. По заявлению Рыцарева и Минайченкова, очной ставки фактически не было, и этот протокол подписан под угрозой насилием”[5].
Конечно, есть случаи, когда не приходится сомневаться, что протоколы признаний написаны со слов самого обвиняемого или же им самим. Эти протоколы для исследователя, может быть, представляют самую большую ценность: по ним можно изучать историю Церкви и восстанавливать чуть ли не по дням церковную жизнь тех лет. Но это — редчайшие случаи, единицы — на тысячи. Обычно печальная слава об этих людях проникала за стены тюрем. Они были известны в церковных кругах. Но не о них сейчас речь, а обо всех других.
Если, как говорят знающие люди, допросов “фактически не было”, откуда же появляется в протоколах обвиняемых множество названных ими подлинных имен и адресов будущих жертв НКВД? Для этого, как мы знаем, существовала целая армия осведомителей. Часто это были ближайшие, совершенно “свои” люди, хорошо знавшие окружение обвиняемых и специально собиравшие о них сведения. Иногда из-за небрежности и спешки следствия можно увидеть следы их деятельности: попадаются дела, где подследственные в числе своих знакомых называют и самих себя, что ни в коем случае не могло бы иметь места, если б это были их собственные признания. В других случаях, как, например, в деле последнего настоятеля Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Кронида[6], мы также замечаем некоторую нестыковку. На первом допросе преподобномученик Кронид якобы называет четырнадцать иеромонахов, служащих на приходах Загорского благочиния, но в дальнейшем он отказывается отвечать на тот же самый вопрос, как будто он на него уже не ответил. Где правда?
В хранящейся в деле преподобномученика Кронида справке на начальника Загорского РО УНКВД, арестованного в 1939 г., имеется признание его подчиненных. Оперуполномоченный Васильев И. В. на допросе 5 марта 1939 г. показывает: “Я лично видел, как Сахарчук, Бунтов и Хромов заранее заготовляли протоколы допросов, которые передавали пожарному инспектору Малееву для предъявления и подписи обвиняемому”[7].
Неотъемлемой частью следственного дела являются свидетельские показания (хотя попадаются дела конца 30-х гг., где нет ни одного допроса свидетеля; это относится в основном к делам по СОЭ и СВЭ[8], арестованным и расстрелянным за прошлые преступления). В отношении свидетельских показаний тоже очень легко оказаться обманутым, так как свидетельские показания точно так же писались следователями заранее и требовалась лишь подпись свидетеля. Следователи Воскресенского РО УНКВД Сукуров В. М. и Власов А. И. показывают, что существовали постоянные “штатные” свидетели, которые подписывали показания на незнакомых людей, не читая. О “штатных” свидетелях сообщают также сотрудники Коломенского РО УНКВД Терновский С. Н., Леонов А. Г., Голубятников Е. А., Ушаков И. С., Кожемякин И. В. В 1940 г. Коломенским РО рассматривалось дело о фальсификации 120 следственных дел, 58 из которых закончились для обвиняемых расстрелом. Арестованный бывший следователь Ким А. С. рассказывает, что свидетелей поднимали ночью и вели их под конвоем в районный отдел УНКВД. Там их вынуждали подписывать “целые пачки” заранее составленных свидетельских показаний на людей, которых они в глаза не видели. В случае сопротивления или нерешительности к свидетелям применялись “меры устрашения” и “физического воздействия”. Их даже, как и обвиняемых, ставили “на стойку” на двое и более суток. А. С. Ким называет около десяти “штатных” свидетелей, работавших на его следственную группу. (Как светлый луч в беспросветном мраке, в одном из дел мелькает сообщение о начальнике Пушкинского РО УНКВД, который — единственный из всех в 1937–1938 гг. в Московской области — отказался производить необоснованные массовые аресты и пользоваться показаниями лжесвидетелей. Он был, конечно, тут же арестован. Трудно предположить, что его вскоре же не расстреляли).
Фальсификация свидетельских показаний так же трагична, как и фальсификация показаний самих обвиняемых, так как оказываются оклеветанными не только сами подследственные, но и их родные, близкие, знакомые, имена которых фигурируют в свидетельских показаниях. Здесь корень многих недоразумений и драматических ситуаций, тянущихся потом десятилетиями и даже переходящих из поколения в поколение. Читая следственные дела своих близких, люди верят написанному и не могут даже представить себе всего сатанинского механизма следствия.
Где-то за пределами слышимого и видимого существовали еще некие лица, вносившие свою лепту в узаконенную фантасмагорию лжи. Это “СС” (или сексоты) — тщательно оберегаемые секретные сотрудники, агенты под какой-либо кличкой, доставлявшие сведения для будущего следственного дела, осуществлявшие слежку, “внедрение”, наружное наблюдение, “отработку связей” какого-нибудь ничего не подозревающего, занятого своим делом человека. Таинственные “командировки”, явочные квартиры, шифротелеграммы — весь арсенал детективных средств был к услугам этих “СС”. Агентурные дела хранятся отдельно в особом оперативном архиве, который почти недоступен для исследователей. Так может, хоть в агентурных делах мы могли бы найти правдивые сведения об интересующем нас человеке? Но и эти материалы, судя по тем нескольким делам, что удалось посмотреть, могут быть полны умышленного и неумышленного вранья и являются просто платной отработкой заказа. (Так, например, поверх рапорта о “командировке” некоего секретного сотрудника начальственной рукой начертано: “Видать, ездил прогуляться по семейным делам, подлец” и здесь же — “проверить на дезинформацию”. Следующая бумага агентурного дела уже из Бутырки, где “СС” находится в качестве заключенного; он молит о пощаде и обещает “тяжелым трудом в концлагере искупить свою вину”[9]).
Еще один камень в основании следственного дела — признание вины обвиняемым. Все мы знаем, как получали эти признания вины. По рассказам самих следователей, в разных РО были свои излюбленные методы их получения. В Смоленском УНКВД это была парилка (или, на жаргоне мучителей, салотопка), сажание на высокий круглый стулик, на кончик или ножку табуретки; в Коломенском, Кунцевском, Мытищенском РО УНКВД — морозильная камера, стойка (или конвейер), переталкивание, скидывание со стула и везде — избиения, избиения, “мордобой”, как сообщают нам сами следователи. И тем не менее, в “церковных” делах мы достаточно часто видим формулировку: «Виновным себя не признал (или “признал частично”), но уличается показаниями свидетелей». Перед нами опять встает тяжкая проблема выбора. И мы, конечно, отдаем предпочтение тому, кто не признал возведенных на него ложных обвинений, подозревая в нем особую духовную силу — снова попадаем в одну из ловушек следствия.
Оказывается, в 1937–1938 гг., когда райотделы Управления НКВД захлебывались от избытка следственных дел, существовал спущенный сверху обыкновенный советский план на так называемые “признательные дела”, то есть дела, по которым обвиняемый признавал свою вину. Например, в Кунцевском РО УНКВД план был — 45–50 “признательных дел в пятидневку”, в других райотделах, вероятно, были свои цифры. Какое-то количество дел могло оставаться “непризнательными” без ущерба для служебной репутации сотрудников НКВД. Все завершенные дела посылались для представления на тройку. Случалось, что число “непризнательных” протоколов превышало требуемый процент. Иногда это сходило с рук, но чаще всего дела с нареканиями возвращались для “доработки”, и можно не сомневаться, что эти цифры немедленно исправлялись ценой сил, здоровья, а то и жизни обвиняемых.
Наконец, последнее. Подпись. Здесь тоже не все так просто.
Только в исключительных случаях мы не видим подписи обвиняемого под протоколами допросов. Каждый раз это специально оговаривалось: “Отказался поставить подпись”. Но такое случалось лишь на ранних стадиях следствия. В конце концов, подпись обязательно появлялась. Как это происходило? Судя по рапортам на имя начальника УНКВД по МО, мы понимаем, что следователи вообще не трудились читать свои сочинения подследственным. Да и зачем они стали бы это делать?
“Как вы добились подписи обвиняемого?” — спрашивали при пересмотре дела следователей, обвиняемых в фальсификации следственных дел. “Обманом, обманным путем”, — обычно отвечали те. Вот несколько фраз из протокола допроса следователя Мытищенского райотдела:
“Вопрос:
— Давая подписывать протокол, зачитывали ли вы его подсудимому?
Ответ:
— Нет, не зачитывал.
Вопрос:
— Почему?
Ответ:
— Потому, что там были вымышленные факты… Если бы он знал содержание протокола допроса, он мог бы не подписать”[10].
Еще — из рапорта на имя Журбенко: “Протокол допроса, составленный оперуп. Мытищенского райотдела УНКВД Преловым и Петровым, не был зачитан подсудимому Жольнерису, и, несмотря на его просьбы прочитать, ему было в этом отказано. Протокол подписан под угрозой насилием”[11].
Бывало, что подписи обвиняемых подделывались. При просмотре дел попадаются служебные расследования по этому поводу и материалы графологической экспертизы, удостоверяющей подлог. Были и другие способы добиться подписи — убеждение, внушение, что это необходимо для пользы самого обвиняемого, пользы дела, партии, родины… Существовал еще один совсем уже варварский способ. О нем сообщается также в рапорте старшего лейтенанта Овчинникова на имя майора Журбенко.
“ГУСТЫРЬ В. Г., 1892 г. р., рабочий-истопник <…> обвиняется в том, что являлся поляком, за границей имеет родственников. В 1936 г. завербован для шпионской деятельности в пользу Германии.
При отборе для приведения приговора в исполнение заявил, что по национальности он белорус, родственников за границей не имеет. На основании этого приведение приговора было приостановлено. Дальнейшей проверкой и опросом осужденного установлено, что ГУСТЫРЬ является совершенно безграмотным и протокол допроса подписывал с помощью сотрудника (давали в руку ручку и его рукой выводили подпись)”[12].
Теперь мы должны спросить себя: может ли следственное дело, этот клубок лжи, клеветы и насилия, служить критерием не то что святости, но и простого человеческого достоинства или недостоинства? В настоящий момент просмотрено огромное количество следственных дел, но просмотрены они с известной степенью доверия. А ведь не имея в руках ничего, кроме следственных документов, мы не можем быть уверены ни в чем, кроме того бесспорного факта, что человек был незаконно расстрелян, а по “церковным” делам — что он несомненно пострадал за веру. И это все, чем мы располагаем. Мы должны постоянно помнить, что следователи, которые вели “церковные” (да и все другие) дела, нам не помощники. Всякие оценки в отношении допросов обвиняемых, “собственноручных признаний”, свидетельских показаний, признаний вины и подписей должны быть исключены. Мы обыкновенные люди, наши возможности ограничены. Мы можем не разглядеть за нагромождениями лжи чьего-то высокого подвига, чьей-то, может быть, истинной святости, предпочтя им более безукоризненное, на наш взгляд, поведение на следствии. И праведники снова будут гонимы, но уже с нашим участием. Нужен какой-то иной подход, иная концепция в работе со следственными делами, если пользоваться ими как единственным источником при сборе материалов для канонизации.
Несмотря на все вышесказанное, мы чрезвычайно дорожим возможностью работать с материалами следствия, где находим массу биографических сведений о священнослужителях и мирянах, ценнейшие фотографии, письма, проповеди священников и даже церковные документы. А главное, следственные дела помогают нам восстанавливать имена убиенных, буквально вынимая их из бездны забвения и возвращая эти имена Церкви для поминовения и славы ее. Но работать со следственными делами мы должны предельно осторожно и деликатно, и упаси нас Бог судить о ком-либо или о чем-либо, основываясь лишь на документах следствия.
**Автор — ответственный редактор «Книги памяти жертв политических репрессий “Бутовский полигон”».
[1] ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 21061.
[2] ЦА ФСБ РФ. Д. 7377; ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 28850. “ИПЦ” — “Истинно-православная церковь”.
[3] Борщаговский А. Обвиняется кровь. Документальная повесть. М., 1994.
[4] ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 62257.
[5] Архив Группы по увековечению памяти необоснованно репрессированных.
[6] Прославлен на Юбилейном Соборе 2000 года. — Ред.
[7] ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-59458.
[8] СОЭ — социально опасный элемент, СВЭ — социально вредный элемент.
[9] Архив Группы по увековечению памяти необоснованно репрессированных.
[10] Архив Группы по увековечению памяти необоснованно репрессированных.
[11] Там же.
[12] Там же.