Можно ли переводить Священное Писание, и если да, то как это делать? Чему переводчик может научиться у святых отцов, которые вели догматические споры с еретиками? Размышляет Андрей Десницкий.
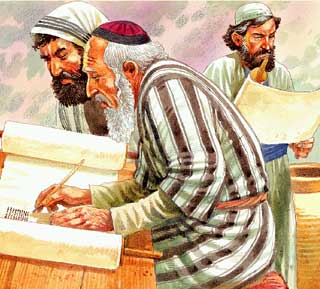 В Талмуде сказано: «Кто переводит Писание буквально, тот лжет, а кто переводит его свободно — богохульствует». Стало быть, лучше всего вообще не переводить, да многие консервативные иудеи так это и понимают: Писание для них существует только на языке оригинала, любые иные его версии — всего лишь вспомогательный материал. А на самом деле надо изучать древенееврейский и арамейский.
В Талмуде сказано: «Кто переводит Писание буквально, тот лжет, а кто переводит его свободно — богохульствует». Стало быть, лучше всего вообще не переводить, да многие консервативные иудеи так это и понимают: Писание для них существует только на языке оригинала, любые иные его версии — всего лишь вспомогательный материал. А на самом деле надо изучать древенееврейский и арамейский.
Христиане могли бы добавить слова «а кто отказывается от перевода, тот впадает в иудейство». И дело не только в том, что изучать древние языки трудно, отказываться от перевода непозволительно тому, кто верит во Христа как Воплощенное Слово. Не случайно и евангелисты не стали записывать буквально изречений Иисуса, прозвучавших на арамейском или еврейском, а привели их на греческий, т. е. уже на язык, понятный наибольшему числу читателей.
Впрочем, всегда находились возражения. Так, в начале XIX в. президент Академии наук и министр народного просвещения (!) адмирал А. С. Шишков настаивал, что Библия в принципе не должна переводиться на языки народов Империи, включая русский. Вместо этого все должны изучить церковнославянский, включая «инородцев» от кавказских горцев и до сибирских оленеводов. Впрочем, и святым Константину-Кириллу и Мефодию в свое время препятствовали создавать славянский перевод и ровно по тем же соображениям: пусть эти славянские дикари выучат священные древние языки и точка.
Так что переводить все-таки надо, но как же переводить, чтобы не оказаться ни лжецом, ни богохульником? Одни настаивают на переводе как можно более точном (т. е. буквальном), а другие стремятся любой ценой передать смысл. Вероятно, для православного христианина важно будет понять, что вообще говорили отцы церкви о языках и священных текстах.

Фото Анны Гальпериной
Раннехристианские писатели нечасто обращались к языковым вопросам и, во всяком случае, не придавали им вероучительного значения. Например, Феодорит Кирский, рассуждая о первичном языке всего человечества и о том, мог ли им быть язык древнееврейский (сам он полагал, что не был), делает такой вывод: «Но спорить о сем дело излишнее, потому что не вредит учению о благочестии, примем ли то или другое».
Вообще, отцы вполне следовали представлениям своего времени и своей культуры, оставаясь в русле тех рассуждений о природе языка, которые велись греческими философами со времен Платона. Особую роль играет здесь трактат святителя Василия Великого «Против Евномия» (IV в.). В нем опровергается крайнее арианское учение Евномия о тварности Сына и Духа. Понятно, что это учение было отвергнуто Церковью, но, казалось бы, причем тут вопрос о языке?
На самом деле, вопрос о природе языка играл здесь ключевую роль. Насколько слова могут передавать нам знание о Боге, высшей и наименее очевидной реальности? Очевидно, что этот вопрос одновременно служит и вопросом о терминологической точности священных текстов: может ли слово исчерпывающим образом выразить реальность?
Для евномиан язык был дан человеку непосредственно Богом, и некоторые имена исчерпывающим образом отражали самую сущность вещей, к которым они прилагались. То есть если «Сын», то непременно «рожденный спустя какое-то время», ведь именно так рождаются дети в нашем мире. А значит, Сын не вечен, не равен Отцу.
На это святитель Василий возражал, что сущность Бога непознаваема и никакие имена не могут ее выразить полностью. Связь между словом и мыслью, а тем более между словом и понятием или вещью, которые оно обозначает, не линейна и не однозначна, она во многом определяется договоренностью людей об употреблении этих самых слов (кстати, подобные рассуждения о природе языка найдем мы и в его «Шестодневе»). Так св. Василий отверг примитивный рационализм, втискивающий Бога в рамки наших словесных определений, и утвердил достоинство апофатического богословия. Оно стремится приблизиться к Его познанию с помощью словесных описаний, условных и далеких от полноты, но понимает, что задача эта решается лишь отчасти.
Св. Василий писал: «имена употребляются людьми к познанию и различению сущностей или вещей, и того, что входит в мышление при сущностях. Поэтому не почитай странным, что Богу приписывается чрево, потому что не странно приписать Ему руку и все прочее, пред сим исчисленное. А поэтому, да не кажется странным тебе и всякому из слышащих приписываемое Богу рождение». Таким образом, даже разные имена могут указывать на одну и ту же сущность, «ибо не за именами следует природа вещей, а наоборот, имена изобретены уже после вещей».
Особенно хорошо это видно на примере метафор: называя Христа светом или виноградной лозой, мы лишь указываем на нечто из Его свойств, имеющих сходство со свойствами лозы или света. При этом каждая такая метафора открывает лишь очень небольшую часть свойств Божества, потому и разные метафоры порой даже как будто противоречат друг другу: свет не приносит плодов, а лоза ничего не освещает. Но если рассматривать их совокупно, то «многие и различные имена, взятые в собственном значении каждого, составляют понятие, конечно, темное и весьма скудное в сравнении с целым, но для нас достаточное. Из имен же, сказуемых о Боге, одни показывают, что в Боге есть, а другие напротив, чего в Нем нет. Ибо сими двумя способами, то есть, отрицанием того, чего нет и исповеданием того, что есть, образуется в нас как бы некоторое отпечатление Бога». Подобные мысли мы встретим и в трактате Св. Григория Нисского «Опровержение Евномия», и, между прочим, всё это очень созвучно современным научным работам по теории метафоры.
Позиция святых Василия и Григория означает принципиальный отказ от «единственного священного языка» и от «единственно правильных терминов», которые заключают в себе сущность Божества (как это иногда выглядит в школьном богословствовании). Они никак не исключают следования определенной традиции или употребления устоявшихся терминов, а лишь подчеркивают, что эта традиция и эти термины еще не есть сама Истина, а лишь проверенный временем способ сказать о ней.
Кроме того, стоит отметить, что принципиальный подход этих богословов к вопросу о природе языка вполне совместим с основами современной лингвистики, которая тоже видит в языке прежде всего средство общения между людьми.
Помимо полемики святителей Василия и Григория с Евномием, это учение об именах, характеризующих не сущность Бога, но его действие в тварном мире (энергии), можно найти у преподобного Иоанна Дамаскина в «Точном изложении православной веры», у святого Дионисия Ареопагита в книге «О Божественных именах» и в различных произведениях преподобного Симеона Нового Богослова.
Непосредственным продолжением этих разговоров можно считать паламитские споры XIV в. Их сутью было, по определению владыки Илариона (Алфеева), «богословское обоснование христианского понимания Бога как одновременно непостижимого и постижимого… неименуемого и именуемого, неизреченного и изрекаемого». Для этого православное богословие отличает непознаваемую сущность Божества от Его энергий, доступных человеческому восприятию в той мере, в которой Бог открывается человеку, и введено это различие было задолго до паламитских споров.
Потому ничего принципиально нового в учении святителя Григория Паламы не содержится: энергия Бога есть Сам Бог, но Бог не сводим к энергии. Противники Паламы, прежде всего гуманисты Варлаам и Акиндин, в определенном смысле ударились в противоположную евномианству крайность: они утверждали принципиальную непознаваемость Божества ограниченным человеческим разумом. Если для Евномия Бог оказывался предметом рационального анализа, то для Варлаама Он пребывал в трансцендентном покое, недоступным для нашего разума. Эта другая крайность, как мы видим, тоже была отвергнута православными.
Всё это имеет прямое отношение к вопросу о языке в церкви. Для православного богословия сущность Божества принципиально непознаваема и потому неименуема (вопреки Евномию), но Его энергии могут быть восприняты человеком и названы им, при всей условности и ограниченности этих названий (вопреки Варлааму). При этом различаются нетварная энергия и рукотворный символ: оба они позволяют человеку приблизиться к Богу, но их природа совершенно различна.
Как же переводить священный текст, описывая нетварное с помощью обычных человеческих слов? Талмуд, получается, прав: буквальность оборачивается ложью, свободный перевод — богохульством?
У православия есть ответ, неизвестный Талмуду. Зато он хорошо знаком каждому, кто хоть раз заходил в храм. Это икона — образ надмирного, неизреченного, сверхъестественного, явленный в материальных красках трудами ограниченных и грешных людей. А вот как создать такой перевод, который можно было бы считать словесной иконой, и как могут сочетаться в нем верность традиции и личное творчество? В двух словах и не скажешь. Но, как показывает опыт множества переводчиков и иконописцев, это вполне возможно — просто перевод тут оказывается отчасти ремеслом, отчасти искусством, отчасти наукой, и еще все-таки немного таинством.
Если перевод удался, он несет на себе отсвет Пятидесятницы, когда люди разных культур и наречий услышали апостольскую проповедь, звучащую на их родных языках, и именно с этого началась история христианской церкви.

