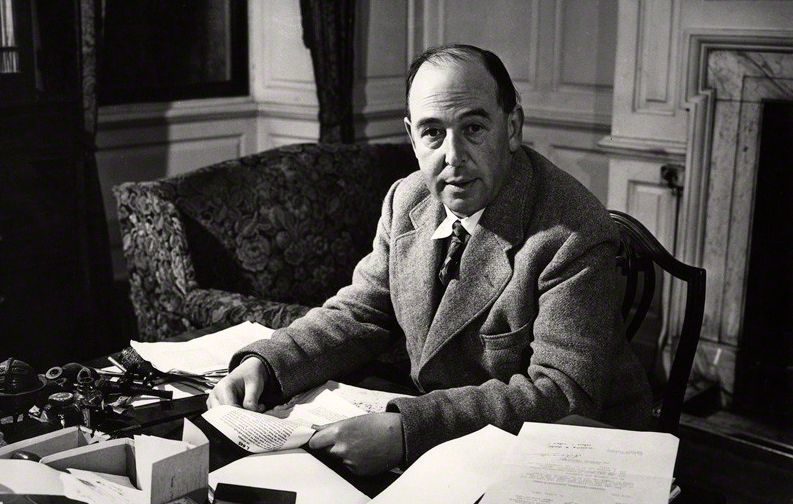Принято считать, что повесть «Пока мы лиц не обрели» – последнее произведение, посвященное Льюисом античности. Эта тема в последние годы жизни сильно занимает автора Нарний.
Греция – единственная страна, ради путешествия в которую он решился покинуть Британские острова, не считая пересечения Ла-Манша в Первую мировую. Причем это было не просто путешествие, а что-то вроде медового месяца под крылом смерти – поездка планировалась в романтический период, когда смертельная болезнь жены Льюиса ненадолго отступила, а незадолго до отправления стало известно, что недуг вернулся.
Льюис писал оттуда восторженные письма, он почувствовал дыхание той Эллады, которую так хорошо знал. В письмах он рассказывает, что в Дельфах молился Христу sub specie Apollinis, «в образе Аполлона» – в этих словах очень много от льюисовского богословия образа.
Античных мотивов много в «Хрониках Нарнии», писавшихся в 50-е годы, а оставив преподавание, Льюис планировал посвятить себя переводу «Энеиды», которым занимался урывками всю жизнь. В ряду этих «проектов», вдохновленных античностью или тесно с ними связанных, особое место занимает опубликованный посмертно фрагмент под названием «Спустя десять лет».
Это одно из последних, а возможно, последнее художественное произведение Льюиса. В самом начале 60-х он жаловался на потерю творческого вдохновения, необходимого для сочинения историй. По его словам, он перестал «видеть картины», а выдумывать не умеет. Именно поэтому в эти годы он сосредоточивается на переводах и эссеистике.
По рассказам друзей, Льюис задумался о написании романа о Елене Троянской в 50-х годах. Первоначальный вариант первой главы написан в 1959 г., еще перед поездкой в Грецию.
Фрагмент совсем небольшой, меньше авторского листа, но крайне интересный и богатый содержательно. Повествование начинается сценой в тесном и темном пространстве. Главный герой, мы знаем, что его зовут Златоголовый, тесно зажат между другими подобными ему в полной темноте – настоящая аллегория состояния накануне рождения.
Вскоре герой выбирается наружу, и мы понимаем, что перед нами Менелай, царь Спарты (Златоголовый – его эпитет у Гомера), сидел он во чреве деревянного коня, а дело происходит в осажденной Трое.
Следует описание боя в стенах города, интересное аллюзиями на Гомера и Вергилия, но Менелай среди битвы то и дело возвращается мыслями к Елене. Скоро он найдет её, случится то, о чем он мечтал долгих десять лет. В голове Менелая борются сладострастные мечты и планы жестокой мести – тут перед нами не слишком привычный «Льюис для взрослых». Он врывается в царские покои, там спиной к нему сидит за шитьем женщина.
Менелай ловит себя на мысли, что так вести себя перед смертельной опасностью может лишь та, в чьих жилах течет кровь богов. Не оборачиваясь, женщина говорит: «Девочка. Она жива? С ней все хорошо?» — Елена спрашивает о Гермионе, их дочери, и Менелай понимает, что все его построения последних десяти лет рушатся.
Впрочем это не главное потрясение. Когда Елена все-таки поворачивается к нему, оказывается, что эти десять лет не прошли для нее бесследно – она больше не прекраснейшая из женщин.
«Он никогда не мог себе представить, что она сможет так измениться – кожа под подбородком чуть заметно но всё же обвиснуть, лицо сделаться одутловатым и утомленным, на висках появиться седые волоски, а в уголках глаз морщины. Кажется, она даже стала ниже ростом. Прекрасная белизна и гладкость кожи, благодаря которым раньше казалось, что её руки и плечи излучают сияние, исчезла. Перед ним сидела стареющая женщина, печальная и покорная, которая давно не видела свою дочь; их дочь».
После боя в лагере ахейцев Агамемнон объясняет брату, что такую Елену нельзя показывать войскам. Это не та, ради которой их вели на смерть. (Впрочем, действительные причины войны политические, похищение Елены стало крайне удачным предлогом, чтобы пойти войной на опасного конкурента – говорит Агамемнон.) Менелаю с Еленой и спартанцами, которые считают ее своей царицей, нужно как можно быстрее покинуть берег Малой Азии.
Помимо всего прочего, у Льюиса здесь можно видеть интересную метафору обладания святыней. Менелай с горечью думает о том, что на его жену имеют права все, кроме него, ее законного мужа. Одни боготворят ее, другие почитают как царицу, третьи используют в политической игре, четвертые хотят принести в жертву богам. А сам он не чувствует себя даже свободным человеком, который может распоряжаться своим имуществом – не более чем неизбежный придаток к дочери Зевса, даже права на спартанский престол принадлежат ему только как мужу Елены.
Последняя сцена – беседа в Египте с местными жрецами. Жрецы убеждают Менелая, что дочь Зевса никогда не была в Трое. Боги подшутили над ним, они любят пошутить. Та, что делила ложе с Парисом, была фантомом, призраком («такие создания иногда являются на землю на некоторое время, никто не знает, что они такое»), а истинная Елена – сейчас Менелай её увидит…
«Музыканты перестали играть. Рабы, крадучись, сновали вокруг. Они перенесли все светильники в одно место, в дальней части храмовых покоев, к широкому дверному проему, так что остальная часть огромного помещения погрузилась в полумрак и Менелай мучительно вглядывался в сияние тесно составленных светильников. Музыка заиграла вновь.
— Дочь Леды, выйди к нам! — проговорил старец.
И в то же мгновение это произошло. Из темноты за дверным проемом»
Здесь рукопись Льюиса обрывается. Друзья настойчиво расспрашивали его, что же увидел Менелай, и какая из Елен настоящая. Но Льюис повторял, что не знает, не видит этой сцены, а писать от головы не хочет.
Интересно, что в этом фрагменте и в замысле повести о Елене, насколько его можно воспроизвести, Льюис работает с мифом и с древним сюжетом точно так же, как это делали античные авторы. Беря за основу тот или иной всем известный сюжет, те же трагики главным образом лишь предлагали собственные объяснения мотивов, руководствуясь которыми герои принимали всем известные решения.
Здесь мы видим именно такой подход. Согласно Гомеру, Менелай со своим войском действительно покинул Трою раньше других, этому действительно предшествовала ссора с Агамемноном, и даже переживания Менелая по поводу его никчемности оправданы античным материалом – права на спартанский престол он получил только через Елену, дочь спартанского царя Тиндарея.
Такая работа с материалом вообще характерна для Льюиса. В повести «Пока мы лиц не обрели» он тоже, строго говоря, просто пересказывает повесть об Амуре и Психее из «Метаморфоз» Апулея, почти ничего не додумывая от себя – кроме нюансов.
Самое интересное, что даже используя античный сюжет в качестве основы для рассказа о духовном опыте, автор опирается на богатую традицию. «Метаморфозы» — рассказ о мистериальном опыте, облеченный в форму фривольного авантюрного романа (или замаскированный под таковой), а вставная новелла об Амуре и Психее — его смысловой центр, всегда воспринимавшийся как аллегория мытарств человеческой души.
Берясь пересказать эту историю, Льюис оказывается продолжателем традиции, в которой, кроме Апулея работали такие авторы, как Марциан Капелла, Фульгенций и Боккаччо.
Берясь за легенду о Елене, Льюис тоже опирается на серьезную и полноводную традицию. Версия о том, что вместо Елены в Трое был ее призрак (подобие, εἴδωλον — понятие, восходящее к Платону и развитое в неоплатонической традиции) – вовсе не выдумка современного автора.
Легенда о том, что Елена никогда не была в Трое, восходит к «Палинодии» Стесихора, греческого лирика VI в., и связывается, по-видимому, с культом Елены как божества. По преданию, Стесихор написал о Елене стихи, где вслед за Гомером обвинял ее в измене мужу и называл виновницей войны. За это поэт был поражен слепотой, после чего написал «противопеснь», рассказав, что был неправ, а в Трое, на самом деле, был лишь призрак Елены, настоящая же Елена все время троянской войны находилась в Египте.
Примерно сто лет спустя в Египте побывал знаменитый историк Геродот, побеседовавший там со жрецами, которые рассказали ему, что, действительно, Елена жила там, а до Трои они с Парисом не доплыли из-за шторма.
Еще через несколько десятков лет этому сюжету придал наиболее завершенную форму Еврипид в трагедии «Елена». По Еврипиду, εἴδωλον Елены, находившийся в Трое, был создан Герой, чтобы спасти Елену. Трагедия начинается с того, как Менелай по пути домой из Трои оказывается в Египте и встречает жену – в этот момент сопровождавший его призрак отлетает, возвращаясь в эфир, из которого был соткан.
Названная традиция неслучайно использует слово εἴδωλον, родственное основному понятию философии Платона – это очень греческий ход мысли. Собственно, речь идет о том, что идеал не может быть причастен «низкой жизни». Подлинная Елена божественна, она не может быть изменницей, не может быть источником несчастий, она добродетельна и совершенна.
По сути, известный хулиган, атеист и ниспровергатель авторитетов Еврипид – и его предшественники – вовсе не подрывает традицию. Версия о непорочной Елене и троянским призраке – такое же закономерное её развитие, как идеализм Платона – развитие ранней греческой философии. Елена как идеал веками сопровождает Европейскую литературную традицию (впрочем, не забывающую и о Елене-блуднице – см. Пятую кантику «Ада» Данте), в конце XIX века найдя выражение, например, в романе Райдера Хаггарда и Эндрю Лэнга «Странник» (The World’s Desire).
Но интереснее всего, что же было на уме у Льюиса, как он собирался решить дилемму двух Елен? Хотя сам Льюис всячески подчеркивал, что не знает продолжения намеченного сюжета, главный поворот вполне очевиден. Он следует из всего творчества Льюиса, всех особенностей его обработки старых сюжетов и их преображения. Причем этот случай даже особенно красноречив.
Всякий раз переосмысляя древний, особенно дохристианский материал, Льюис старается увидеть его в христианской перспективе (поклониться Христу sub specie Apollinis).
Для Льюиса это не целенаправленная христианизация, а попытка увидеть относительное с универсальной точки зрения. Он работает со своими источниками крайне серьезно, беря не лежащие на поверхности смыслы, а глубоко продумывая их потенции и интенции. Он старается дать мифу голос, понять, говоря языком Аристотеля, что тот или иной сюжет «может» и что он «хочет».
Получается, как при переработке повести об Амуре и Психее, платоновских (и платонических) мотивов в Нарниях, дантовских и мильтоновских – в «Космической трилогии», Льюис пытается оторвать их от обусловленного эпохой контекста и испытать на прочность в универсальной системе координат.
И оказывается, что дионисийство, фавны, артуровские легенды и платоновские диалоги с христианством вполне совместимы, а вот современная наука, когда она забывает об этике, нет. Похожий поворот, судя по всему, Льюис собирался произвести и в повести о Елене.
Судя по всему, что мы знаем о методе Льюиса, «Спустя десять лет» должны были стать еврипидовской «Еленой» наоборот. Прекрасная и божественная, не знающая старости, терзаний, не изменяющая Елена, которую являют Менелаю Египетские жрецы – призрак и наваждение, проекция мечтаний спартанского царя. А лишившаяся былой красоты, но реальная троянская пленница – его настоящая жена, а главное – именно она, не идеальная, а живая – любовь всей его жизни. Непростой путь Менлая к пониманию этой премудрости и должен был стать сюжетом повести.
Эту версию в послесловии к изданию фрагмента поддерживает и друг Льюиса, писатель и историк литературы Роджер Ланселин Грин, обсуждавший с Льюисом идею повести и сопровождавший их с Джой в поездке в Грецию.
«Менелай мечтал о Елене, тосковал по ней, создал в своих мыслях её образ и поклонялся ему как ложному идолу. В Египте ему явили этот самый идол, εἴδωλον… Ему предстояло узнать в конце концов, что немолодая и поблекшая Елена, которую он привез из Трои, была настоящей, а между ними была настоящая любовь или её возможность; тогда как εἴδωλον оказался бы belle dame sans merci…» (имеется в виду образ из одноименной поэмы Джона Китса – безжалостная красавица, морок из мира фей).
Но едва ли не самое удивительное здесь то, что в этом сюжете Льюис, уже скорее невольно, чем намеренно, повторяет предание о Стесихоре с его песнью и противопеснью. Это касается переосмысления, точнее корректировки, двух очень важных для Льюиса тем – романтической любви и платонизма.
Льюис лучше других знал романтическую любовную традицию, в которой любовь земная не просто чувство, а отсвет и образ Любви божественной. Он и сам не избежал её обаяния, когда писал книгу об аллегорической любовной традиции и, позднее, когда под влиянием «романтической теологии» Чарльза Уильямса разрабатывал тему любви первых людей до грехопадения у Мильтона.
Тем примечательнее довольно трезвый взгляд на это чувство в книге «Любовь», написанной именно тогда, когда Льюис, женившись, смог примерить «романтическую модель» на себя.
«Когда я много лет назад писал о средневековой поэзии, — говорит Льюис в разделе, посвященном влюбленности, — я был так слеп, что счел культ любви литературной условностью. Сейчас я знаю, что влюбленность требует культа по самой своей природе. Из всех видов любви она, на высотах своих, больше всего похожа на Бога и всегда стремится превратить нас в своих служителей». «Если же мы поклонимся ей безусловно, — добавляет он, — она станет бесом».
Платонизм Льюиса – незаслуженно малоисследованная тема. Между тем, это едва ли не основной ключ к его богословию и мировоззрению в целом. Мир сей как несовершенное подобие Царства Божьего, страны Аслана или подлинной Нарнии, Рая из «Расторжения брака», моря, к которому хотят увезти нас родители, тогда как мы копошимся в луже.
Как никто ценивший красоту интеллектуальной конструкции, Льюис не мог не воспользоваться платонической моделью, хотя и оговаривался то и дело относительно её отличия от христианства. Но в последние годы он серьезно корректирует свою позицию, хотя и не отказывается от прежних построений. В поздних работах отчетливо звучит тема Бога как разрушителя образов, выстраиваемых нами, чтобы познать Его, но в результате заслоняющих Прообраз. Иногда эта тема настолько отчетлива, что у читателя возникает впечатление, что Льюис в последние годы теряет веру. Но это не так. Это энергичный порыв от концепций к Богу Живому.
«Наверное, образы полезны, иначе они не были бы так популярны, — пишет Льюис в книге «Исследуя скорбь», собранной из дневников, которые он вел сразу после смерти жены. — (Не так уж важно идет ли речь о картинах и статуях внешнего мира или о созданиях нашего воображения.) И все же для меня их вред куда очевиднее. Образы священного поразительно легко превращаются в священные образы, а значит, становятся неприкосновенными.
Но мои представления о Боге никак не божественные представления. Их просто необходимо время от времени разбивать вдребезги. И Он сам делает это, ибо сам Он — величайший Иконоборец. Быть может даже, это один из знаков Его присутствия. Воплощение — крайний пример иконоборчества Божьего; оно не оставляет камня на камне от всех прежних представлений о Мессии».
Но особенно поразительно в свете того, что мы знаем о замысле Троянской повести, звучит следующее место из второй тетради дневников, изданных в виде книги «Исследуя скорбь». Прежде разрозненные темы вдруг складываются в единую картину – и иконоборческое богословие Льюиса, и тема брака как встречи с реальностью, и даже те самые «десять лет» послужившие названием фрагмента.
Но самое поразительное, а быть может, напротив – естественное и закономерное, читая дневники Льюиса, посвященные жене, мы вспоминаем, что её тоже звали Еленой – Хелен Джой Дэвидмен – и именно так именует её Льюис в дневнике. (Я благодарю Бориса Каячева за напоминание об этом месте дневников, фрагмент из них дается в его переводе.)
«Уже сейчас, меньше чем через месяц после ее смерти, я ощущаю, как медленно, украдкой начинается процесс, превращающий Хелен, о которой я думаю, во все более и более воображаемую женщину. Привыкши исходить из фактов, я, конечно, не стану примешивать к ним ничего вымышленного (или я надеюсь, что не стану). Но разве их соединение в цельный образ не будет неизбежно становиться все более и более моим собственным? Больше нет той реальности, которая могла бы меня сдержать, резко осадить, как это часто делала Хелен – так неожиданно и так до конца будучи самой собою, а не мной.
Наиболее ценным подарком, который мне дала моя женитьба, было это постоянно ощутимое присутствие чего-то очень близкого и родного, но в то же время безошибочно другого, устойчивого – одним словом, реального. Неужели все это теперь погибнет? Неужели то, что я еще буду продолжать звать Хелен, теперь беспощадно растворится среди моих холостяцких фантазий? О, дорогая моя, дорогая моя, вернись на один лишь миг и прогони этот жалкий призрак! О, Боже, Боже, почему Ты с такими усилиями заставил это создание выйти из своей раковины, если теперь оно обречено заползти – быть затянутым – обратно?
Сегодня мне предстояло встретиться с человеком, которого я не видел десять лет. И все это время я думал, что хорошо его помню – как он выглядел и разговаривал и о чем говорил. Первые же пять минут общения с реальным человеком разбили этот образ вдребезги. Не то чтобы он изменился. Напротив. В моей голове постоянно проскакивала мысль: “Да-да, конечно же, конечно, я позабыл, что он думал вот это, или не любил вот то; что он был знаком с таким-то, или именно так закидывал назад голову”.
Все эти черты были когда-то мне знакомы, и как только я встретил их снова, я их узнал. Но в моей памяти они все стерлись на его портрете, и когда на их месте появился он сам, общее впечатление разительно отличалось от того образа, который я носил в себе эти десять лет. Как я могу надеяться, что то же самое не случится с моей памятью о Хелен? Что это не происходит уже?
Медленно, тихо, как снежные хлопья, – как падают мелкие хлопья, когда снег собирается идти всю ночь, – маленькие хлопья меня самого, мои ощущения, мои предпочтения, покрывают ее образ. Подлинные очертанья в конце концов будут полностью скрыты. Десять минут – десять секунд – настоящей Хелен могли бы все исправить. Но даже если бы эти десять секунд были мне даны – еще через секунду маленькие хлопья снова начали бы падать. Резкий, острый, очищающий привкус ее инаковости исчез».
Если предлагаемая нами реконструкция замысла повести о Елене верна – перед нами невероятно красивое переосмысление и темы романтической любви и платоновского идеализма. В чем-то даже более красивая, чем в «Пока мы лиц не обрели». Там страхи и суеверия разрушаются встречей с Богом. Здесь сказка об идеальной любви разрушается – или испытывается – встречей с собственной женой.
Дельфы, май 2015 г.