Под кровом Всевышнего (В родительском доме, Часть 1)
 |
«Под кровом Всевышнего» — автобиографическая книга. Автор воспоминаний — Наталия Николаевна Соколова, дочь известного духовного писателя, доктора химических наук, профессора Николая Евграфовича Пестова.
Рожденная и воспитанная в православной московской семье, с детства окруженная людьми глубоко верующими, девочка очень рано начинает понимать, что в жизни не бывает ничего случайного. В цепи всех описываемых в воспоминаниях событий, встреч с удивительными людьми автор неизменно видит Божий Промысел. Ярко, образно повествуя о своем нелегком жизненном пути, испытаниях, выпавших на долю жены священника, матери пятерых детей, Наталия Николаевна старается убедить читателя в истинности слов Спасителя: Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Я с вами во все дни до скончания века. «Буду рада, — пишет она в заключение, — если прочитавшие мой труд поймут, что Господь близко, что Он всегда нас слышит и не оставит без Своей помощи».
Автор рассказывает о жизни православной семьи с ее радостями и горестями, уделяя большое внимание вопросам христианского воспитания детей. Не случайно свои воспоминания Наталия Николаевна посвящает всем православным женщинам.
К читателю
Прежде чем сделать краткое вступление к данной книге, хотелось бы привести небольшую аналогию.
Большинство людей, впервые берущих в руки Священное Писание, исполнены какого-то предвзятого чувства, что речь в нем идет о высоком, величественном и недосягаемом для понимания простого человека. И вдруг… оказывается, что Священное Писание — истина, максимально приближенная к современной жизни, где через описание событий и людей для многих открываются свои собственные черты характера, слабости и грехи. Очень близкими кажутся скорби и страдания древних людей, и совсем современной предстает борьба с врагом рода человеческого — диаволом и упование в этой борьбе на помощь Божию.
Приблизительно также для многих людей представляется и жизнь священника, его семьи, детей, родных и близких. Видя на богослужениях батюшку, одухотворенного, в красивом облачении, думается, что и вне стен церкви он имеет особую благодать. Жизнь проходит торжественно, безоблачно и лишена многих трудностей. Но это совершенно не так.
Оказывается, жизнь священника напряженна, сложна и во многих случаях более ответственна, чем у простых мирян. Священник имеет особую ответственность перед Богом за свое служение. Кому много дано — с того много и спросится. Велика и моральная ответственность перед обществом, так как он всегда на виду, на виду его семья и дети. Место работы — Храм, где каждая вещь — Святыня. И прихожане, и духовные чада жаждут любви и мудрого совета своего пастыря.
Книга Наталии Николаевны Соколовой — это автобиографическое повествование, которое приоткрывает семейно-бытовую сторону жизни семьи священнослужителя и как бы приземляет взоры простых мирян, показывая, что не все так просто и гладко на жизненном пути служителей Церкви.
8 сентября 1925 года в благочестивой семье ученого-химика родилась девочка, которой дали имя Наталия. Сколько событий и испытаний ожидало ее впереди?..
Первые годы советской власти, чуждая русскому духу идеология, репрессии, гонения на Церковь, война, послевоенная церковная жизнь «под колпаком» спецслужб и т.д. Невыносимо трудно, особенно православному человеку, но Бог все может… «Просите, и дано будет вам» (Мф. 7, 7).
Через описываемые в книге события прослеживается одна очень важная мысль: ничто не бывает в жизни просто так, случайно, по стечению обстоятельств… Во всем виден Промысел Божий. Многое совершается по молитвам, невидимая рука Господа направляет и ограждает Свое чадо.
Основная часть жизни Наталии Николаевны проходит в семье: ребенок, ученица школы, студентка вуза, жена священника — матушка, мать пятерых детей и бабушка четырнадцати внуков. В книге описывается семейная обстановка, в которой выросли дети, с малолетства хранившие верность Богу и избравшие жизненный путь служения Господу. Все сыновья стали священнослужителями: один в сане епископа, двое других — протоиереи, две дочери руководят церковными хорами.
Автор раскрывает радостные и горестные стороны семейного быта, очень интересно показано восприятие неожиданных обстоятельств и испытаний, а также отношение к жизни и смерти, к болезням и помощи, к православным людям и неверующим, к нищим и преступникам.
Широта и многогранность взглядов несомненно полезна для читателя, особенно недавно обратившегося к вере в Бога, и полезна не как наставление или назидание, а как пример жизни православной семьи.
Будущее берет начало в прошлом. Матушка Наталия и ее супруг, ныне покойный отец Владимир, сделали все, чтобы иметь такое будущее, ибо налицо плоды их непрестанной молитвенной жизни во Христе. Это невольно заставляет читателя задуматься о плодах своей жизни…
Книга написана в разговорно-повествовательной форме, читается легко, захватывающе, с сопереживанием. А главное, каждый читатель может почерпнуть для себя интересную и душеполезную информацию.
Л.Н.
Под кровом Всевышнего
(Пс. 90,1)
 Наше детство и школьные годы пришлись на тяжелые послереволюционные времена. Народ стонал под властью коммунистов, которые ополчились и на Церковь, и на крестьянство, и на интеллигенцию, даже на своих сотрудников — «товарищей». Рушились храмы, здания монастырей превращались в тюрьмы, забитые до отказа. Раскулачивались честные труженики-крестьяне, многие бежали в чужие края, спасаясь от тюрем, введена была карточная система, по которой в магазинах можно было покупать товары только по карточкам. А карточки выдавались только рабочим, служащим и их семьям. Крестьяне-кустари, ремесленники, духовенство с семьями, монахи из закрытых монастырей голодали и были обречены на вымирание. Были еще люди из «бывших», то есть родственники расстрелянных князей, графов, министров и других «прежних», как их тогда называли. Они носили известные фамилии, а поэтому их не принимали ни на какую работу, не давали возможности прописаться, одним словом — сживали со свету. В те годы нищие сидели повсюду, стучались по квартирам, прося хлеба. Однако, невзирая на все трудности и кажущуюся бесперспективность дальнейшей жизни, мои родители завели семью! Это уже был их духовный подвиг! Мама всегда говорила: «Не надо смотреть на волны житейского бурного моря, надо с верою взирать на Христа, тогда пойдешь по волнам, как апостол Петр».
Наше детство и школьные годы пришлись на тяжелые послереволюционные времена. Народ стонал под властью коммунистов, которые ополчились и на Церковь, и на крестьянство, и на интеллигенцию, даже на своих сотрудников — «товарищей». Рушились храмы, здания монастырей превращались в тюрьмы, забитые до отказа. Раскулачивались честные труженики-крестьяне, многие бежали в чужие края, спасаясь от тюрем, введена была карточная система, по которой в магазинах можно было покупать товары только по карточкам. А карточки выдавались только рабочим, служащим и их семьям. Крестьяне-кустари, ремесленники, духовенство с семьями, монахи из закрытых монастырей голодали и были обречены на вымирание. Были еще люди из «бывших», то есть родственники расстрелянных князей, графов, министров и других «прежних», как их тогда называли. Они носили известные фамилии, а поэтому их не принимали ни на какую работу, не давали возможности прописаться, одним словом — сживали со свету. В те годы нищие сидели повсюду, стучались по квартирам, прося хлеба. Однако, невзирая на все трудности и кажущуюся бесперспективность дальнейшей жизни, мои родители завели семью! Это уже был их духовный подвиг! Мама всегда говорила: «Не надо смотреть на волны житейского бурного моря, надо с верою взирать на Христа, тогда пойдешь по волнам, как апостол Петр».
Мама была еще студенткой ВТУ, когда арестовали ее мужа [Отец Н.Н. Соколовой, Пестов Николай Евграфович (1892-1982) — доктор химических наук, профессор, известный духовный писатель. Биографические сведения о нем см. в книге: От внешнего к внутреннему. Жизнеописание Н.Е. Пестова./ Сост. Преосвященнейший Сергий (Соколов), епископ Новосибирский и Бердский.- Новосибирск, 1997. Прим. ред.]. Был ордер и на ее арест, но она кормила грудью пятимесячного Колю. В 24-м году еще не сажали в тюрьмы с младенцами, как потом было в 30-е годы, чему мама моя была свидетельницей (но об этом скажу позднее). Папа вскоре был отпущен на свободу, как и все его друзья — члены Христианского Студенческого Кружка. Этих людей до самой их смерти сблизили годы, проведенные в Кружке. С ними наша семья имела всегда тесное общение: вместе снимали дачи на лето, вместе посещали храмы, вместе собирались на церковные и семейные праздники, делились друг с другом, кто чем мог, устраивали на работу и т.д.
Когда Коле был год и восемь месяцев, мама ждала на свет меня. Срок подошел, начались схватки, папа отвез ее в роддом. Но шли часы, дни, мама опять чувствовала себя хорошо и просилась домой. Врачи не пускали: «Ребенок у выхода — лежите». Однако мама настояла и вернулась к сыночку, за которого очень беспокоилась. С неделю она была дома, стирала, нянчила Колю, вела все хозяйство. 8 сентября, в день празднования Владимирской иконы Богоматери, как только ударили в колокола (в 26-м году они еще кое-где висели), мама заспешила в роддом. Она рассказывала мне потом: «Едва мы переступили порог роддома, как я села на первую же лавку и начались роды». Папу удалили, впопыхах сказав ему, что уже родился мальчик и что он может не беспокоиться. Папа пошел в храм. Знакомые люди рассказывали потом маме, что они были поражены горячей молитвой отца. Он никого не видел, не вставал с колен, клал беспрестанно поклоны и обливался слезами. О чем молился мой отец — это знает один Бог. Но если я оглянусь на мои прожитые семьдесят лет, то могу сказать одно: они прошли под покровом Всевышнего. Меня всегда называли счастливой, и я с этим вполне согласна.

Двухэтажный дом, в котором протекало мое детство, был до революции складом табака. В 26-м году дом был перестроен под жилые квартиры. Маме дали от завода трехкомнатную квартиру на первом этаже, в которой они с папой прожили сорок восемь лет. Но в 30-м году крыло дома, выходившее на улицу, сломали, обрезав дом в длину как раз по нашу квартиру. Получилось так, что вместо одной стены у нас была только дощатая перегородка, которая постоянно промерзала, хотя родители мои ее тщательно утепляли коврами. Мама моя много хлопотала и добилась того, что стенку засыпали шлаком и обили еще одним слоем досок. Но кирпичные стены стали расходиться, грозя рухнуть. Их укрепили каменными подпорками и стянули рельсами. Перпендикулярно нашему домику вырос огромный восьмиэтажный дом. С этих пор солнышко заглядывало в нашу сырую квартиру только летом, часа на три в день. Противопожарного расстояния между старым домом и новостройкой не было, так что нашу квартиру должны были снести, а нам дать другую в восьмиэтажке. Мама получила ордер, но нашу новую квартиру заняли какие-то ловкие люди. Мама подавала заявления в милицию, суд, везде хлопотала, но все безуспешно. Родители мои считали это волей Божией, ибо в иной квартире они не смогли бы проводить такую конспиративную, скрытую от мира жизнь, какую я помню в своем отрочестве.
Сотрудники НКВД следили за нами как за «недобитой интеллигенцией». Так называли людей науки и культуры в 20-е и 30-е годы. В доме, стоявшем параллельно нашему и пережившем ту же участь, что и наш, была квартира, окна которой смотрели в наши окна на расстоянии всего восьми метров. В эти окна за нами следила некая Маруся, нанятая НКВД. Она не работала, растила троих детей, приобретенных от разных мужей, но зарегистрированных на ее первого мужа, пропавшего без вести. Маруся считалась женой погибшего фронтовика, пользовалась уважением. Дети ее летом отдыхали в санаториях, лагерях, а зимой сидели на своих широких подоконниках. Они вылезали через окно, бегали по снегу босиком, приводя в ужас нашу маму. Мама жалела Марусю, помогала ей, чем могла, отношения у них были хорошие. Мама моя то и дело выбегала на улицу, стучала Марусе в окно, кричала ей: «Смотри, твои ребята босые и раздетые бегают, загони их, ведь простудятся!». Слышался один ответ: «Чтоб они сдохли!». Но дети Маруси выросли, а лет с пятнадцати уже жили в «исправительных лагерях», то есть тюрьмах для несовершеннолетних.
Чтобы попасть в нашу квартиру, друзья наши не ходили, как прочие люди, через длинный двор. Нет, они входили в подъезд восьмиэтажного дома, а там спускались в темный проходной подвал, заваленный мусором. Через крошечную дверку наши знакомые выходили на свет шагах в пяти от наших окон, прошмыгнув мимо которых, они спешили скрыться за дверью. Марусе трудно было «засечь» (то есть заметить) наших друзей, она была занята хозяйством, да и поспать требовалось ей после выпивки. Двор не был освещен, окна наши часто плотно завешивались одеялами, так что квартира снаружи казалась нежилой. А у нас собирались «кружковцы», «маросейские», прибывшие из ссылок монахини, тайные священнослужители. Большинство людей в те годы жили в коммунальных квартирах, даже ютились по баракам. Мама особенно жалела свою подругу Лизочку, у которой была дочка Ксения, на год моложе нашего Сережи. Лизочка была вдовой постельничего Императора Николая II. Маленького роста, забитая, кроткая Лизочка любила шепотком рассказывать моей маме о том, что видел ее муж при царском дворе. Я помню только то, что Николай II был большой молитвенник. Его постельничий не раз был свидетелем долгих коленопреклоненных молитв своего Государя. Император проливал слезы, клал поклоны. Глубоким вечером, один на один с Богом, Николай II часами изливал перед Богом свою душу. Коврик и подушка Государя были мокрыми от слез.
Верный своему Монарху, муж Лизы был в революцию арестован и сослан. Лизочка последовала за своим супругом в Сибирь, провела там годы молодости в невероятно тяжелых условиях. Она четыре раза рожала, но дети рождались мертвыми. Только пятый ребенок, Ксения, осталась жить. Овдовев, Лизочка вернулась в Москву с двухлетней дочкой. Они не имели ничего кроме койки в общежитии, где в ряд стояло двенадцать кроватей. «Чего только мы не наслушаемся, чего только не наглядимся в своем бараке! — ужасалась Лизочка. — И ругань, и драки, и разврат — все у нас на виду, некуда мне скрыться с ребенком. У вас мы хоть христианским воздушком подышим». Братец мой Сережа играл с Ксеничкой, обещая взять ее себе женою, когда она вырастет, чем вызывал улыбки взрослых. Несмотря на трудную обстановку, Лиза вырастила Ксению глубоко верующей и целомудренной девушкой, хотя и больной.
Много лиц других глубоко верующих людей сохранилось в моей памяти. Их дети, наши ровесники, теперь уже старики, а родители их отошли в вечность. Впрочем, к нам на Рождество детей приводили по большей части не их родители, но те, кто их воспитывал. Две тетушки приводили к нам троих детей князей Оболенских: Лизу, Андрея и Николушку. Родители их были арестованы. Привозили четверых детей отца Сергия Мечева, сидевшего в тюрьме, как и его супруга. Дети отца Владимира Амбарцумова, Женя и Лида, тоже бывали у нас нередко. Их мать умерла, а отца арестовали. И так в нашу квартирку набивалось человек до тридцати. Елочку нам неизменно привозила в Сочельник Ольга Серафимовна — сестра закрытой в те годы Марфо-Мариинской обители. Рискуя своей свободой, она собственноручно срубала елочку в лесу, убирала ее в наш огромный чемодан, везла поездом, тащила по улицам. До 36-го года елки были запрещены как «буржуазный предрассудок». Однако Ольга Серафимовна считала своим долгом доставить нам, детям, это рождественское удовольствие. Мы благодарили ее и с замиранием сердца всегда слушали ее рассказы о том, как она, утопая в сугробах, добывала нам елочку: «Ночь, луна, волки воют…». Молитвами этой подвижницы, Ольги Серафимовны (тайной монахини Серафимы), держалась наша семья, наша распавшаяся церковная община.
Ежегодно под рождественской елочкой слышались стихи религиозного содержания.
И на алтарь Христа и Бога
Она готова принести
Все, чем красна ее дорога,
Что ей светило на пути.
Мне шел десятый год, когда я декламировала на Рождество эти строчки из стихотворения Надсона «Христианка». Образ девушки, горящей жертвенной любовью к Спасителю, прощающей все своим палачам, уже пленял мое сердце.
К началу войны все священники, посещавшие наш дом, были или арестованы, или сосланы, или пропали неизвестно где. Но до 40-го года у нас в папином кабинете был и столик, служивший жертвенником, была и тумбочка, служившая престолом. Но не все гости знали об этом, детям же сего вообще не открывали. Старались больше зажечь в сердцах детей огонь веры и любви, внешне же мы не должны были отличаться от других. Святое Причастие не должно было войти в привычку, к нему приступали, как и полагается, со страхом и трепетом.
Папа
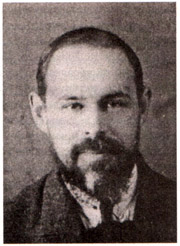 Я помню отца с первых лет моей жизни, то есть с 1927-28 годов. От папы всегда веяло лаской, тишиной и покоем. Его любили не только родные, но абсолютно все: и соседи, и сослуживцы, и знакомые — все, кто его знал. Он был одинаково учтив как к прислуге, к старушке, к простому рабочему, так и к дамам и своим сотрудникам, и ко всем, с кем имел дела. С манерами джентльмена, сдержанный при любых обстоятельствах, папа редко повышал голос и никогда не выходил из себя. Если ему случалось раздражаться (а детская резвость кого не выведет из терпения), то папа спешил уйти в свой кабинет. Он выходил только успокоившись, помолившись и тогда только начинал внимательно разбирать наши детские ссоры и жалобы. Папа подолгу беседовал с нами, троими детьми, но вообще предпочитал разговаривать с собеседником один на один. «Где больше двух — там потерянное время», — любил он повторять пословицу. Отец никогда не уклонялся от нашего воспитания, никогда не отговаривался занятиями и работой и уделял детям много времени, борясь за наши души, как и за свою собственную.
Я помню отца с первых лет моей жизни, то есть с 1927-28 годов. От папы всегда веяло лаской, тишиной и покоем. Его любили не только родные, но абсолютно все: и соседи, и сослуживцы, и знакомые — все, кто его знал. Он был одинаково учтив как к прислуге, к старушке, к простому рабочему, так и к дамам и своим сотрудникам, и ко всем, с кем имел дела. С манерами джентльмена, сдержанный при любых обстоятельствах, папа редко повышал голос и никогда не выходил из себя. Если ему случалось раздражаться (а детская резвость кого не выведет из терпения), то папа спешил уйти в свой кабинет. Он выходил только успокоившись, помолившись и тогда только начинал внимательно разбирать наши детские ссоры и жалобы. Папа подолгу беседовал с нами, троими детьми, но вообще предпочитал разговаривать с собеседником один на один. «Где больше двух — там потерянное время», — любил он повторять пословицу. Отец никогда не уклонялся от нашего воспитания, никогда не отговаривался занятиями и работой и уделял детям много времени, борясь за наши души, как и за свою собственную.
Первое злое чувство, появившееся безотчетно уму в моей детской душе, была ревность и неприязнь к младшему брату Сереже, который был моложе меня на два года. В три года я никак не могла понять, почему Сережу носят на руках, кормят с ложки, а я должна кушать сама, должна давать брату мои игрушки, должна терпеть его плач. Что я делала, я не помню, но помню, что мама повышала на меня голос, что-то строго мне выговаривала, подолгу за что-то меня отчитывала, даже шлепала, но всем этим я была очень довольна, не плакала, но радовалась тому, что сумела обратить на себя внимание и отвлечь маму от Сережи. Смысл слов мамы до меня не доходил. Только когда мама меня отстраняла, не желая меня ласкать, я начинала горько и безутешно рыдать. Тут приходил папа, брал меня на руки и утешал меня с бесконечным терпением и любовью. Обычно я долго не могла успокоиться, и отцу приходилось иной раз держать меня на коленях больше часа, а я все продолжала судорожно всхлипывать и прижиматься к папе, как бы прося защиты. «Дай отцу хоть пообедать-то», — обращалась ко мне мама. «Оставь, Зоечка, — говорил отец, — нельзя прогонять от себя ребенка, если он просит ласки».
Помню, как я брала отца за густые бакенбарды и поворачивала молча к себе его лицо, не давая папе смотреть на собеседника. Окружающие нас смеялись и говорили: «Ревнует!» — «И что это за слово они выдумали, — думала я, — ведь это мой папа!». Я была готова просидеть на коленях отца целый вечер. До чего же мне было с ним хорошо! Через ласку отца я познала Божественную Любовь — бесконечную, терпеливую, нежную, заботливую. Мои чувства к отцу с годами перешли в чувство к Богу: чувство полного доверия, чувство счастья быть вместе с Любимым, чувство надежды, что все уладится, все будет хорошо, чувство покоя и умиротворения души, находящейся в сильных и могучих руках Любимого.
Часто я сладко засыпала на руках отца. Если же сон не одолевал меня, а сходить с рук я не хотела, то папа прибегал к хитрости. Папа подзывал старшего братца Колюшу и просил его поиграть у его ног в солдатики. Коля расставлял свои катушечки и кубики, начинал резвиться и манить меня в свою компанию. Это ему быстро удавалось, и я добровольно спускалась на пол. Со старшим братом я всегда дружила, но неприязнь к Сереже у нас росла с каждым годом. Враг спешил найти лазейку в слабую, неокрепшую душу ребенка, который не руководствуется еще умом, а живет только чувствами. Ревность, зависть, злоба быстро охватили нас и отдалили от нас благодать Божию. Часто между нами, детьми, возникали драки, сопровождавшиеся криком и ревом. Сережа синел и «закатывался», как называла мама его состояние, а мы с Колей получали шлепки и подзатыльники. Когда папа возвращался с работы, мама часто жаловалась ему на нас с Колей. Помню, когда мне было уже лет шесть, папа долго беседовал со мной один на один в своем кабинете. Он сидел в кресле напротив меня, я — на кушетке. Было так уютно, зеленая настольная лампа мягко освещала кабинет, дверь была плотно закрыта. Папа долго объяснял мне, что Сережа часто болеет, поэтому-то он нервный, капризный, слабый. Мама вынуждена давать Сереже более вкусную пищу (то есть яички и икру), что она не в состоянии давать нам с Колей — здоровым и крепким ребятам. Мы не должны завидовать, ведь мы гуляем, бегаем, а Сережа так часто лежит в постели. Мы должны жалеть его, как и родители, должны ему уступать. Папа просил меня взять себя в руки и не дразнить братишку. Я внимательно слушала отца, была с ним во всем согласна, но откровенно призналась ему, что не в силах побороть свои чувства.
— Ты все верно говоришь, — сказала я, — но я все-таки буду дразнить Сережу, потому что он противный!
Эта фраза вывела папу из себя. Он вскочил и со шлепками выставил меня из кабинета. v — Значит, я все зря говорил? — вскрикнул отец. — Не буду тебя любить, злая девчонка!
Я не заплакала, но последние папины слова задели мое сердце. С полчаса я задумчиво бродила, потом пришла к папе, со слезами бросилась к нему на шею и, целуя его, шептала:
— Папочка, люби меня! Я не злая, но кто же будет любить меня? Мама любит только Сережу, а меня только ты любишь!
Отец обнял меня и просил прощения за то, что погорячился. Он всегда просил прощения даже у нас, детей, если ему случалось раздражиться. Мама останавливала отца, объясняя, что непедагогично извиняться перед ребенком, что мы его пример кротости и смирения примем за слабость характера. Папа нас никогда не наказывал, а мама говорила: «Дети из тебя веревки вьют!». Но папа отвечал: «Где действует любовь, там строгость не нужна».
Мы очень любили отца. Он ходил с нами гулять, руководил нашими детскими играми, читал нам вслух, объяснял картинки из Библии, брал с собой в церковь. В четыре-пять лет мы еще не понимали богослужения, стоять было трудно. Но мы терпеливо стояли, стараясь угодить папе. Мальчики часто спрашивали его: «Скоро домой?». Я спрашивала реже других, заслуживала похвалу папы, и он брал меня с собой часто одну. Я не скучала в храме. Я с наслаждением погружалась в свои думы, вспоминала сказки, сочиняла им продолжения. Я мысленно переносилась в дебри лесов, на моря и в горы, которых наяву даже не видела. Мне никто не мешал мечтать в церкви, и я жалела порою, что уже пора уходить. Поэтому я всегда просилась сопровождать папу, и он мне не отказывал. Быть в течение нескольких часов рядом с отцом было для меня счастьем, и я не боялась ни тесноты храма, ни трамвайной давки, ни холода зимнего вечера. В те годы (30-32-й) папа еще ездил по храмам, выбирал то тот, то другой, смотря по тому, где какой священник служит. Выходные дни тогда не совпадали с воскресными, была то «пятидневка», то «шестидневка». Таким образом атеистическая власть старалась стереть в сознании народа само понятие Воскресения.
Ясно помню весеннее холодное утро. Солнце грело еще слабо, а огромные камни какого-то большого храма отдавали свой зимний холод и заставляли меня маяться и дрожать. Церковь была пуста. Где-то вдали слабо звучало бесконечное чтение. Папа ушел куда-то вперед, а я долго сидела одна около двух-трех чужих старушек. Они посылали меня на улицу погреться на солнышке. Я выходила, с наслаждением вдыхала чистый аромат весны, но холодный ветер пронизывал меня насквозь. Помню, как папа выходил ко мне, укрывал меня своей одеждой, старался меня согреть и просил потерпеть до конца обедни. Я не протестовала, на душе было так светло и радостно, что этот день я запомнила на всю жизнь.
В последующие годы, когда мы были школьниками, то есть перед войной, отец уже не ездил ни в какую церковь. Любимые его храмы закрылись один за другим, а оставшиеся где-то папа называл «живоцерковническими» и в них не ходил. Дома иконы тоже попрятали в шкаф, загородили занавесками. Но папа подолгу молился как утром, так и вечером. Мама запрещала нам тревожить отца, говорила, что он отдыхает или занимается. Тогда мы стали подглядывать в замочную скважину. Если в комнате был свет, то мы тихо входили и часто заставали папу на коленях с молитвенником в руках. Мама просила отца запираться на ключ, но он категорически отказывался, говоря, что дети всегда должны иметь к нему доступ.
«Не ошибается только тот, кто ничего не делает», — гласит пословица. Поэтому и в нашем воспитании родители допускали промахи. Пишу же о том для предупреждения других родителей и для того, чтобы читатели знали, что «Диссертация» [Пестов Н.Е. Современная практика православного благочестия.- Спб.: «Сатис», 1994-1996 гг.] Николая Евграфовича Пестова не плод размышлений, а действительно — жизненный опыт.
Папа сильно баловал нас. По вечерам мы с нетерпением ждали его возвращения с работы, потому что он ежедневно дарил нам что-нибудь, чему мама очень возмущалась. Коле папа дарил новенькие почтовые марочки, мне — художественную открыточку, Сереже — зверюшку из фанеры.
Игрушечные звери стали вскоре почему-то собственностью Сережи. Он аккуратно расставлял их на своей полочке, сосчитать их еще не умел, но ставил так плотно друг к дружке, что сразу замечал, если какой-нибудь игрушки недоставало. «Пустое место!» — кричал он, нервничал и плакал, потому что мы с Колей порой таскали у него зверят и забывали вернуть их на место. Сережа был капризным и очень болезненным, страдал отсутствием аппетита. Когда нам давали конфеты, то мы с Колей тут же съедали свою долю, а Сережа свои прятал. У него был свой деревянный ящик, прозванный нами «сундук-рундук».
Сережа тщательно оклеивал свой «сундук» фантиками, пестрыми картинками и возил его с собой летом даже на дачу. Наличие этого «сундучка» было источником зла и греха, рано обуревавшего наши слабые детские души. «Сундук» не запирался, стоял на полу и был всегда наполнен как свежими, так и засохшими, уже двух-трехмесячными конфетами. Нам с Колей, естественно, хотелось порой полакомиться, но мы знали, что воровать нельзя, а просить у Сережи бесполезно: он был жаден и лишь изредка оделял нас из «сундука» маленькими частичками конфеток. Мама его за это хвалила: «Он ведь добрый мальчик — свое вам отдает!».
Наличие «сундучка-рундучка» развивало у Сережи гордость и жадность, а у нас с Колей, с одной стороны, честность (как еще мы воровать не стали?), а с другой стороны — зависть, осуждение и злость на брата. «Скряга, жадюга!» — дразнили мы Сережу. «А вы обжоры, завидущие глаза!» — отвечал он нам. Эти пререкания переходили в драки. Но вскоре (мне было тогда года четыре) родители поручили наше воспитание строгим, но справедливым гувернанткам, а сами ушли на работу. Это подействовало благотворно; мы стали спокойнее, ибо воспитательницы не выделяли никого из нас, но ко всем троим относились ласково и внимательно. Одна из них была с нами год, другая — более трех лет, и мы этих женщин очень любили. Они говорили с нами по-немецки, и я к восьми годам, как и братья мои, свободно объяснялась на этом языке.
Отец научил нас читать наизусть молитвы очень рано. Именно «читать», но не молиться, ибо молитва есть возношение ума и сердца к Богу. А умом своим мы еще были не в состоянии понять что-либо о невидимом Боге, сердца же наши были уже не чисты, но запятнаны греховными чувствами гнева, зависти и т.п. По утрам и вечерам нас ставили перед образами, но эти минуты вряд ли приближали нас к Богу. Я осуждала братьев, что они торопливо и небрежно произносят молитвы, а Сережа вообще-то еще сильно картавил и лучше читать не мог. Коля, наоборот, будто хвалился правильностью произношения и тем, что мог оттараторить все, как скороговорку. Меня это возмущало, и я читала медленно, с чувством, что ребят раздражало. Каждый из нас читал положенную ему молитву, но если кто-нибудь замечтается, то другой, бывало, возьмет и прочтет вслед за своими и «чужую» молитву. Так я вслед за тропарем мученице Наталии спешила прочесть и тропарь преподобному Сергию. Очнувшись, Сережа набрасывался на меня с ревом и слезами: «Она мою молитву прочла!». Мама с папой его успокаивали: «Ну прочти и ты». — «Нет, — плакал Сережа, — она уже прочла. Как она смела? Это мой святой!». Напрасно родители пускались в объяснения, что любому святому может молиться каждый. До нас теория еще не доходила, и я ликовала. «Зевай, зевай больше!» — дразнила я братца. Родители заставляли нас насильно целоваться, но от этого чувства в душе менялись ненадолго. Так еще до семилетнего возраста сатана спешит удалить от Бога неразумные детские души. Но как мать, так и отец боролись за наши души, угождая Богу: мама делала необычайно много добра несчастным бедным людям, а отец не разгибал колен и усердно клал поклоны, вымаливая у Бога спасение не только своей душе, но и спасение детским душам, вверенным ему Господом.
Загорянка
Наши родители говорили: «У детей должно быть радостное восприятие жизни». И они всеми силами старались это выполнить. Пять лет подряд нас при первых признаках весны вывозили в Подмосковье, в лесистую Загорянку. С тремя детьми оставалась воспитательница, а хозяйство вела молодая Юля. Она была из «раскулаченных», бежавших в Москву. Родители навещали нас только раз в неделю. Но свои отпуска они проводили с нами. Навсегда запечатлелись эти солнечные дни, когда мы ходили на реку Клязьму. Папа брал лодку, ловко управлял рулем, а мы с Колей пытались грести. Извилистые тенистые берега реки, белые лилии, желтые кувшинки, крупные раковины на песке… Все это мы несли домой, пускали плавать в тарелки, и радости нашей не было конца. А прямо за забором, сделанным из старых ломаных досок с дырками, стоял густой еловый лес. Чуть подальше — стройные сосны, под которыми раскинулся ковер из земляники. По утрам — прогулки, а по вечерам — веселые игры в крокет, двенадцать палочек, теннис и т.п. Из соседних домов к нам сбегались ребятишки. Папа требовал, чтобы играли всегда честно, чтобы не было ни ссор, ни драк. Так оно и было по его молитвам. Летом мы жили дружно.
Перед окнами дачи тянулась зеленая просека. Если идти по ней, минутах в пяти оказывался слева легкий забор, за которым стоял еловый лес. И в этом лесу простая дачка была приспособлена под храм. Лишь небольшой крест, тонувший в ветвях, показывал, что тут — церковь.
Сюда мы бегали без тропинок, через лес, неизменно пролезая сквозь дырку в заборе.
Иконостас отгораживал алтарь. Обслуживала храм одна милая старушка, которая зажигала лампады. К нашему великому удовольствию, она доверяла Коле и мне ходить во время богослужения за тарелочным сбором. Мы сияли от счастья и неизменно низко кланялись, когда нам кто-то клал деньги. Во время чтения поминаний нам разрешали выходить на улицу. Тогда мы бежали под ели и собирали букетики земляники, остерегаясь съесть хоть одну ягодку. Ведь тогда нельзя будет причащаться! Наши подружки Люся и Вера Эггерт поочередно бегали под окошко избушки, чтобы прислушиваться к пению. Они делали испуганные, страшные глазенки и кричали нам: «Херувимская, а мы тут!». Тогда мы мчались в церковь, подходили к тете Варе, нашей воспитательнице, и отдавали ей на сохранение свои букетики, чтобы после Святого Причастия получить их обратно для съедения.
В памяти моей сохранился один памятный вечер. Обыкновенно полный храм в этот вечер был совсем пуст: старушка у входа, двое певчих и я. А за окнами шумели деревья, моросил дождь, и было уже совсем темно. Мне было так хорошо, что не хотелось уходить. Домой не тянуло. Я любовалась слабым мерцанием лампад (электричества в Загорянке нигде еще не было), знакомый голос старенького отца Петра тихо произносил молитвы. Мне было лет пять-шесть, смысла слов я еще не понимала, но слушала молитвы с удовольствием. «Хоть бы век тут пробыть», — думала я. Неожиданно прибежал братец Коля.
— Ты, наверно, боишься одна идти через темный лес? — спросил он.
— Я не собиралась уходить, — ответила я.
— Однако пойдем. Тебя ждут ужинать и спать, — сказал он.
Мы вышли. Несколько минут тьма кругом была непроглядная, но я шла за Колей и не боялась. Но вот среди стволов заблестело окошко, за которым у нас горела керосиновая лампа. Мы облегченно вздохнули и побежали по мокрой траве к дому. Так бывает у детей: рассудок еще молчит, а сердце чувствует благодать Божию и начинает любить. Я в те годы очень любила тетю Варю (графиню Бутурлину), нашу гувернантку. Она была всегда ровная, тихая, грустная, никогда не смеялась, но и не плакала. Она любила ходить в Елоховский собор на службы и брала нас с собой. Мы покорно стояли в толпе, ждали «Отче наш», после чего всегда шли домой. Не причащались. Причащаться ходили мы только с родителями. Ездили в далекие храмы на трамвае. Почему? Вопросами мы не задавались, принимали просто, по-детски, все происходящее.
Одной из первых наших нянек была немка Маргарита Яковлевна. Справедливая, но очень строгая, она била нас по рукам, если мы дрались, и очень скоро приучила нас к сдержанности и дисциплине. С мая месяца по сентябрь включительно мы жили с Маргаритой Яковлевной на даче, в лесистой Загорянке. Родители приезжали к нам только в выходные дни, которые в те годы не совпадали с воскресеньями. К Маргарите часто приезжал ее родной дядя, пастор реформаторской церкви, приезжали и другие «братья» и «сестры» (так сектанты зовут друг друга). Они пели чудесные гимны, слова звучали ясно и были доступны детскому пониманию. Мне шел пятый год, но сердце мое замирало от восторга при этих звуках духовного пения. «Ближе б, Господь, к Тебе…», — раздавалась мечта среди леса. «Стучась у двери твоей, Я стою, пусти Меня в келью твою…», — слышали мы голос как бы Самого Спасителя. Мы, дети, даже тихо подпевали печальные гимны об усопших: «Они собираются все домой, и один за другим входят в край родной». Царство Небесное складывалось в нашем детском воображении как милая Отчизна, влекущая к себе душу: «И в белых одеждах, в святых лучах Спаситель их водит в Своих лугах…». Эти слова соответствовали нашей жизни, ибо мы проводили дни в долгих прогулках по лугам и лесам, усыпанным цветами и изобилующим ягодами и грибами.
Когда наступала пора возвращаться в темную московскую квартиру, лишенную солнца, из окон которой видны были одни только каменные стены, я горько плакала. Я с братцами сидела на телеге, нагруженной вещами; лошадка тихо шла по узкой лесной дороге; ветви деревьев задевали наши головы, окропляя нас холодной росой. А вдоль дороги из мха на нас смотрели шляпки белых грибов, блестящих от дождя. Сколько радости доставляли нам в прошлые дни эти грибы, а тут мы ехали мимо них, обливаясь слезами. За телегой шли мама и гувернантка, мне подали огромный и крепкий белый гриб, и я всю дорогу целовала его.
Наступила зима. Мы не заметили, как исчезла Маргарита Яковлевна. Однажды вечером в столовой появилась грустная, сдержанная и тихая Варвара Сергеевна, бывшая графиня Бутурлина. Мы, дети, встретили ее приход открытым бунтом. Узнав от мамы, что у нас опять будет гувернантка, мы кинулись искать поддержки у папы. Дверь к нему была заперта, и мы осаждали ее долго, стуча в дверь каблуками, кулаками, сопровождая стук криком и плачем. Папа долго не отворял, видно, молился, но потом вышел к нам и с трудом нас успокоил, уговорив подчиниться судьбе. Однако, когда Варвара Сергеевна начала нас водить на прогулки в сад, братья мои убегали от нее и держались поодаль. Я тоже сначала дичилась новой воспитательницы, но она скоро покорила мое сердце интересными рассказами. Она посылала меня за мальчиками, и я звала их, доказывая, что «тетя Варя» не злая, что она знает много чудных историй. Сначала за мной следовал Сережа, а потом приходил и Коля, ворча себе под нос и называя меня «изменницей». Вскоре мы привыкли к тете Варе и полюбили ее не меньше, чем родителей.
Мама в тюрьме
Как арестовали маму, мы не слышали. Мы проснулись утром, и, как обычно, около нас были тетя Варя и «бабушка» — монахиня Евникия, прожившая в нашей крохотной кладовой целых двадцать семь лет. Вечером отец пришел с работы и сказал нам, что мама уехала к дедушке, который заболел. Нас только удивило внимание, которое с того дня стали нам оказывать наши тетушки — Раиса Вениаминовна и Зинаида Евграфовна, приходившие с того дня к нам чуть не ежедневно. Меня они начали учить держать иголку и шить. А на Рождество они устроили нам елку, даже позвали к нам знакомых ребятишек. В праздничный вечер я сожалела только, что с нами нет мамы, потому что нас не переодели в парадные матросские костюмчики и мне при гостях было стыдно за мои дырявые локти на красной кофточке.

За декабрь и январь папа обошел все московские тюремные заведения, ища жену. Но он нигде не получил о ней никаких известий. Он не мог понять, за что она арестована, не мог отнести ей передачу, терялся в догадках, куда ее увезли. Надеясь на Божие милосердие, отец наш усилил молитвы, прося особенно помощи у преподобного Серафима Саровского, которого родители наши горячо почитали.
Однажды утром почтальон принес открытку на имя Коли. Брату подходил седьмой год, и он с интересом начал разбирать незнакомый почерк. Вдруг появился папа, выхватил у Коли открытку и скрылся в своей комнате. Мы стояли ошеломленные, но нас уговорили не плакать, потому что «папа весь задрожал, по-видимому, очень взволновался открыткой», — объяснили нам взрослые. Папа вышел минут через двадцать, уже одетый в дорогу и с чемоданом в руке. Он коротко сказал Варваре Сергеевне, что едет в Самару искать жену, ибо в открытке было сказано: «Дорогой Коля, твоя мама едет поездом в Самару. Шура».
Мы, дети, по-прежнему ничего не поняли, только 16 марта, когда мама вернулась домой после трехмесячного ареста, мы узнали из ее рассказов о следующем.
Маму арестовали ночью. Первые же слова вошедшей милиции были: «Сдать оружие!». Но так как оружия дома не было, солдаты приступили к обыску. В кухне они заметили, что некоторые половицы лежат неплотно.
— Что там? Подвал? — спросили они у хозяев.
— Да, вроде бы, кладем туда ненужные временно вещи. Солдаты подняли доски, один спрыгнул в яму.
— Бомба! — закричал он. — Вот она, контра-то!
И быстро выскочил из ямы, бледный и трясущийся. Николай Евграфович пытался его успокоить:
— Это не бомба, а только оболочка от бомбы. Я храню ее, как реликвию, как память о войне, о том, как я в армии обезвредил ее. Но милиционеры не поверили.
— Если так, то лезь сам и достань ее, — сказали они. Папа достал ее и очень сожалел, что милиционеры унесли «бомбу» с собой, как они сказали «для следствия».
Собрав вещи в дорогу, супруги сняли со стены образ, и мать благословила им спящих детей. Потом супруги, прощаясь как бы навеки, поклонились друг другу в ноги, обнялись и со слезами целовались. Видя эту трогательную сцену, дворник и комендант, присутствующие как понятые, опустили головы и тоже заплакали.
Квартиру тщательно обыскивали, ворошили белье, постели, но никто не знал, что ищут. В темном углу коридора стоял чемодан и корзина с вещами Маргариты Яковлевны.
— Чьи это вещи? — спросил милиционер.
— Нашей прислуги, которая уже ушла. Приоткрыли чемодан.
— Аккуратность просто немецкая, — восхитился сыщик, — жалко такой порядок портить.
— Да, она немка была, — подтвердила мама.
— Так это вещи не ваши? Нечего их и перебирать, — решил сыщик и захлопнул чемодан.
«Бог спас нас, — рассказывала впоследствии мама. — Если бы развязали стопочки белья, перевязанные ленточками, то нашли бы всю переписку с Германией тех немцев Поволжья, которые собирались бежать из СССР, как евреи бежали из Египта. Но на границе эти немцы были задержаны, а во главе их стоял пастор — дядя нашей Маргариты. И все письма шли к нему через Маргариту, а посылались на наш адрес, на имя Зои Вениаминовны Пестовой».
Маму поместили сначала в камере Бутырской тюрьмы. Холодная, грязная, тесная и вонючая камера не так угнетала ее, как полное неведение о судьбе своей семьи и незнание, за что она арестована. На допросах ее спрашивали о родных, об образовании, об отношении к заводу, который она очень любила, так как была энтузиастка своего дела, спрашивали ее о знании немецкого языка, который она совсем не понимала. Зоя Вениаминовна со слезами умоляла сообщить ей о муже и детях, но получала такие ответы:
— Муж — сидит, дети — в детдоме.
— За что же!?
— Скажите сами.
Мама рыдала, терзалась сердцем и мысленно умоляла Пресвятую Деву заступиться за ее семью. Настрадалась моя бедная мамочка. Голодный паек и вши не так ее мучили, как безнравственное общество воров и скверные анекдоты женщин. Тогда Зоя Вениаминовна взяла инициативу в свои руки. «Я доказала им, как мелки и пошлы их интересы. Я показала этим падшим людям, как прекрасен мир, какая есть художественная литература, как интересна история. Я рассказывала без устали об убитом царевиче Димитрии, угличском чудотворце, о Борисе Годунове и Иоанне Грозном, о Петре I, и о «Братьях Карамазовых» Достоевского, и о Евангелии, и обо всем, что знала, чем горело мое сердце, — говорила мне мама. — Меня слушали, затаив дыхание. Сочувствуя этим темным людям, я легче переносила свое горе».
Однажды, когда маму переводили в другую камеру и она спускалась туда по ступенькам, к ней подбежала девочка лет пяти. При тусклом свете отдаленной лампочки маме показалось, что к ней подбежала ее дочка. Ребенок обхватил маму руками и стал обшаривать ее карманы. «Наташа!» — закричала мама, подняла девочку и глянула в ее смуглое, грязное личико. Когда мама опустила девочку вниз, с ней сделалась истерика. Она долго безутешно рыдала, вся вздрагивала, заключенные с трудом ее успокоили. В углу этого огромного сырого подвала сидели монахини. Они утешались тем, что пели молитвы и рождественские песни. Мама запомнила слова и мотивы, и когда она вернулась из тюрьмы, то выучила и меня подпевать ей. Особенно трогательны были слова Богоматери, объясняющей горе ребенка-Христа:
Ты Его утешишь и возвеселишь,
Если ум и сердце Богу посвятишь.
Ты Его утешишь, если с юных лет
Жить по воле Божьей дашь ему обет.
В одной камере с мамой сидела молодая идейная партийная работница из райкома — некая Шурка, как она себя сама называла. «У меня голова ленинская», — хвалилась она формой своего черепа и хлопала себя по затылку. Но до ленинского ума ей было далеко. Шурку посадили за следующее, как она сама рассказывала:
«Я выросла в городе и не имела ни малейшего понятия о сельском хозяйстве. Всей душой преданная советской власти, я быстро продвинулась и заняла высокое место в райкоме как крупный партийный работник. Последней весной (а это был период коллективизации сельского хозяйства) в райком пришла жалоба, что крестьяне одного села отказались выезжать в поле и засеивать землю. Меня послали выяснить это дело и наладить посев. Я приехала из города как представитель власти, созвала крестьян и спросила:
— В чем дело? Почему не засеваете поля?
— Нет посевного, — слышу.
— Покажите мне амбары.
Открыли ворота сараев. Гляжу — горы мешков.
— А это что? — спрашиваю.
— Пшено.
— Завтра чуть свет вывезти его отсюда в поле и посеять! — прозвучала моя команда.
Мужики усмехнулись, переглянулись между собой:
— Ладно. Сказано — сделано! — весело откликнулся кто-то. — За работу, ребята!
Я торжествовала: «Послушались, видно, голос у меня внушительный!».
Подписав бумаги о выдаче пшена крестьянам, я спокойно легла спать. Проснулась я поздно, позавтракала и пошла к амбарам узнать: работают ли? А в сарае уже пусто, вывезено все под метелочку. К вечеру назначаю опять собрание. Народ сходится веселый, подвыпивший, где-то гармонь играет, частушки поют. «Почему гуляют?» — недоумеваю я. Наконец пришли мужики, смеются.
— Ну как, пшено посеяли? — спрашиваю.
— Все в порядке! — отвечают. — Распорядитесь, завтра что сеять?
— А что у вас во втором амбаре?
— Мука! Давайте завтра ее сеять! — хохочет пьяный мужик.
— Не смейтесь, — говорю, — муку не сеют!
— Почему не сеют? Раз сегодня кашу посеяли, значит завтра и муку сеять будем.
Меня как обухом по голове ударило:
— Как кашу сеяли? Да разве пшено — каша?
— А Вы думали — посевное? Ободранное зерно — это каша, а Вы распорядились ее в землю сеять.
У меня все в глазах помутнело. А тут гудок — «черный ворон» за мной подъезжает. Вот и попала я в тюрьму, как вредительница. А что я понимаю?».
Вот эта-то молодая Шурка оказалась предоброй душой. Она от всего сердца расположилась к Зое Вениаминовне и взялась отослать сыну Коле открыточку о судьбе его мамы.
Чудо преподобного Серафима
Когда поезд остановился в Самаре, было около десяти часов вечера. Николай Евграфович спрыгнул на занесенный снегом полупустой перрон. Поезд ушел, воцарилась тишина, немногочисленные люди быстро исчезали. Мороз крепчал, сверкали звезды. «Куда идти, где искать жену?» — думал он.
«Скажите, пожалуйста, где найти тюрьму?» — этот страшный вопрос, звучавший на темных пустынных улицах, наводил на людей ужас, и редкие прохожие спешили отмахнуться и скрыться от высокого крепкого мужчины с пушистой черной бородой, какая была тогда у отца. Он был легко одет, мороз давал себя знать. Николай Евграфович скоро понял, что надо искать ночлег, чтобы не замерзнуть и не попасть в руки плохих людей в чужом незнакомом ночном городе. Окоченевшие ноги вязли в глубоких сугробах пушистого снега. Огни в домах угасали, город засыпал, кругом царила мертвая тишина, прохожих не стало.
Отец горячо молился. Привожу с его слов: «Я прочел трижды тропарь преподобному Серафиму и решил, что пойду на огонек в третий по счету дом. Постучался. Дверь отворила приветливая старушка и любезно пригласила войти и обогреться. Я извинился, что побеспокоил хозяев в поздний час, вошел. Меня усадили к самовару, который приветливо пищал на столе, покрытом белой скатертью. В углу висели иконы, под ногами лежали теплые половики, было уютно и чисто. Хозяйка пила чай со своими двумя взрослыми дочерьми, которые напоили и меня горячим чаем и принялись расспрашивать о цели посещения. Я откровенно рассказал, что приехал искать свою жену, арестованную два месяца назад и переведенную в Самару. Сказал, что дома у меня осталось трое маленьких детей, что жену зовут Зоей.
— А как зовут Ваших детей? — живо спросила одна из девушек.
— Коля, Наташа, Сережа.
— Так благодарите Бога за то, что Он привел Вас в наш дом! — воскликнула девушка. — Я работаю медсестрой в тюремной больнице, и у меня в палате лежит Ваша жена, которая постоянно вспоминает о своих детях. Да не беспокойтесь, она чувствует себя неплохо, только кашляет. Она изболелась сердцем о доме. Пишите ей скорее письмо. Завтра я принесу Вам ответ от жены.
Я кинулся на колени перед иконами и громко зарыдал от радости, что нашел свою жену».
Медсестра указала отцу, по какой тропке ему надо будет утром пройти, чтобы жена могла его увидеть через окошко. И он несколько раз, будто ожидая кого-то, медленно прошелся под окнами больницы. Супруги увидели друг друга. «Сердце мое сжалось, — рассказывала мама, — ведь мороз-то был за тридцать градусов, а на ногах у мужа были только легкие штиблеты и даже без шерстяного носка!».
Но отцу было не до простуды (он от этого никогда не болел). Папа проявил инициативу, связался со следователем и прокурором и выяснил, в чем дело. Он пробыл в Самаре три дня, ежедневно переписывался с супругой и уехал в Москву успокоенный, ибо было доказано, что мама арестована по недоразумению, не имеет с немцами никакой связи и скоро будет отпущена. А любезная медсестра обещала держать маму в больнице как можно дольше, ибо кашель у нее не проходил, хотя после свидания с мужем она чувствовала себя хорошо и повеселела. Энергичная и изнывающая от безделья, мама взялась топить в больнице печки, перештопала все больничное белье, даже вышила мне платье. Она выдергивала нити из сурового полотенца и этими нитями расшила множество полос ришелье и мережки, разными рисунками сверху донизу, сделав мне нарядное белое платье. Мама часто рассказывала мне про тюрьму, причем всегда благодарила Бога за посланное ей испытание.
«Многое я прощаю советской власти, — говорила она, — но одного не могу простить: в тюрьме сидели матери с маленькими детьми, с грудничками. Немытые, грязные, вонючие и больные крошки кричали и умирали с голоду».
Валентиновка. Отец Исайя
В начале 30-х годов наша семья сблизилась с семьей Эггертов. Они жили в трех километрах от церкви, однако не пропускали праздников, приходили всей семьей к обедне. Родители мои приглашали их к нам, чтобы отдохнуть после службы и покормить их маленьких девочек. Эггерты тоже звали нас к себе в гости. И вот мы все впятером отправлялись к ним. Путь шел через лес, кое-где извилистая тропа была чуть заметна. Но мы не уставали, предвкушая удовольствие от встречи с друзьями. Хозяин — Михаил Михайлович — выходил к нам навстречу, нарядные девочки вели нас по саду к качелям, к шалашам… А за столом нас обильно угощали клубникой. В одной из комнат в кресле сидел благообразный красивый старец-священник. Мы благоговейно подходили к нему под благословение и тут же удалялись, чтобы не мешать беседам взрослых.
Впоследствии я узнала, что это был отец Исайя, иеромонах, возглавлявший тайную «подпольную» церковь. Но нам, детям, этого никто не объяснял (нам было не понять). А родители наши ходили к Эггертам иногда и без нас, так как высоко ценили возможность подкрепляться духовно у столь великого старца. Однажды они там задержались допоздна. Кругом бушевала буря, ветер ломал деревья, дождь лил непрестанно. Но хоть и стемнело, они решили идти домой к детям. Их удерживали: «Как же вы пойдете? Дороги не видно, в лесу скрываются разбойники». Однако отец Исайя благословил их идти. «Дайте-ка мне палку», — сказал он. Кряхтя, он с трудом поднялся, слегка распрямил свою согнутую от старости спину и быстро зашагал вперед. Все ахнули от изумления, но старец сказал: «Возьмитесь за руки, как при обручении, я поведу вас. Господи, благослови!».
Мама не раз рассказывала нам про тот вечер: «Кругом была непроглядная тьма, шумел ветер, тут и там огромные деревья с корнями вырывало из земли, треск стоял непрестанно. Мы не шли, но нас несло без дорог и тропинок, нас несло вслед за батюшкой, который крепко держал наши сжатые руки. Через кусты, через ельник мы не пробирались, мы почти бежали, шепча только: «Господи, помилуй!». И ни разу мы не споткнулись, не упали, пока не вышли на просеку совсем близко к дому. «Вот и огонек у вас на подоконнике, — сказал отец Исайя, — вот так в жизни и идите. Не бойтесь бурь житейских, крепко держитесь друг за друга и призывайте Господа. Бог сохранит вас. Идите!». И по молитвам святого старца жизнь нашей семьи прошла, как под крылом Всевышнего».
После Загорянки в 35-м и 36-м годах лето мы проводили в г. Угличе, на Волге. Здесь, на родине мамы, еще жил ее отец, маленький ласковый старичок, очень похожий на доктора Айболита, как его рисуют в детских книжках. Мы у него в домике часто бывали и обильно поедали ягоды из его сада. Окна нашей дачи глядели на широкую улицу, мощенную камнем, по которой ежедневно мимо нас проходили одна за другой колонны заключенных. Все они были в одинаковых серых куртках и штанах, все бритые, без головных уборов. Впереди, сзади и по сторонам колонны шли солдаты с ружьями. «Кто это? Куда их ведут?» — спрашивали мы у родителей. «Заключенные», — отвечали они. «Они преступники?» — спрашивали мы. «Всякие есть…». — «А почему?». — «Вам рано это понимать…». Больше нам, детям, ничего не говорили, мы не любопытствовали, продолжали играть. Я с наслаждением нянчила хозяйских детей, очень их любила и не задавалась вопросом, где отец этих малюток?
В 37-м и 38-м годах мы опять сблизились с семьей Эггертов, ибо два лета снимали у них дачу. Легкие перегородки отделяли наши комнатки. Кушали мы всегда одновременно за одним столом, по утрам и вечерам вместе читали молитвенное правило, так что жили, можно сказать, одной семьей. Три девочки Эггертов, наши ровесницы, да нас Пестовых трое детей, да Лёка (Ольга Ветелева), дочка соседки — вот вся наша компания. Мы считались уже достаточно взрослыми, так что нам без взрослых разрешалось ходить в лес, пасти коз, собирать ягоды и грибы. Поочередно у нас гостили дети арестованных князей Оболенских: то Андрюша — ровесник Коли, то Николушка — ровесник Сережи, то Лиза. Нам было запрещено спрашивать об их родителях или интересоваться чем-либо из их жизни. Мы об этом не думали в одиннадцать-двенадцать лет, веселые игры и интересные книги заполняли наше время в летние каникулы. Читали мы только старинную дореволюционную литературу, подобранную нашими родителями. Папа проводил уже тогда с нами религиозные беседы, используя те часы, когда мы в жаркий полдень валялись, отдыхая, в прохладной тени сада. То были радостные часы, свет которых озарял впоследствии нашу жизнь. Отрезанные от греховного мира, окруженные лаской и заботой, находясь в обществе исключительно глубоко верующих людей, мы росли, не ведая ни о страданиях Церкви, ни о муках всего русского народа, ни о моральном падении общества, ни о зверствах в тюрьмах и концлагерях. А зимой нас так задавливали количеством уроков, что мы едва успевали одолевать школьные программы, ведь училась вся наша компания исключительно на «пять», а это требовало многих часов прилежной усидчивости. Кроме школы я посещала изостудию, ходила одна около двух километров до Детского дома культуры. Заснеженными переулками мы ходили вечерами еще на частные уроки немецкого, французского и английского языков. А в зимние каникулы мы опять встречались с летними друзьями. То у нас, то у них устраивались веселые «елки» с угощениями и декламацией религиозных стихов. Заучивать их наизусть и рассказывать было для меня большим удовольствием. Мы ездили на целый день к Эггертам, гуляли по снежному лесу, катались с горы на санках, а по застывшему пруду — на коньках. Чистый морозный воздух, солнце, мертвая тишина кругом, иней и снег на ветвях елей — все это наполняло восторгом наши души. А в доме — тепло, уютно, душистая елка с зажженными свечами, горячий чай из самовара и улыбки дорогих друзей… Ни ссор, ни зависти, ни вина, ни страстей мы не видели, все было свято, прекрасно. Телевизоров еще не изобрели в те годы, а радио никто из «наших», верующих, не включал. Газеты читала мама, подчеркивала интересное красным карандашом, передавала папе со словами: «Вот, почитай. Ведь все врут и врут — нет правды!». Иногда родители сокрушенно обсуждали общественную жизнь и политику. Папа, вздыхая, говорил: «Твори, Господь, Свою святую волю!». А мама говорила: «Ничего не останется в тайне, история обо всем расскажет, но не скоро, а лет через шестьдесят… Мы-то не доживем, а вы, детки, всю правду о том, что творилось в СССР, в свое время узнаете…». Так, полное неведение о беззакониях, о тяжких грехах, о людях, современных нам и злобных, хранило мою душу от уныния и недоумения. А духовное чтение о святых, посещение Елоховского собора, знакомство с возвращавшимися из тюрем и ссылок монахинями и священниками — все это зажигало веру в Промысел Божий.
Я спала в одной комнате с мамой. Но очень часто мама уступала свою кровать неожиданным гостям, жившим у нас по неделе, по две, а то и дольше. Мама ухаживала за ними, как за святыми, пострадавшими за веру, даже часто шила что-то для них. Я спала с этими «тайными» монахинями в те дни в одной комнате, в углу на своем сундуке. Но никто никогда не рассказывал нам об ужасах тюрем и ссылок, видно, щадили наше детское воображение.
Когда нам было лет десять-двенадцать, папа иногда собирал нас по вечерам для духовного чтения. Обычно это было перед вечерней молитвой. Отец читал нам сам вслух Евангелие, объяснял притчи, указывал, как надо в жизни руководствоваться Священным Писанием. Папа читал нам жизнь святых и произведения Поселянина. Но он делал, как мне думается, ошибку в том, что в эти часы нам разрешалось жевать мягкие булочки, бутерброды, даже заниматься рукоделием. Мама учила меня шить, ребята что-то вырезали и клеили, наше внимание к словам отца рассеивалось. К сожалению, эти вечера продолжались только года два-три, потом нам стало некогда, появилось много уроков, часто кто-нибудь болел, а папа ездил в командировки или у него были вечерние часы в институте. Папа часто тяжело страдал приступами бронхиальной астмы. Мама всегда очень переживала его болезнь и пугала нас словами: «Умрет отец — я вас на одном черном хлебе буду держать!». Тогда мы, дети, начинали прилежно читать акафисты святым. Смысл текста был нам далеко не ясен, но мы твердо верили, что святые нас слышат и Бог исцелит нашего дорогого папочку. Мама научила нас молиться от души и своими словами. Когда папа болел или задерживался на работе, мама вставала вместе с нами и горячо выпрашивала у Бога благополучие нашему семейству. Для меня это был пример настоящей искренней молитвы. Мы повторяли за матерью простые, понятные слова, обращенные к Богу: «Господи, дай папе нашему здоровье!». Поклон. «Господи, сохрани нашу семью от беды!». Поклон. Или: «Господи, прости нас, прими за все наше благодарение».
Мама жила под вечным страхом. Она боялась несчастного случая на улице, боялась ареста, боялась, что донесут о том, что мы верующие, боялась, что их уволят с работы. Однажды произошел следующий случай, характерный для того времени.
Отец мой около двух суток ехал в пассажирском поезде, возвращался в Москву из длительной командировки. В одном купе с ним ехало трое грузин. Они играли в карты, шутили, рассказывали анекдоты и выпивали. Папа не принимал участия в их веселье. Он тихо лежал на второй полке и молился. Грузины звали его в свою компанию, приглашали в ресторан, но он вежливо отказался, ссылаясь на нездоровье. Один из попутчиков не выдержал, вспылил и сказал:
— Вы, наверное, враг народа, потому что Вы не вступаете в наш разговор, видно, боитесь выдать себя. Погодите, мы до Вас доберемся, вот приедем в Москву и сдадим Вас на руки соответствующим органам.
Отец не смолчал, но сказал, что его оскорбляют их подозрения. Ведь он просто устал и болен, так зачем же его тревожить? Однако грузин не унялся:
— Пусть проверят, что Вы за личность, — грозил он.
Сердце отца дрогнуло, ибо с ним была его Библия. Он боялся, что его станут обыскивать и, найдя Библию, донесут на работу о его мировоззрении. Но Бог услышал его. Один из попутчиков оказался порядочным человеком. Когда его приятели вышли, он шепнул:
— Не беспокойтесь. Я сумею напоить подлецов пред самым прибытием в Москву. Я уложу их спать, а Вы, не теряя ни минуты, поспешите выйти из вагона и удалиться.
Отец поблагодарил грузина и последовал его совету. Поезд прибыл в Москву около десяти часов вечера. Была морозная зима, мы с мамой ожидали поезда на перроне, ибо получили от отца телеграмму с номером его вагона. Пропыхтел паровоз, поезд остановился. И первым, кто выскочил из вагона, был мой дорогой папочка. Я кинулась было к нему на шею, но он (впервые в жизни) тут же меня отстранил, кивнул маме и быстро, чуть не бегом, зашагал по перрону. Мы с мамой, ошарашенные его поспешностью, еле за ним поспевали. Мы влетели в первый попавшийся трамвай, огляделись и перевели дух. Полупустой вагон загремел и тронулся. Тогда папа шепнул: «Слава Богу! Кажется, мы одни, меня не преследуют».
В те годы родителям приходилось тщательно скрывать свои убеждения. Иконы стояли в книжном шкафу или за занавеской. Родители опасались ходить даже в дальние храмы. Закрылось несколько церквей, куда мы раньше ходили, были арестованы священники, посещавшие наш дом. Оставшиеся священники скрывались и тайно совершали требы по квартирам своих духовных детей.
Папа и мама ездили куда-то, не говоря о том даже нам, а иной раз и в нашу квартиру собирались для богослужения какие-то незнакомые люди. Это было торжественно и таинственно. Накануне убирались, обсуждали обед, готовили. Нас предупреждали, просили быть серьезными и никому ничего не рассказывать. Школу мы в тот день пропускали.
Батюшка располагался в кабинете папы. Еще до рассвета к нему спешили на исповедь его осиротевшие духовные дети. В темном узком коридоре у двери кабинета толпились плачущие старушки, а мама с предосторожностью отпирала сама дверь, впуская только тех, кого ждали. Утром служили Литургию, во время которой пели, как комарики жужжат. Говорили друг с другом только шепотом, многозначительно переглядывались, всхлипывали и глубоко вздыхали. Мы, дети, смотрели на все это с удивлением, но я скоро поддавалась общему настроению, исповедовалась со слезами и сокрушенным сердцем и сознавала себя великой грешницей. Сережа ворчал себе под нос, Коля оставался спокойным и веселым. Со времени начала войны эти тайные богослужения у нас прекратились. Нас временно переселили в другой дом, многие из наших друзей эвакуировались, некоторых мужчин призвали в армию. Да и не было уже нужды в конспирации. Аресты за веру прекратились, «забирали» только тех горячих людей, которые не захотели присоединиться к Православной Церкви, возглавляемой Патриархом Сергием. Знаю только два подобных случая со времени начала войны, когда были арестованы «за политику» семинарист Дудко (будущий известный священник) и священник Иоанн Крестьянкин, дерзнувший открыто собрать кружок верующих. Впоследствии отец Иоанн стал великим старцем-исповедником. В эти годы даже «мечевцы» стали ходить в храм святого пророка Ильи — Обыденский. Верующим стало «легче дышать». Дома у нас открыто повесили иконы. Но власть по-прежнему осталась непримиримой к Церкви, все семьдесят лет стараясь затушить веру в народе, но уже иными способами. Об этом будет сказано дальше.
Школа
Я в тот же день все рассказала маме, и на следующий день нас рассадили…
продолжение следует