В издательстве «Никея» вышла в свет книга доктора богословия, настоятеля московского храма Трех святителей на Кулишках протоиерея Владислава Свешникова — «Полет литургии. Созерцания и переживания».
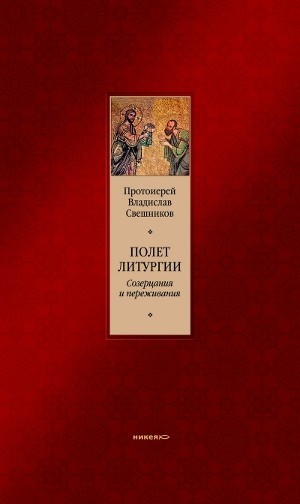
Обложка книги
Книга посвящена главному христианскому богослужению — Божественной Литургии. В максимально доступной и увлекательной форме отец Владислав поднимает самые глубокие вопросы православного литургического богословия.

Отец Владислав Свешников
Текст, который читатель видит перед собой, лишь очень условно может быть назван литургикой. Разумеется, здесь будет сделана попытка внимательного рассмотрения всего, что совершается в литургии, прежде всего ее словесного содержания. Но это не все. Здесь неизбежны и различные соображения, и воспоминания, интуиция и переживания, которые пробуждаются в связи с предметным движением литургии. То есть литургия дает поводы к намекам на конкретное содержание того, что открывается «около литургии». Но эти намеки могут увидеть лишь те, кто хоть сколько-то сознательно живет в Церкви и переживает то, что происходит в жизни церковной, и в частности, в жизни литургической. Литургическая жизнь и ее содержание дают много поводов для того, чтобы нечто, что прежде дремало или прикрыто лежало в сердце и сознании, вдруг слегка приоткрылось и начало действовать; но если этого нет, то никакие волеизъявления в этом отношении никогда ничему не помогут. Единственная помощь — это намекнуть, и вдруг нечто в ком-нибудь загорится и он скажет: «Да, я теперь вижу то, что, наверное, и всегда видел, только не знал об этом». (Как известный персонаж Мольера всю жизнь говорил прозой, но не знал об этом.)
Для всех верующих христиан Божественная литургия есть самая великая драгоценность. Для неверующих она представляет собой в лучшем случае некое полутеатральное действо; но кто из людей, даже очень любящих театр, будет ходить на один и тот же спектакль, зная его наизусть? Для людей посторонних литургии здесь есть некая странность, даже если относиться к литургии как к самому замечательному искусству[1]: постоянное переживание одинакового «синтеза искусств» рано или поздно обязательно надоест.
Но тем, кто живет в Церкви, литургия не надоест никогда. Для них опытно известно, что жизнь в Церкви определяет все. Определяет прежде всего отношение к Богу — отношение любви. Так что иногда, хоть и с некоторым стыдом, можно сказать: «Я, наверное, все же люблю Бога». Потому что, если кто может без сомнения сказать о себе, что он любит Церковь, очевидно, это и будет свидетельством его любви к Богу. Самому о себе говорить это неловко, потому что любовь предполагает если не совершенство, то по крайней мере совершенствование, путь. Но православное покаянное самосознание всегда различает в себе не движение, энергичную динамику, путь, но, напротив, скорее болотную застылость, если не мертвость.
И все же церковное, конкретнее литургическое, переживание бытия определяет все, что только предметно бытийствует. Прежде всего, отношение к миру во всех его проявлениях (как положительных, так и отрицательных), имея в виду «мир» как совокупность Божественного творения и «мир», который выражает собой понятие «общественное мнение»: «мир считает». Это переживание включает в себя отношение к людям, как к людям конкретно знаемым (особенно к людям наиболее близким), так и к дальним, отношение к самому себе, отношение к природе и к человеческому творчеству, отношение к мировоззренческим смыслам и всякой религиозности и многое, многое другое.
Короче говоря, литургическое переживание должно определять все виды отношений. Но это несколько отвлеченное понимание в соотнесенности с собственным сердечным и внимательным опытом дает возможность покаянно увидеть, что на деле это не совсем так, потому что все эти типы отношений большей частью определяют не столько церковность, духовное содержание жизни, сколько автономную психологию. Именно она, во всей полноте своих состояний и переживаний, определяет прежде всего отношение к самому себе, в различных осуществлениях, порою сильно искажающих личностное бытие (душевные болезни). Эти осуществления — суть искажения заданного Богом образа, искажения, которое принято называть «падшая природа». Падшая природа в ее психологическом содержании в основном и определяет не только внутреннюю жизнь, но и отношение к ближним, и даже к Церкви, и даже к Божественной литургии, что кажется странным, но только на первый взгляд.
Каждый внимательный человек может заметить, что даже и во время литургии по его внутреннему пространству носятся помыслы в самых разнообразных направлениях и только порою удается встрепенуться и собраться на несколько мгновений, да и в эти мгновения все напряжение душевного и духовного внимания не сливается в проходящую точку Божественной литургии, и лишь на некоторое время удается воспрянуть, а потом снова оказаться влекомым движениями помыслов.
Но дело даже не только в этом. Сердечное чувство православного человека всегда (хотя это никогда не формулируется) говорит: «Как хорошо быть на Божественной литургии, принимать в ней участие в любом качестве!» Но и в этом есть некоторая мнимость, потому что на деле во время литургии многие «плавают» по душевно-эстетическим, сентиментальным волнам, когда проходящее действие литургии оказывается лишь некоторым поводом для некоего приятного «настроения», иногда радостного, а иногда печального. Этому отчасти способствует чрезмерная порою эмоциональность священника, которая прорывается сквозь видимое бесстрастие, а еще более пение хора, в котором содержится соответствующее настроение, содействующее этому приятному душевному самоощущению.
Люди, сознательно живущие в Церкви, знают (в основном знанием несколько отвлеченным), что во время литургии происходят некоторые чрезвычайные события и они — причастники этих событий, особенно когда они являются прямыми причастниками Тела и Крови Христовой, когда дерзновенно подходят к Святой Чаше. Но это не меняет сущности их душевного переживания во время литургии.
Из такого душевного переживания трудно выйти к литургии, потому что она, с одной стороны, очень проста, а с другой стороны, сложна. Проста как воздух; только сумасшедший, может быть, делая каждый вдох, тут же произносит про себя сложную химическую формулу воздуха — человек просто дышит.
И на самом деле, кажется, и нет необходимости в таком отвлеченном знании, наоборот, игры в богословскую ученость могут даже порождать некоторое фарисейство. В формальном знании всегда есть такая опасность, особенно в знании духовном. Беда быть профессором богословия, большое количество знания таит в себе большую опасность фарисейства, по крайней мере фарисейства интеллектуального. Но и без знания невозможно, потому что, разумеется, не только знание (лишь до некоторой степени отвлеченно богословское, но больше сердечное, но все же знание, опирающееся и на эту богословскую содержательность) дает возможность выйти к верному пониманию и переживанию литургии, которое выводит из обычного состояния и переживания слишком простых благочестивых ощущений (которые, впрочем, по своему внутреннему смыслу не очень далеко уходят от сентиментально-эстетических ощущений).
Можно всю жизнь прожить в ощущениях благочестия и не знать, что они суть просто забава души. И самое печальное, что, по-видимому, для многих эти благочестивые ощущения не только оказываются достаточными для проживания Божественной литургии, но даже и непонятно, а чего еще-то можно ожидать (ушли от отвлеченности, ушли от простой сентиментальности, самой примитивной, ушли от автономной эстетики — и что еще искать?); но на самом деле благочестивые ощущения, если искать их специально, вообще беда и грех, потому что в самостном сладком переживании восторга, «подпирающего» все сознание, и кажется, что вот теперь-то все точно и правильно! А на самом деле все эти переживания — лишь поводы и формы выражения духовной жизни, но лишь тогда действующие, действительные и верные, когда они опираются на знание, которое является чем-то гораздо более высоким, чем отвлеченные всплески интеллектуального ощущения.
Учиться верному литургическому знанию нужно именно для того, чтобы попытаться найти для себя поводы для глубокого внутреннего благочестия, чтобы литургия раскрылась во всем торжествующем величии внутреннего смысла, разрушающего всякую иллюзию, чтобы открылась та красота, которая cветит больше, чем даже благочестие в жизни святых, когда эти жизни становятся видны не просто в формальном содержании нравственных и духовных качеств в некотором конспективном объеме или в пересмотре конкретных жизненных содержаний: строгали тело, а человек все равно не отрекался от Бога.
Это поразительно, но гораздо важнее другое. Это «другое» не часто открывается в текстах житийных, потому что в них, к сожалению, обычно содержится много общей схемы, но порою они захватывают дух. Как в известном рассказе патерика об Антонии Великом, когда пришли к нему три монаха, и двое все что-то у него спрашивали, а третий все время молчал. Когда же Антоний спросил: «А ты что молчишь?» — он ответил: «А мне, авва, достаточно просто смотреть на тебя».
И иногда встречаются такие люди — порою и мне попадались, в основном это были священники, но и не только священники, — когда достаточно было только на них смотреть. И слушать тоже было прекрасно, все было небесполезно и драгоценно, но и в слушании открывалась не столько конкретность предлагаемых знаний, сколько красота бесконечно живой жизни, живущей подлинно божественными смыслами. Она порою открывается и в житийных рассказах, в том числе и в современных житиях. Для тех, кто любит красоту личностного бытия, из всех современных книг она более всего видна в книге «Старец Силуан». В ней две части. Первая часть — это описание духовного опыта старца, а вторая часть — его записки. Первая часть замечательна, а во второй и вовсе запечатлевается бесконечная красота.
И в литургии происходит то же самое, как и во всех духовных содержаниях (например, в лучших иконах, когда мимо них не проходишь, как мимо цветовых пятен, а вдруг что-то привлечет всмотреться духовными очами, когда они вдруг откроются через физическое зрение, и сияет та же духовная красота).
Наиболее известная аскетическая книга, пятитомник, который состоит из рассказов о многообразном опыте переустройства души так, чтобы познающий ее человек становился тем, что апостол любил называть «новой тварью», называется «Добротолюбие». «Доброта» — это по-славянски не «добро» в его эмоциональном переживании, а «красота». Таким образом, добротолюбие (красотолюбие) — любовь к прекрасному, это живая, аскетическая и деятельная любовь.
То же самое открывается и в Божественной литургии, но эта вещь одновременно и очень сложная, потому что, как уже сказано, она как воздух, о котором не задумываешься, когда литургия органично входит в жизнь души, когда в Божественной литургии принимаешь участие, становишься участником, а не просто слушателем. Ужасно оказаться только слушателем литургии. (Кстати, заметим, что многие вполнемприличные люди в XIX в. были в этом отношении совестно ограничены. Так, например, в некоторых мемуарах или в дневниковых записях лиц духовного звания того времени можно прочитать: «Прослушал Божественную литургию». Увы, слова выдают, даже если не принимать во внимание складывающиеся иронические контексты.)
На деле каждый присутствующий на Божественной литургии должен быть ее участником, что очень трудно, потому что непривычно; очень трудно, потому что никто никогда об этом не говорил; очень трудно и психологически, потому что так обычно потребительское отношение к литургии. Для того чтобы войти в эту не мнимую, подлинную простоту, необходимо одновременно стать и соучастником, и приятелищем Божественного литургического содержания. Как это сделать — сформулировать теоретически невозможно, но пример привести могу. Я был как-то в одном русском зарубежном храме и обратил внимание на то, что во время Евхаристического канона, при освящении Даров, когда говорится «Аминь», все верующие вслед за священником повторяют: «Аминь, аминь, аминь». Конечно, это тоже может быть просто звуком, как и все, но может быть и знаком — знаком соучастия. И когда живешь жизнью Божественной литургии, все становится знаками соучастия. И тогда не просто личные благочестивые ощущения, а переживание литургии как жизни становится знаком и признаком этого соучастия, особенно когда и по жизни совершается то, что духовные писатели XX в. называли «литургия после литургии».
«Литургия» в переводе с греческого означает «общее (общественное) служение». И когда от воскресенья до воскресенья проходит жизнь, наполненная чем-то гораздо более высоким, чем просто бытовое пребывание не в своих земных обязанностях, когда просыпается готовность самоотверженно отдавать свою жизнь для других, жизнь и становится общественным служением. Служение есть фактор, который религиозно и нравственно стал содержательным только по пришествии в мир Иисуса Христа. Термин «служение» был всегда, потому что всегда был термин «слуга», слуги служили, работали для господ. И духовно-религиозный, т. е. почти перевернутый, смысл он приобрел, когда и в Своих действиях, и в Своих словах: «Я пришел для того, чтобы послужить, а не для того, чтобы Мне служили» — Христос явил новый способ отношения к жизни и к действительности.
Нечто подобное может совершаться в повседневной жизни, в семье, в различных отношениях с разными людьми, в работе, в делах, когда в этом отношении с понедельника до субботы жизнь совершается как подвиг самоотдачи, т. е. как служение, наполненное тем самым парадоксальным отношением, которое открыто религиозно. И тогда есть вероятность того, что каждое воскресенье не только священническое служение, но и любое стояние и слушание на Божественной литургии превращается в сослужение.
Но для этого нужно видеть и знать, что служится, чему и кому служится, как служится, т. е. для этого нужно войти в новую жизнь и пребывать в ней. Для этого нужно преодоление себя, и это не только в силу своей очевидной греховности или своих пошлых зависимостей от различных пристрастий, которые не уходят вполне и на Божественной литургии. Необходимо преодоление себя, чтобы войти в живой строй жизненно ценных установок, и главная из этих установок — любовь.
Необходимо войти в строй любви Божественной и стать участником того качества жизни, которое открывается в Божественной любви, в Божественной литургии.
Переустройство себя трудно еще и в том отношении, что нам, не столько духовным, сколько плотско-душевным, почти невозможно пребывать постоянно в этом качестве жизни. Один раз воздохнуть к Небу еще возможно, трудно находиться в течение двух часов в напряжении внепространственной и безвременной содержательности, которая одновременно протекает и во времени, и в пространстве. На литургии мы пребываем во времени и в пространстве; мы никуда не возносимся, и время течет эти два часа мимо нас и с нами. Но в то же время здесь и сейчас происходит встреча времени с вечностью. Кажется, что это состояние одновременно внеземного и земного бытия на деле невозможно, потому что все же плотско-душевная укорененность не дает возможности вполне оторваться от земли.
Но властно призывает Божественная литургия своим началом: «Благословенно Царство…» — и открывается вход в это Царство, и ты проходишь, и весь мир остается позади. И вот ради этого-то момента, который определяет ближайшие два часа (и всю жизнь), и нужно преодоление себя. На деле так не бывает почти ни с кем, почти никогда; со священниками это случается несколько чаще, потому что они непосредственно предстоят престолу, и это открывает возможность таких преодолений (и это вполне получается далеко не всегда). И это почти невозможно себе представить: отрыв от земли без отрыва — время и безвременность, время и вечность! — как это трудно для традиционного душевного земного устройства личного бытия, а другое и неизвестно; к себе и к жизни за годы образуется устойчивая привычка. Но порою в ночном сне нечто пробуждает какие-то сонные же переживания, но вдруг они вызывают ощущение необходимости быстрой реальности для несонного, для трезвенного, для бодренного бытия, и происходит пробуждение. И тогда надо войти хоть на два часа в состояние пробужденности, начинающейся утренней свежести.
Так открывает духовный день Божественная литургия и является сопровождением дня — не просто эмоциональным, давая возможность пробудиться людям постоянно сонным и пребывать в пробуждении, когда душа так тянется к тому, чтобы снова подремать, снова войти в свое дремотное состояние, — дело нелегкое и непривычное, но литургия зовет к этому. Литургия есть не только призыв, но как бы и выдергивание из сна каждого принимающего участие в жизни — к жизни бодрой. Но самое главное в том, что бодрое состояние, состояние освобождения от сна и есть одновременно освобождение (ожидаемое Небом от каждого участника литургии) от эгоцентризма, освобождение от всяческой самости.
Как-то давным-давно мне один священник говорил: «Когда ко мне кто-нибудь подходит с каким-нибудь разговором или вопрошанием, я все свое оставляю за кормой, я перестаю жить собой, в любой степени, в малейшей степени, я поворачиваюсь к нему всем корпусом, я живу только тем, что мне нужно услышать и на что мне нужно каким-то образом ответить, т. е. быть ответственным за эту судьбу». Вот так же в некотором отношении оставляются за кормой литургии все суетное и психологическое — для подлинной жизни, для подлинной любви, для подлинного бодренного напряжения, для того, что, собственно, и дает возможность жить, потому что жизнь без литургии — это лишь то, что называли некогда «способ существования белковых тел».
А жизнь литургическая открывает подлинные смыслы жизни. И когда приходит момент, что остается сказать только последнее «ох», и уже впереди даже не секунда, а какое-то мгновение, а затем — вечность, безусловно вечность (вечность не как дурная бесконечность, а как совершенно иной способ бытия, вечность либо бесконечного блаженства, либо бесконечного страдания), вот тогда-то и окажется, что определяло подготовку к вечности во всей полноте смысла участие в Божественной литургии.
Порою очень хочется верить и иметь надежду, что все спасутся. Так отчасти верил полусвятой, полуеретик Ориген. Такой надеждой одушевлялся святой писатель Григорий Нисский. В том же духе слышалась ценность переживания старца Силуана, которому так жаль было мир погибающий, что он говорил, что любовь христианская вынести этого не может. Некоторый намек на это слышится в известной мысли апостола Павла о том, что люди строят дело своей жизни «из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, — каждого дело обнаружится: ибо день покажет: потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело, каково оно есть… У кого дело сгорит, тот потерпит урон: впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Но что остается спасенным, если все, что составляло дело жизни, оказывается погибшим? Но именно так может быть с теми, кто в литургии не познал во всей полноте смысла бытия. Главный смысл бытия — участие в деле Божественной литургии.
Во всяком деле жизни есть свой центр. Центром литургии является Евхаристия. Все, что в литургии до Евхаристии, это подготовка. То, что принято называть литургиями Иоанна Златоуста и Василия Великого, собственно текстов Василия Великого и Златоуста содержит не очень много, и все они практически относятся к Евхаристическому канону.
Если рассмотреть состав литургии, например по книге архимандрита Киприана (Керна) «Евхаристия», можно проследить, как многие тексты с течением времени отпадали, другие, наоборот, входили в состав Божественной литургии. И дело даже не в авторстве, а в том, что центр изменить невозможно; не в том отношении, что слова изменить невозможно, — слова изменить возможно, потому и существуют Литургия Василия Великого и Литургия Иоанна Златоуста. К тому же известно, что из того, что относится к Евхаристии, как в I, так и во II вв. христианства существовало несколько основных типов, а различных модификаций этих типов и вовсе довольно много. Разумеется, они имели не только общий контекст, общий смысл, но и общую внутреннюю направленность и общую содержательность. Это безусловно, но по конкретности слов они могли сильно отличаться. Разве что не отличалось главное: «приимите ядите… пийте от нея вси…», потому что литургия есть воспоминание, но и будучи переживанием непосредственной жизни, здесь и сейчас совершающейся, она апеллирует к тому содержанию, которое впервые открылось во время Тайной вечери.
Есть еще одно общее соображение, почему не так легко жить литургией и понять ее. Литургия включает в себя по крайней мере несколько основных пластов, которые органично соединяются так, что, казалось бы, соединить и невозможно. Разве что в постмодернистском сознании и практике, когда всякие намеки на то, что было уже написано или сказано, соединяются в замечательно причудливой игре, в частности в игре слов. Но литургия есть главное, само непосредственное бытие, сама реальность, и хоть в высшем смысле, в духовном содержании, но все-таки зримое и ощущаемое. Зримое и ощущаемое хотя бы потому, что и на деле (не в воспоминании только и не в воображении, а на деле) участники ее причащаются Тела и Крови Христовых. И это и есть самая высшая реальность. Но одновременно в ней проходит целый ряд символов и воспоминаний и различных исторических содержаний, которые тоже органично входят в эту общую ткань. И в этом отношении имеется специфическая трудность для тех, кто толковал литургию (кроме, может быть, архимандрита Киприана (Керна) и нескольких литургистов XX в., которые сумели избежать этой трудности), а именно всегда есть стремление представлять литургию как некоторое действие, наполненное условно символическим натурализмом. Когда говорится, что нечто обозначает что-то другое, например священник, выходящий с Евангелием, «изображает» Христа (худо ему будет, если он на самом деле будет думать, что он изображает Христа, это большая беда), а дьякон — это как бы ангел, — это и есть пример натуралистического символизма.
Когда во время Херувимской песни на Великом входе совершался вынос Даров, приготовленных к освящению, это имело конкретный исторически технологический смысл, который просто исторически соответствовал определенному моменту, — перенос Даров на престол, и все. И в сознании тогдашних христиан этот момент не имел никакого специального мистического содержания. Это специальное духовно-мистическое содержание в течение веков стало не столько описываемым, сколько ощущаемым. Именно поэтому для многих момент Херувимской почти равнозначен с моментом Евхаристии, а для некоторых даже больше значит, во всяком случае, острее переживается.
При этом богословская мысль готова «обслужить» это сильное переживание, для которого вполне было бы достаточно простого понимания: переносятся на престол хлеб и вино, которые силой Духа Святого и по молитвам Церкви во главе с совершающим литургию священником через несколько минут станут Телом и Кровью Христовыми. Поэтому Церковь призывает всех освободиться от умственной суеты и текущих озабоченностей. И все. И это не так уж мало. Но символический натурализм не хочет на этом остановиться. Он ищет всякие аналогии (снятие с Креста и пр.). И это глубоко осмысленное реалистическое действие приобретает натуралистически-символический характер: некое конкретное бытие одновременно что-то обозначает.
Живя литургией, необходимо согласиться с тем, что ничто в ней ничего не изображает. Необходимо увидеть, что в реальности и происходит то, что произошло на Тайной вечере, и это не спектакль, и действие Евхаристии — это не просто воспоминание, а она на деле является непрерывно продолжающейся той самой Евхаристией, которую совершил Иисус Христос, никогда не прекращающейся, постоянно длящейся Евхаристией, которая становится смыслом и переживанием жизни. И действие литургии вообще никогда не прекращается.
Именно в том и состоит один из ее главных смыслов, что вечность встречается с временным быванием, и момент этой встречи — это и есть литургия, поэтому она никогда не прекращается. Так вот, органичность в жизненном единстве этих пластов бытия подчиняется прежде всего высочайшему реализму, и именно поэтому центром литургии является Евхаристия, к ней все остальное подтягивается: подтягиваются нравственные смыслы, которые изложены прежде всего в антифонах, предваряющих духовно-нравственное содержание Евхаристии, исторические смыслы и аллюзии. И происходит этот совершенно чудный духовно-нравственный синтез, который вынести ум человеческий не способен и не может, и вместе с тем мы вынуждены действовать словами, другого способа у нас нет.
Итак, вот и первые слова. Начальные молитвы священника «ЦарюНебесный», «Слава в вышних Богу», «Господи, устне мои [2] отверзеши» совершаются им перед престолом, при этом он ставит Евангелие на престол, опирается руками на верх Евангелия, берет его в руки и производит им крестное движение, потому что литургия есть действие крестное и вместе с тем Евангельское. Литургия есть и апелляция ко Кресту, и ожидание пронизанности всего действия Евангельскими смыслами.
При этом священнодействии он произносит вслух первые слова Божественной литургии: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь». Этот первый возглас начала Божественной литургии является настолько значимым и содержательным еще и потому, что соединяется с описанным крестообразным действием (Евангелием над престолом). Тем самым дается осознать, что эта апелляция к крестному смыслу и к Евангельскому содержанию связана с открытием литургии, как Благословенного Царства. Слово «открытие» особенно уместно не в Русской Церкви, а во всех остальных православных церквах, где принято по традиции[3] на этот возглас открывать Царские врата; возглас сказан, Царские врата закрываются. Это очень духовно логично.
Хорошо и верно любить традиции, любить предание. Предание устанавливает жизнь Церкви; когда жизнь верно построена на верном основании, она представляется делом устойчивым. Но вместе с тем в жизни постоянно открываются новые если не содержания и подходы, то новые переживания. Обновление есть вещь естественная для живого бытия: ведь человек не принадлежит только вечности.
И в истории литургической жизни, в частности в тексте литургии, менялось довольно много, особенно в первые века, пока содержание Божественной литургии не устоялось (приблизительно IV—V вв.), хотя и после этого бывали некоторые изменения, в основном частные и местные. После этого традиция становится довольно устойчивой. Так, не менялось, очевидно, у Церквей греческой, иерусалимской, болгарской, сербской открытие Царских врат. Открывается дверь как символ, напоминание и возможность осознания, что открытые Царские врата объявляют открытие того, чем является и алтарь (как образ Небесного Царства) и литургия (как явление Небесного царства).
Читайте также:
Пояснение Божественной Литургии


