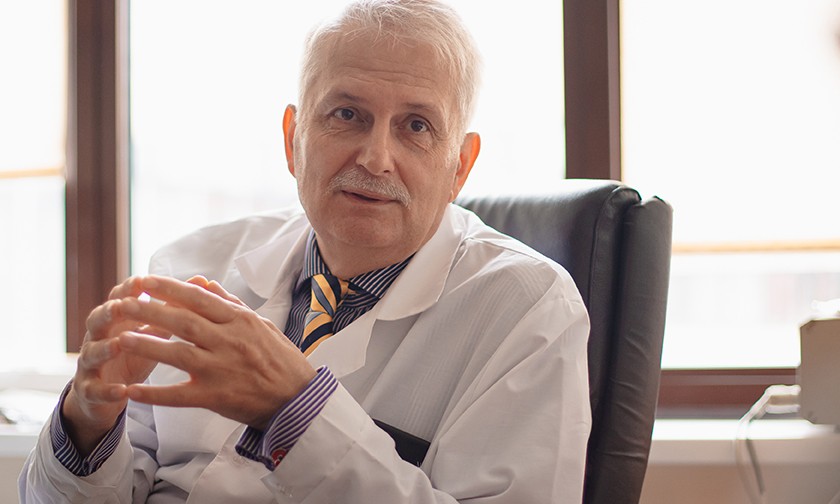«Я могу только потянуть для больного время – глядишь, зацепится». Врач Юрий Буйденок

Начало в «семерке»
В России анестезиолог и реаниматолог — это одна и та же специальность врача, для нее требуется один и тот же сертификат. Но реаниматолог предпочитает работать в отделении реанимации с экстренными пациентами, доставленными скорой помощью, или с больными после тяжелых экстренных и плановых операций, а анестезиолог проводит наркозы при выполнении операций. В любом случае, такой специалист должен уметь работать и в отделении реанимации, и в операционной. Практикующий анестезиолог-реаниматолог — это молодой, сильный, здоровый человек, а мне 68 лет, и я уже оставил профессию. Сейчас занимаюсь в основном научной работой.
А начинал я в 1978 году в 7-й Городской клинической больнице (ныне ГКБ им. С.С. Юдина. — Прим. ред.). Все умирающие, агонизирующие с улицы, из-под колес, выпавшие из окон высоких домов поступали к нам. «Семерка», как мы ее называли, — огромное учреждение, которое в то время обслуживало строящиеся районы Орехово-Борисово, Царицыно и другие. Среди строителей было много приезжих из сел или маленьких городов — любителей выпить, погулять, подраться. В 90-е появились любители пострелять. Были и беременные, которые никогда не наблюдались в консультации.

Этих несчастных женщин лет 16–20 я помню особенно хорошо, их доставляли в роддом с патологическими родами. Надо было срочно оперировать, а акушеров-гинекологов, способных выполнить мало-мальски сложную операцию, были единицы, и не всегда на месте. Часто привозили женщин с эклампсией — тяжелейшим состоянием, которое еще называют поздним токсикозом беременных: нефропатия, высокое артериальное давление, судороги, кома, инсульт. Единственный способ спасения — родоразрешение с помощью кесарева сечения и интенсивная терапия в условиях реанимации.
Этих пациенток часто не удавалось спасти. Конец-70-х — ни снабжения, ни препаратов, ни антибиотиков. Зато каждый случай с детской и материнской смертью разбирали в Горздраве, тащили на ковер всех участников лечебного процесса, начиная с гинекологов из женской консультации. А что они могли сделать, если той беременной ни разу в глаза не видели?
Юрий Владимирович Буйденок — специалист по анестезиологии-реаниматологии, онкологии, интервенционный радиолог, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники. Владеет всеми видами общей анестезии и методами обезболивания хронического болевого синдрома, включая проводниковые и центральные блокады с использованием интервенционных радиологических технологий. Владеет методикой изолированной гипертермической химиоперфузии и инфузии при саркомах и меланомах, локализованных в области конечностей. Выполнил более 100 успешных перфузий конечностей у пациентов с меланомой кожи и саркомами мягких тканей. Автор более 150 публикаций в российских и зарубежных научных изданиях и 3 монографий.
«Юра, ты попал не туда»
Я не из медицинской семьи, мой папа — военный инженер, а мама умерла совсем молодой. В детстве и юности я занимался фехтованием, у меня был уровень мастера спорта. А потом вдруг начались плохие результаты. И мне сказали: «Иди в институт физкультуры, будешь тренером». Я учился, хотя тренерство меня не особо увлекало. А потом один приятель, уже окончивший институт физкультуры, мне говорит: «Пошли в медицинский, заодно там спортивную команду создадим». Мне всегда нравилась биология, и я поступил. Кстати, мы действительно создали команду, и вообще фехтование помогло в жизни и в профессии. Быстрота реакции, уход от атаки, да и умение держать удар — не лишнее.
Поначалу в мединституте я говорил себе: «Юра, ты попал не туда». На первом, втором, третьем курсах с нами обращались так, словно мы предали родину, мать и отца. «Не выучил? Видеть не хочу, пошел вон вечером на отработку». Два несданных зачета по анатомии, физике, физиологии, патофизиологии — и ты кандидат на отчисление. Папа будил меня рано утром в анатомичку и говорил: «Что с тобой, ты спросонья про кости рассказываешь». А я зубрил до ночи, да еще на латыни. Но постепенно увлекся.
Наверное, меня можно считать случайным человеком в медицине, но я встречал множество людей, считавших медицину своим единственным призванием. Они по несколько раз поступали в мединститут, некоторые со временем становились высококлассными специалистами, а потом бросали профессию. Видимо, в 17 лет только мама и папа могут сказать, какое у тебя призвание. Мой отец одобрил мой выбор — и, к сожалению, стал моим первым пациентом, так как тяжело заболел.

После мединститута, уже работая в реанимации, я отучился в МВТУ им. Баумана — техника меня всегда привлекала. Дома были паяльник, детальки, отец показывал мне, как собирать схемы на транзисторах. Я и на человеческий организм смотрел как бы с технической точки зрения: что там за жидкости, как они взаимодействуют, почему один устроен так, а другой иначе, один толстый, другой худой. Технические знания я часто использовал как мнемонический прием: кровообращение — это водопровод, вот здесь нужно открыть кран, а здесь закрыть. Неврология — это система проводов, вот тут они соединяются, и так далее.
Как я не стал хирургом
На третьем курсе, в 1976 году, я хотел стать хирургом. Это не мешало мне изредка прогуливать занятия по хирургии, но ведь в мединституте прогулял — отработай. Однажды наш преподаватель спросил: «Ребята, кто пойдет мне ассистировать на аппендэктомии? Дел на полчаса, только крючки подержать, потом отработку зачту». Я вызвался первый.
Начинается операция, хирург делает разрез, а аппендикс-то нормальный. Откуда тогда признаки перитонита? Проводит лапаротомию, находит небольшую язву — видимо, дело было в ней. Разобрались, зашили, но все это вылилось в три часа стояния буквой «Г», при том, что рост у меня 1 метр 84 сантиметра, а в детстве была травма позвоночника.
Я две недели не мог разогнуться и понял, что хирургия мне не светит.
Начал углубляться в терапию. Однажды пришел к одному опытному терапевту посмотреть на больных, поучиться. К нам привезли умирающего больного с инфарктом. Я помогал делать искусственный массаж сердца, но это был пятый инфаркт, шансов не было. И все же, несмотря на первый печальный реанимационный опыт, я увлекся.
Мою судьбу на шестом курсе решила моя знакомая, Лариса, которая уже работала в реанимации: «Тебе ведь нравится реаниматология? Приходи к нам, поучишься, а потом останешься работать, нам очень не хватает врачей». Я пришел — и меня загрузили по полной, потому что рук и впрямь не хватало. Один анестезиолог на несколько столов, и часто звали на помощь реаниматолога. Я быстро учился, и мне стали доверять ответственные манипуляции с тяжелыми пациентами.
«Очень страшно, но выбора нет»
В реаниматологии катетеризация центральной вены или интубация трахеи целиком зависят от твоих рук. Поначалу очень страшно, но выбора нет. Необыкновенно важны и учителя. Иной вставит трубку, а как — не объяснит: «Сам не знаю. Просто умею — и вы умейте». А есть те, кто объясняют, как открыть больному рот, как правильно уложить голову, показывают: «Вот тут поаккуратней, можно повредить, а здесь, наоборот, не миндальничай, оттяни с силой».
С теорией было сложнее — не все анестезиологи-реаниматологи понимают, что и зачем они делают. Просто «так принято», а почему — никто не задумывается. Здесь мне сильно помогло умение учиться, которое я приобрел в моем Первом меде. Пришлось много читать, а сложные вопросы выяснять у опытных людей, которых было немало в нашей клинической больнице.

В итоге я в «семерке» и остался. Время было сложное: стареющий генсек, война в Афганистане, застой. Никому ничего не было нужно. Раньше требовалось отработать два года по распределению, и это правильно. Государство тебя обучило — будь любезен, верни долг. Нужен доктор на Таймыре? Поезжай на Таймыр. А тут на распределении меня спрашивают: «Хочешь на периферию?» — «Нет, не хочу». — «Хочешь в поликлинику?» — «Не хочу». — «А куда ты хочешь?» — «А в Седьмую, я там уже работал». — «Ну вот тебе направление, иди».
«Какая тут гордость, когда понимаешь, что ничего сделать не можешь»
Мне моя специальность нравится тем, что ты спасаешь чью-то жизнь и сразу видишь результат. Правда, романтикой тоже увлекаться не надо. Знаете, почему у нас так много косоруких хирургов? Потому что в них чересчур много романтизма.
Поначалу я гордился, что пришел в профессию, но потом этих чувств резко поубавилось. Были случаи — ты реанимировал больного, потом его перевели в палату, и он умер. А вроде не должен был. Вот сидишь, разбираешься, где косяк. Я же пишу назначения, а дежурный врач их меняет по мере изменения состояния пациента. Либо я что-то неправильно написал, либо дежурный врач напутал, либо возникли какие-то независящие от нас причины. Так что вместо гордости лучше книжки почитать и идти трудиться дальше.
Когда много работаешь, появляется некая связь с больным, потому что слышишь его сердце. В отличие от многих, я никогда не выключал монитор.
Зайдешь в операционную — и сразу поймешь, что происходит с пациентом, совсем он плох или есть надежда. Но в какой-то момент от этой связи устаешь, она давит на психику.
Тяжелее всего было работать с детьми, трудно отключать эмоции. Когда у ребенка травмы, несовместимые с жизнью, делаешь все, чтобы выиграть время до приезда реанимационной детской бригады, которая его заберет. Все-таки они специалисты и лекарствами были обеспечены получше. Если он умирал у нас, то работа вставала, вся бригада начинала рыдать, особенно женщины, у которых были свои дети.
Так что какая тут гордость, когда понимаешь, что ничего сделать не можешь.
А еще — куча отчетности. Завотделением ругается: «Опять дневник не написал», — но ведь его тоже проверяют. К тому же медицинская карта — или, как ее тогда называли, история болезни — единственное доказательство твоей невиновности. С появлением компьютеров стало полегче.
Ну и, честно говоря, сильно раздражала низкая зарплата, которая приравнивалась к малоквалифицированному труду. Возвращаешь человеку жизнь, а у тебя самого ни денег, ни квартиры, а чтобы свести концы с концами, ты бомбишь — таксистом подрабатываешь.
«Неделю в коме — а там, глядишь, и выйдет. Чудеса случаются»
В реанимации начинаешь понимать простые вроде бы вещи: время лечит, а у больного этого времени нет. Но если отодвинуть конец сначала на час, потом на два, потом на сутки, то, глядишь, человек не умрет, и даже выздоровеет. Привезли несчастного из-под машины — ну не сделаю я ему ни новые кости, ни новые сердце или мозг. Зато могу потянуть для него время, и тогда организм «зацепится» и начнется восстановление.
Кардиохирургическим больным нередко вводят очень мощные кардиотоники — норадреналин, адреналин, мезатон. Я сначала не понимал, как можно лупить по умирающему сердцу плеткой? А потом понял. Это как усталую, упавшую в снег лошадь стегают, чтобы она поднялась и хоть как-то доплелась до сеновала, где согреется, отдохнет, поест. При массивном повреждении всегда нужно выиграть время и любым путем сохранить хотя бы минимальное кровообращение в сердце. Если пациент не умер сразу, у него появляется шанс перейти в новую фазу, когда сердце начинает работать самостоятельно. Тут главное не переборщить. Ударишь бревном вместо плетки — сердце остановится.
И еще одна хитрость: уход за тяжелыми. Санитаров у нас не было, медсестры зашивались, мы помогали им поднимать и перекладывать больных. Вот пациентка с эклампсией еле держится, у нее отек мозга, за нее дышит аппарат. Но если она лежит в крови, в моче, у нее появляются пролежни, то точно не выживет. Видишь такое — бери мыло, губку, тазик и начинай мыть сам. В таких случаях сестре обычно становится неудобно, она говорит: «Идите-идите, мы без вас справимся». Потом смотришь — больная хоть и в коме, но уже умытая и чистенькая. А если при этом есть нормальная терапия, то появляется надежда. Сперва стабилизировали, потом отек мозга стал проходить, начинаются процессы восстановления. Неделю пробудет в коме, а там, глядишь, и выйдет. Чудеса случаются.
Почему хирурги и анестезиологи недолюбливают друг друга
Все мы нормальные люди и делаем общее важное дело, но обязанности и ответственность разные. Хирург отвечает перед больным и его родными, что операция пройдет хорошо, анестезиолог следит, чтобы больной не умер от остановки сердца или дыхания, чтобы после операции не страдал от боли, неукротимой рвоты, быстро восстановился.
Есть выражение: «Бывают маленькие операции, не бывает маленьких наркозов». Но при больших хирургических операциях тем более нужна большая анестезия. У хирурга должны быть прикрыты тылы. Если он допустит ошибку, то, благодаря грамотному анестезиологу, у него будет 5–10 минут, чтобы овладеть ситуацией. А если анестезиолог не справится или не захочет (увы, борьба амбиций иногда продолжается и в операционной), то достаточно одного случая, чтобы навсегда испортить хирургу жизнь, да и анестезиологу тоже.

Были времена, когда хирург напортачит, а потом говорит: «Больной не перенес наркоза». Поэтому анестезиолог должен четко представлять, что делает хирург, по мере сил исправлять внезапную критическую ситуацию, а потом четко объяснить, как все было, чтобы его не обвинили во всех смертных грехах. В хорошей бригаде такое редкость. Если что-то случается, то чаще при экстренных вмешательствах либо в результате недостаточной предоперационной диагностики. К сожалению, даже самый современный метод диагностики не дает 100-процентного результата.
Работа у хирурга не сахар. У меня из рукоделия в основном две вещи: наладить сосудистый доступ и вентиляцию легких. Дальше — провести наркоз. После этого я могу посидеть в сторонке или ненадолго отойти, особенно если в операционной остается опытная сестра-анестезистка. А хирург часами на ногах. Не зря говорят, что варикозная болезнь — беда хирургов и парикмахеров.
«Никаких операций, сегодня вы пишете диссертацию»
В 1980 году в ГКБ №7 пришла группа кардиохирургов во главе с Глебом Соловьевым, который до этого был директором института трансплантологии. Это был уникальный специалист, но с тяжелым характером. Первое время кардиохирурги работали на допотопном аппарате искусственного кровообращения, было много тяжелых осложнений. Больные, которых они оперировали, были «отказниками» со всей страны, в кардиоцентрах по месту жительства им отказывали — слишком тяжелые.
Естественно, все это сопровождалось большим количеством смертей, конфликтами и скандалами. Но постепенно оборудование улучшилось, появились хорошие по тем временам мониторы. Я начал общаться с анестезиологами из кардиореанимации и узнал новые для себя вещи. У меня стало получаться выводить этих пациентов из сложных ситуаций, а если это не удавалось, я всегда мог объяснить, почему спасти было невозможно.
Однажды я участвовал в очередной неудачной попытке пересадки сердца. Появилась идея сделать научную работу, используя эти данные, и написать диссертацию. Именно с этими знаниями и материалами я перевелся позже в онкологический центр.

В НМИЦ им. Блохина меня пригласили, потому что энергичный и способный хирург, Михаил Давыдов, выполнявший громадные операции по поводу рака пищевода, легкого, желудка, очень хотел делать пересадки сердца и легкого, для чего собирал команду. Я попал в торакальное отделение, где проводят самые травматичные и сложные операции, при которых требовался мой опыт реаниматолога.
А принимал меня на работу профессор Александр Салтанов, основатель детской онкологической анестезиологии в СССР, который в то время руководил всей анестезиологической службой онкоцентра. Я считаю его своим учителем и другом. Когда я рвался в операционную, он говорил: «Нет, сегодня вы пишете диссертацию». Он меня очень поддерживал, помогал советами.
Наша команда под руководством Михаила Давыдова и недавно умершего выдающегося кардиохирурга Рената Акчурина стала проводить сочетанное хирургическое лечение. Например, у человека рак желудка и одновременно инфаркт, ему во время одной и той же операции и рак удаляют, и сердце лечат. Кардиохирурги и онкологи работают бок о бок, такое вот «два в одном». За этот метод хирургического лечения в 2001 году группа наших ученых получила госпремию, и он же лег потом в основу моей докторской диссертации. Я защитил ее в 2005 году.
«Мы купили аппарат, мы купили препарат»
Александр Салтанов любил повторять: «Есть две беспроигрышные темы для диссертации: “мы купили аппарат” и “мы купили препарат”». Аппараты мне всегда были интересны. По предложению Давыдова я занялся массивными кровопотерями — мы собирали теряемую во время операции кровь и после обработки на специальном приборе возвращали ее больному.
Я пытался внедрить в наших условиях некоторые методики, которые использовались за рубежом — например, длительный венозный доступ через порт. Если каждый раз заново ставить катетер в вену и вводить через него химиотерапию, то никаких вен не останется. Но есть устройство для введения химиопрепаратов, которое вшивается пациенту на долгое время, не доставляя ему никаких хлопот.

Меня увлекала изолированная перфузия конечностей. Она нужна при меланоме, которая часто бывает на ноге или руке и в конечном счете приводит к ампутации. Однако если к конечности подключить определенный прибор и сделать перфузию (внутреннее промывание) этой конечности препаратами в сверхвысоких дозах, то на этом участке болезнь перестает прогрессировать. Потом, увы, появятся метастазы в других местах, но мы снова выиграем время и улучшим качество жизни человека. Он не станет колясочным инвалидом. Таких процедур я провел несколько десятков.
Еще мы предложили метод для послеоперационной гипертермической перфузии брюшной полости. Пациенту после операции вставляют дренажи и промывают брюшную полость горячим раствором химиопрепарата с содержанием платины, чтобы удалить оставшиеся раковые клетки. Я и аппарат для этого придумал, который поддерживал строго определенную температуру. Нас очень критиковали, называли все это «бульонным методом», а потом… потом купили точно такой же аппарат, только французский.
Сейчас времена изменились, все вдруг вспомнили, что надо развивать свое производство, в том числе и медицинской техники. Может быть, что-то здесь и изменится, только цена этих перемен очень высока.
Фото: Юлия Иванова