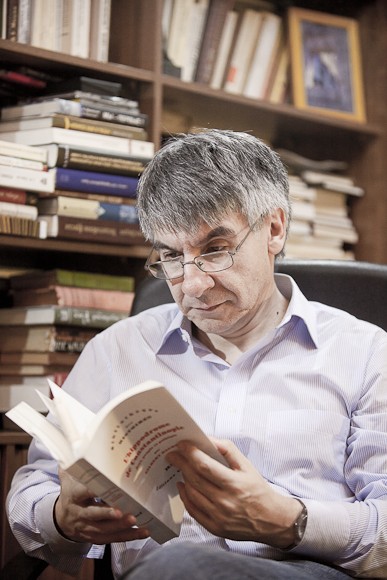Профессор Сергей Иванов о комплексе неполноценности, наследниках Византии и уплощении образования
Сергей Аркадьевич Иванов (род. 1956) — доктор исторических наук, специалист в области истории Византии и древней истории славян. Профессор факультета филологии ВШЭ, ведущий научный сотрудник Отдела истории средних веков Института славяноведения РАН. Выпускник кафедры классической филологии филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (1978). Автор ряда исследований по истории культуры Византии: «Византийское юродство» М., 1994, «Византийское миссионерство» М., 2003, «Блаженные похабы. Культурная история юродства» М., 2005, «В поисках Константинополя. Путеводитель по византийскому Стамбулу и окрестностям» М., 2011.
Спрятаться от маразма советской действительности
— Вы окончили классическое отделение филологического факультета МГУ. Для многих тогда уход в изучение древних эпох был связан, с одной стороны, с тем, что в этой сфере была большая свобода для исследователя, с другой стороны с тем, что, как говорил Гаспаров, туда можно было спрятаться как в щель от маразма советской действительности. Была ли у Вас подобная мотивация?
— Да, несомненно, была, и очень острая. Я это именно так ощущал, я шел спрятаться от маразма советской действительности. И одновременно таким же побудительным мотивом была разделяемая, наверно, многими любовь к классической античности, восторг перед ней.
— А что больше всего повлияло на Ваше желание глубоко изучать классические языки?
— Пожалуй, это тот редкий случай, когда я могу сказать о некоем призвании, потому что у меня теплело все внутри, когда я видел слово на латыни или на греческом. Я начал заниматься латынью еще в школе, в 7 классе с индивидуальным учителем.
— Расскажите об этом учителе.
— Это замечательная женщина, Валентина Николаевна Чемберджи, она, слава Богу, и сейчас здравствует. Она тоже была классиком, и я вместе со своим другом еще будучи ребенком, занимался с ней латынью. И это был просто восторг. Есть люди, которые с таким же пиететом относятся к культуре древнеегипетской или древнеперсидской, у меня же было подобное чувство только к латыни и греческому. Поэтому когда я узнал, что есть такое место на свете — классическое отделение — где занимаются именно этими двумя языками, то я совершенно не колебался.
Пожалуй, это ощущение не оставило меня до сих пор. Мне по-прежнему приятно всё, что связано с античностью, хотя профессионально я античностью совершенно не занимаюсь.
— Во время обучения Вы выбрали не классический, а византийский профиль. В одном из Ваших интервью Вы говорили, что изучение Византии казалось Вам возможностью лучше понять советскую тоталитарную действительность, но это не оправдалось. Как Вы сейчас смотрите на эту проблему?
— Это совершенно не оправдалось. Сейчас я понимаю, что это было притянуто за уши. Хотя мой великий учитель, Александр Петрович Каждан, который и побудил меня идти в византинистику, до конца своих дней был абсолютно уверен, что советский коммунизм — в конечном счёте порождение Византии. Но я с этим по прошествии лет совершенно не согласен, хотя тогда вслед за ним так думал. Но дело было сделано, и отчасти в том, что я сменил специальность, «повинно» вот это ощущение, отчасти — обаяние личности самого Каждана, который пришёл к нам на старших курсах набирать группу византинистов, и отчасти то, что я понял, что византиноведение — это сфера, где легче совершить что-то новое, сказать что-то самому, в то время как в классической филологии сказать что-то новое — это надо быть действительно гением.
Византинистика с нуля
— Расскажите об Александре Петровиче Каждане.
— Александр Петрович Каждан — это совершенное чудо, которое доказывает, что Дух веет, где хочет. Византийские исследования были и физически, и духовно уничтожены: после 1929 года никаких византийских исследований в Советском Союзе не велось, кто-то был посажен, самый великий византинист из на тот момент здравствовавших, Владимир Николаевич Бенешевич, был расстрелян, поэтому когда сталинский имперский ренессанс второй половины 1940-х годов столкнулся с необходимостью вернуть византиноведение к жизни, то выяснилось, что его уровень просто на нуле, что нет ничего, ничего и никого.
Был Михаил Яковлевич Сюзюмов, прошедший через лагеря и в конце концов выживший и вынырнувший в Свердловске, нынешнем Екатеринбурге. Он был из людей старой школы, выучившихся ещё до революции. Он впоследствии создал там свою школу, которая цветёт и до сих пор, екатеринбургскую школу византиноведения, довольно интересную, независимую. Но в Ленинграде не было вообще никого, и было несколько рассеянных, очень уже старых, сломленных жизнью людей вроде Россейкина.
Руководить возрождением византиноведения был поставлен Евгений Алексеевич Косминский, человек очень достойный, но не имевший к Византии никакого отношения: он был специалистом по землевладению средневековой Англии. Он был, что называется, «из бывших» и учил в гимназии греческий язык. Вот его и «бросили» на византиноведение. И он понимал, что не специалист, но в то же время осознавал, что призван к великому делу.
Он сделал всё возможное: призвал некоторых аспирантов 1940-х годов, которые и создали византиноведение в СССР. Одним из них и, безусловно, самым великим, был Александр Петрович Каждан, который получил диплом, если не ошибаюсь, Уфимского педагогического института (в эвакуации). Если школа западной медиевистики ещё как-то сохранялась: был тот же Косминский, был Неусыхин, были другие люди, то византинистов не осталось. И в этом плане Каждан слепил себя сам.
Надо понимать, что такое была вообще наука история в Советском Союзе. Это был соцэк, надо было заниматься социально-экономическими отношениями. Как он понял, этот молодой человек, что нужно пойти в отдел рукописей тогдашней Ленинской, ныне Государственной библиотеки и начать делать просто описание греческих рукописей? Я и сейчас туда прихожу, беру каталог, и там описание составлено аспирантом Кажданом, его рукой. До сих пор там существует это описание!
Почему он понял, что нужно начинать исследование с самого трудного, не с каких-то построений теоретических, правильных или неправильных, а просто с того, чтобы научиться читать греческие рукописи — это он должен был постичь как-то сам. И он вырос в одного из двух-трех величайших византинистов ХХ века. Действительно, Каждан является в каком-то смысле оправданием всего советского византиноведения.
Когда он эмигрировал из Советского Союза в 1977 году, его на Западе встречали как триумфатора. Он был вровень с самыми высшими достижениями мировой византинистики. Он прилетел в Вену (тогда все эмигранты из Москвы летели в Вену), и в Вене его встречали все византинисты во главе с величайшим австрийским византинистом Хунгером. Он приехал к Мюнхен, и там его встречал величайший мюнхенский византинист Бек. Потом он переехал в Париж, и его встречал величайший византинист Лемерль. В Америке его встречал величайший американский византинист Шевченко. Он был на равных, на «ты» с ними со всеми, ему не нужно было приспосабливаться, ему не нужно было входить в курс дела.
Как ему удавалось в Советском Союзе следить за всеми научными новинками, как ему удалось выучить все языки (при том, что реальное общение было минимальным, его не выпускали за границу, поэтому языки учил он сам)? Это было совершенное человеческое чудо, что такой Каждан состоялся. Его имя, хоть он умер уже довольно давно, в 1997 году, до сих пор всё время упоминается, он цитируется, его трехтомный словарь по византиноведению по-прежнему остаётся главной настольной книгой всякого византиниста, хотя он вышел в 1986 году, для науки это довольно много, но он остаётся непревзойдённым. Так что это моя большая удача, что мне удалось с ним встретиться, познакомиться. Именно под его влиянием я написал диплом; я писал его на классической кафедре, но по византийской тематике. Но, к сожалению, это был год, когда Каждан уже уезжал, так что после этого вся моя работа уже шла без него.
— Кто ещё из Ваших учителей Вам особенно запомнился?
— После этого я перешёл под руководство другого замечательного византиниста Геннадия Григорьевича Литаврина. Его история в каком-то смысле даже более романтична. Каждан, по крайней мере, жил в Москве, он успел перед войной поступить в ИФЛИ, а Литаврин был родом из алтайской деревни. Из-за детского увечья (у него была повреждена правая рука) он не был взят на фронт, но все тяготы военные он пережил. Он поступил на исторический факультет, увидев первое иностранное слово в двадцатилетнем возрасте, т. е. он вырос абсолютно ниоткуда, от земли. В этом смысле это тоже показатель того, что Дух веет, где хочет.
У него был другой профиль, он занимался византийско-славянскими исследованиями, и я поступил в аспирантуру к нему после отъезда Каждана. Потом я был взят на работу в Институт славяноведения (тогда он назывался Институт славяноведения и балканистики, поэтому там было византиноведение, логичным образом) и под его руководством, в его отделе истории Средних веков проработал очень много лет. Он был сначала моим руководителем, моим начальником, потом моим соавтором, моим коллегой.
До самой его смерти (это было 4 года назад) мы с ним были очень близки, и я по-прежнему преклоняюсь перед его и научными, и человеческими качествами. Он сыграл огромную роль в моей жизни. Это были два моих главных учителя, но, конечно, я был окружён гораздо большим количеством людей: и на классическом отделении, где я учился, и в Институте славяноведения, где я работал. Всех не перечислишь.
До сих пор для меня остаётся величайшим, непревзойдённым авторитетом нынешний глава отдела истории Средних веков Института славяноведения Борис Николаевич Флоря. Он чистый славист, но с точки зрения методологии, с точки зрения того, как надо делать науку, для меня Борис Николаевич — непревзойдённый образец.
Риторическое чудо
— Доводилось ли Вам пересекаться с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым?
— Конечно, мне доводилось с ним пересекаться. Учиться не доводилось, он не преподавал, но я с ним не раз общался и свою первую монографию успел дать ему на отзыв и получить от него какие-то советы.
Я увидел его впервые, когда я был студентом, и, конечно, это было непередаваемое ощущение. По глубине восторга я не могу вспомнить ничего подобного, потому что это ещё и было риторическое чудо. То, как он говорил, потрясало до самых основ ещё и техникой говорения. Всё было удивительно в Сергее Сергеевиче. С точки зрения нестандартности личности, конечно, он тоже занимает очень важное место.
Его книга «Поэтика ранневизантийской литературы» вышла, когда я ещё учился, я её купил ещё студентом. Может быть, современного человека это так не поражает, но тогда то, что там можно было найти ссылки на Евангелие, например, само по себе уже было удивительно. Вообще вся манера писания его — совершенно потрясающая.
Советская жизнь была очень плоская, чрезвычайно чёрно-белая. А Аверинцев демонстрировал, что жизнь необычайно сложна и многомерна. И в условиях того, что Солженицын назвал «образованщиной», Аверинцев очень хорошо демонстрировал, что такое образованность, образованность в противоположность образованщине. И этот урок, я думаю, не одному мне, а целому поколению глубоко запал в душу.
Общий «декор» эпохи
— Какая была обстановка в византинистике в позднюю советскую эпоху? Было ли какое-то идеологическое давление на византинистов?
— Идеологическое давление было опосредованным. Византиноведение возглавлялось одной дамой, Зинаидой Владимировной Удальцовой, которая, разумеется, была глубоко партийным, коммунистическим, начальственным человеком. Она была сначала заведующим сектором Византии, потом стала директором Института всеобщей истории. Она была, разумеется, цербером, идеологическим надсмотрщиком, разумеется, то, что она писала, не имеет никакой научной ценности. Она в значительной степени повинна в эмиграции Каждана.
Есть такой анекдот — это правда, но звучит анекдотично. Она его не выпускала на конгрессы, ему бесконечно приходили приглашения на стажировки из-за границы — она его не выпускала. В какой-то момент на конгресс его не отпустили в последний момент. Она, безусловно, ревновала еще к его мировой славе. А потом его пригласили прочесть лекции в Новгородский педагогический институт. И когда она отказала ему в поездке в Новгородский педагогический институт, он сказал: «Всё! Вот теперь — всё!». Так что, действительно, в этом плане она сыграла роковую роль, потому что отъезд Каждана был тяжелейшим ударом для отечественного византиноведения.
Но, с другой стороны, надо сказать, что всё-таки у нее были свои пристрастия. Она, например, очень любила Аверницева, ему покровительствовала, брала его в международные поездки. Она, конечно, надзирала, Литаврин, например, сбежал от неё в Институт славяноведения. Но она не то чтобы выискивала крамолу в чужих писаниях. Всё-таки, когда я там появился, время было уже не то. Удальцова следила скорее за общим «декором». Разумеется, в целом были запрещены религиозные штудии, но ведь штудии Аверинцева были религиозными. Она на это смотрела сквозь пальцы.
Так что, в общем, идеологический диктат был, но довольно поверхностный. Например, в наших книжках, кто хотел — ссылался на классиков марксизма, но при желании можно было и не ссылаться. Там каждый играл в свои игры. Например, у меня был принцип, что я никогда, ни при каких условиях не должен цитировать Ленина. Можно Энгельса. Энгельса я в своей кандидатской диссертации процитировал, а Маркса и Ленина — нет, и очень этим гордился. Ужасно гордился, так, как будто я был диссидентом.
Уехал Каждан, и запрещено было ссылаться на Каждана. Вообще было запрещено ссылаться на эмигрантов. Это было ужасно неприятно, чрезвычайно подло, я себя чувствовал невероятным предателем, когда у меня выбрасывали ссылки на Каждана. Но, если имя Каждана нельзя было произнести и написать, то, например, «на эту тему см. „Византийский временник“, том такой то, страница такая-то» — вот это можно было. Тот, кто хотел, лез туда, смотрел и видел, что там Каждан. Это были игры, из которых выветрился дух живой ненависти, которая существовала вокруг всего этого раньше.
Предыдущие поколения жили в обстановке настоящего интеллектуального террора. Интеллектуального террора в начале 1980-х годов уже не было: режим был вялый, вегетарианский и хотел только, чтобы его не трогали. Так что в этом плане обстановка была не такая страшная. И, конечно, обстановка в сферах, которые не касались современности, была мягче той, которая царила в изучении современной истории, и это было наше благословение.
Русский грек Димитрис Яламас и его кафедра
— Расскажите о создании кафедры византинистики и неоэллинистики в МГУ.
— Есть такие люди, иностранцы, которые приезжают из-за границы, никак не связанные своими корнями с Россией, и влюбляются в Россию с первого взгляда. Таким был мой друг Димитрис Яламас, грек, не имевшего никакого семейного отношения к России. Есть много греков, у которых родители были из России, у Яламаса ничего такого не было, просто он приехал молодым человеком в СССР учить русский язык, оказался на курсах в городе Калинине, нынешней Твери — и полюбил всё русское. Всю Россию взял в душу и решил, что хочет провести в России всю жизнь.
Ему это удалось, и, действительно, он принес России много блага, дай ему Бог доброго здоровья. Он и сейчас работает, но ушел из нашей сферы, Тогда он был культурным атташе Греции в России, но он не был при этом дипломатом. У него был такой странный статус: не то чтобы он был в России, а потом переехал бы на службу в греческое посольство в другой стране. Нет, у него была такая странная работа, что он был взят греческим культурным атташе, но при этом он жил в России. И благодаря его энергии, благодаря тогда ещё греческим деньгам он создал эту кафедру в 1996 году на филологическом факультете МГУ и её возглавил. По-моему, это был первый случай, когда иностранец возглавил кафедру. Разумеется, он совершенно обрусел, но при этом он остаётся греческим гражданином.
Он создал эту кафедру, имея в виду, конечно, упрочение связей между Грецией и Россией. Но он правильно, на мой взгляд, говорил, что если создать просто кафедру новогреческую, то это будет кафедра страноведения, а он не хотел страноведения, он хотел, чтобы даже неоэллинистические штудии были штудиями научными, а не просто изучением языка для последующей работы в фирме или в туристическом бюро. И это было очень мудро с его стороны.
Поэтому на этой кафедре с самого начала был соблюден полный баланс между новогреческими и византийскими исследованиями: студенты учили и то, и другое, получали диплом преподавателя новогреческого языка, и многие так нашли свой хлеб, но все обязаны были в не меньшей степени проходить и дисциплины византиноведения. Конечно, эта кафедра отпочковалась от моей родной классической кафедры, даже физически она находится через коридор, за соседней дверью, тем не менее, она имеет свою специфику.
Греческий язык проходится там в тех же объемах, что и на классическом отделении, но на классике на равных латынь и древнегреческий, а на византийской кафедре на равных новогреческий и Византия. Тогда эти части были совершенно неразрывны. Правда, в последнее время новогреческий всё-таки победил на этой кафедре. Византинисты на ней по-прежнему работают, но, если судить по количеству, например, защищаемых дипломов, то византиноведческих дипломов там в последние годы практически нет. Но, с другой стороны, может быть, это и понятно, потому что неоэллинистика — это практическая дисциплина, и нельзя осуждать людей за то, что они выбирают что-то, что может принести какой-то стабильный доход.
Нужна ли латынь в школе?
— Какова, на Ваш взгляд, роль изучения древних языков в высшем и, может быть, довузовском образовании?
— Роль латыни и греческого тут совершенно различна. Латынь учат многие люди: латынь учат медики, историки, юристы. Латынь более или менее преподается на филологических факультетах на общих отделениях. Латынь — полезная вещь, потому что она дисциплинирует ум. Это чрезвычайно логичный язык, и он позволяет правильно настроить мозги.
Что касается греческого, то с ним другая история. Его учат меньше, его учить трудно, и люди, которые выучивают греческий язык, что-то в структуре мира постигают важное, понимают, как мир сложно устроен. Соблазн простых решений в жизни у всякого человека велик. Например: если денег нет, их нужно напечатать. Это простая идея, которая приходит в голову всякому человеку. Человеку, который учил древнегреческий, эта мысль в голову не придет, он понимает, что так проблемы не решаются. Это простой пример, но такое происходит в жизни на каждом шагу.
Если много воруют, то надо отрубать руки за воровство. Это простое решение. Решение неправильное. Что оно неправильное, можно понять, только если взглянуть на это в более широком масштабе. Вот древнегреческий язык помогает человеку смотреть на жизнь в сложном, большом масштабе. И недаром многие великие люди, не имеющие никакого отношения к научным штудиям, вышли из классических гимназий или даже получили образование как филологи-классики. Вот, например, нынешний мэр Лондона Борис Джонсон. Он кончил Оксфорд, он филолог-классик. Таких пример можно приводить много.
Что касается довузовского обучения классическим языкам, то это требует большой специализации школ. Это должны быть особенные гимназии, которые собирают особенных детей. А это, конечно, подрывает идею того, что школа должна быть демократичной. Школа — это самый массовый институт в любом обществе, и если верхние и нижние этажи будут сильно разниться, наверное, это будет неправильно. С другой стороны, наверное, хорошо, чтобы такие школы были. Не нужно, чтобы их было много, мне кажется.
В такую школу ребенок ведь не сам идет — его отдают родители, как и в любую другую, а значит, они решают за ребенка. Если это обычная школа или школа, допустим, где преподают больше рисования — ничего, полезно уметь рисовать, или английский язык — хорошо, не может же быть, чтобы человеку не понадобился английский язык. Это простое решение за ребенка.
А если за ребенка решают, что он будет учить латынь и греческий, может быть, он сильно осудит своих родителей, когда вырастет. Это так же сложно, как решить отдать ребенка углубленно учиться музыке. Может быть, потом он скажет спасибо, а может быть, и упрекнет. Это, в какой-то степени, самый сложный на свете вопрос: что мы должны решать за своих детей. Может быть, много должны, а может быть, должны предоставить им поле для выбора. Тут каждый человек решает сам.
Плюсы и минусы специализации
А что касается вузовского преподавания, то тут всё проще. Это тоже сложно, но по-другому сложно. Я сейчас преподаю в Высшей школе экономики. Там выбран такой способ преподавания, который оставляет больше свободы выбора студентам. Это путь, по которому идут в западных университетах и который нам не очень привычен. У нас ребёнок поступает на то или иное отделение и на несколько лет вперёд за него все определено. Точно известно, что и в каком году, в каком семестре он будет учить.
Если же он через год понял вдруг, что это не его, то его судьбе не позавидуешь. Чтобы перейти даже на соседнее отделение филологического факультета, ему надо сдать столько разниц, что человек десять раз подумает. Легче вообще бросить университет и поступать заново куда то, потому что это совершенно разведённые в разные стороны пути. Это старая система, изначально прусская, она была воспроизведена сначала русской, дореволюционной системой обучения, потом советской. Это специализация с нуля в университете. В ней есть свои плюсы, если ты оказался в правильном месте в университете, а если в неправильном, то это для тебя ужасный минус.
Эта система, мне кажется, проигрывает в быстро меняющемся современном мире, где даже новые специальности возникают очень быстро. Она, повторяю, имеет огромные преимущества, когда, например, нужно выучить какой-нибудь трудный язык. Ты решил стать, например, китаистом. Ты должен с утра до вечера учиться китайскому, больше ты ничего не знаешь. Если ты разочаровался, ты должен всё это бросить и всё начинать с нуля. Но таких сфер немного: музыка, наверное, китайский язык. Греческий где-то на грани: с одной стороны, чем раньше начнешь изучать, тем лучше, с другой стороны, хорошо, наверное, узнавать что-то еще.
И вот в Высшей школе экономики на факультете филологии, где я начал преподавать в этом году впервые, мы решили устроить совсем другую систему. Древнегреческий студенты выбирают на первом курсе, но выбирают его в качестве второго языка. То есть первым они учат английский, немецкий или французский, а вторым они тоже могут, соответственно, те, кто учат английский, учить немецкий, но могут выбрать и древнегреческий.
Это всё равно довольно много, 6 часов в неделю, так что греческий они учат довольно интенсивно, но это сочетается с общефилологической подготовкой. И я для первокурсников читаю спецкурсы и веду специальные семинары, ещё не предполагающие, что они станут обязательно моими коллегами в будущем. Я считаю, что то, что я им рассказываю, может им пригодиться как филологам широкого профиля. Например, сейчас я веду семинар, который называется «Образ Византии в веках», т. е. мы проходим, как разные культуры смотрели на Византию.
Разумеется, я им даю тексты в русских переводах (или в английских, они все по-английски читают). По-гречески — не может быть даже и речи, не имеется в виду, что они обязательно будут знать греческий. Это общекультурная подготовка. Предполагается, что они будут ходить, и те, кто почувствует, что это — их, потом пойдут и выучат древнегреческий, поняв, что это им нужно. Эта система предполагает более ответственного студента. Сработает ли это, покажет время.
Структура языка — структура мироздания
— Многим студентам на младших курсах приходится в том или ином объёме изучать классические языки. Если человек точно знает, что не будет заниматься древностью, что ему может дать изучение древних языков?
— Если они изучают это в объёме, что называется, общего отделения, например, год они изучают латынь, это дисциплинирует мышление. Латынь дает то ощущение языка, которое позволяет человеку учить другие языки — не обязательно романские, любые, — потому что он понимает, как функционирует язык. Латынь в этом плане очень хорошая питательная среда для мозгов.
Учивший латынь понимает, например, что фразу ни в коем случае нельзя переводить слово за слово (человек, который изучает английский язык, этого не понимает): латинский язык устроен таким образом, что латинскую фразу ни в коем случае нельзя так переводить, она теряет смысл. Надо погрузиться в эту фразу и найти в ней глагол. Не существительное, а глагол. И постепенно человек понимает, что язык устроен так, что в нём есть некая «пульсирующая структура», и эта структура похожа на структуру мироздания.
Смотрите: «В начале было Слово». Сначала было Слово, то есть глагол, «и Слово было у Бога». Сначала идет «сказуемое», а потом — «подлежащее». Сначала мы слышим «глагол», а потом условно «видим», Кто этот «глагол» произносит. То есть Бог, как это ни парадоксально, оказывается в данном случае «вторичным» по отношению к Его же собственному «глаголу». Так функционирует и язык.
В каждой фразе есть душа, и эта душа воплощена в сказуемом. Это глубинное ощущение человек получает, когда он чуть-чуть начинает учить латинский язык. А потом он должен понять, что есть подлежащее, которое стоит на очень важном, но всё же втором месте, рядом со сказуемым, а потом есть прямое дополнение. Вот прямое дополнение — это то, что фразу делает. В любой фразе происходит какое-то действие, есть субъект действия, и есть его объект.
В тот момент, когда вы установили, что делается, кто делает и с кем делает, вы получили скелет фразы, и после этого она может обрастать «мясом». Фраза может занимать две страницы, глагол у нее может быть в самом конце, тем не менее, ее структура задана тремя этими словами. В тот момент, когда ты это понимаешь, у тебя как будто открываются глаза на мироздание.
Я помню это свое ощущение очень остро. Я уверен, что это ощущение есть у всякого, кто хоть немножко поучил латинский язык. Мне кажется, это небесполезно для познания структуры мира. Человек, который учил древние языки, что-то важное ощущает — даже не понимает, а ощущает — про структуру мироздания. Ну и, надеюсь, это спасает его от некоторых глупостей.
Церковная печать на науке
— Вы указывали, что по сравнению с филологами-классиками круг византинистов очень узок, что все специалисты мира знакомы друг с другом. Какое место принадлежит России в мировом византиноведческом сообществе?
— Россия была зачинателем византиноведения как дисциплины, наряду, пожалуй, с Германией. Немецкий журнал «Byzantinische Zeitschrift» и русский журнал «Византийский временник» возникли с разницей в пару лет. Византинистика — молодая наука, она зародилась в конце XIX века, и тогда византинисты считали своим долгом учить русский язык.
Отец византиноведения, мюнхенский профессор Карл Крумбахер выучил русский язык, очень хорошо его знал и поражал своих русских коллег тем, как он хорошо читает и говорит по-русски. И именно в знак признания заслуг русских византиноведов русский язык до сих пор считается одним из официальных языков международных конгрессов византинистов: строго говоря, официально можно делать доклады на конгрессах по-русски. Просто тебя никто не поймёт, но формально такое право есть.
Разумеется, старая школа погибла вместе с российской дореволюционной наукой. Обратно она завоёвывала себе место очень небыстро. Количество византинистов даже после того, как византиноведение возродилось, было весьма невелико. На византиноведении была печать чего-то монархического, обскурантистского, церковного, и на это смотрели с подозрением. Уже когда я появился в византиноведении, в самом конце 1970-х годов, людей становилось всё больше и больше.
Например, искусствоведы сыграли огромную роль, потому что у искусствоведов своя стезя, отцом искусствоведческой византинистики был Виктор Никитич Лазарев, у которого тоже было международное имя, он создал школу. Искусствоведы же не обязаны извиняться, что у них всё искусство религиозное, и религиозные штудии входили под маской искусствоведения. Например, Всесоюзная выставка произведений византийского искусства во второй половине 1970-х гг., которая была сначала в Ленинграде, в Эрмитаже, потом в Москве, сыграла совершенно грандиозную роль в возрождении интереса к византийской религиозной живописи.
Палама как подрывная литература
Разумеется, приезжала на конгрессы Удальцова, которая делала какие-то свои идеологические доклады (впрочем, на французском языке, она довольно хорошо знала французский). Место Советского Союза в византиноведении было признано в 1980-х годах, результатом чего было то обстоятельство, что в 1986 году на XVII конгрессе в Вашингтоне было решено, что следующий мировой конгресс византинистов пройдёт в Москве. Тогда же ещё никто не знал, что будет. Советский Союз прекрасно бы принял этот конгресс, административные силы были велики. Но ровно после того, как это решение было принято, система стала расшатываться, а к 1991 году — совсем разваливаться. Но, отвечая на Ваш вопрос, скажу, что роль Советского Союза была признана безусловно, потому что византинисты всего мира решили, что они приедут в Москву на конгресс.
Дальше произошло невероятное. Наш оргкомитет был в полном отчаянии, потому что, с одной стороны, деньги, выделявшиеся государством, обесценивались прямо на глазах, с другой стороны, те 300 (кажется) долларов, которые каждый иностранный участник пытался нам переводить, тут же куда-то девались. Мы могли быть самыми богатыми людьми на свете, ведь тысяча человек со всего мира прислали нам свои взносы, но мы не могли их получить. Это был абсолютный кошмар.
Мой несчастный начальник, Геннадий Григорьевич Литаврин, слёг в больницу от нервного истощения, не пришел даже на открытие конгресса. Это была какая-то очень трагическая история, но конгресс прошёл, и нас на нём было очень много. Это был первый случай, когда разрешено было говорить на религиозные темы, советской делегацией было сделано очень много докладов на религиозные сюжеты. А надо понимать, что это было в новинку: в 1988 году, под юбилей только стали про это разговаривать.
Ведь раньше, смешно вспоминать, когда Иоанн Мейендорф приезжал в Советский Союз, он встречался где-то на конспиративных квартирах с учёными, а потом этих ученых тягали в КГБ — это была целая история, потом Мейендорфу не давали визу. Религиозные штудии — это было абсолютное табу. Когда Виктор Маркович Живов переводил книгу Мейендорфа про Паламу, эта рукопись ходила в самиздате, как будто это была подрывная литература, хотя это было про Паламу.
России есть чем гордиться
Россия занимает, безусловно, важное место в мировом византиноведении. На международных конгрессах — они проходят раз в пять лет — российская делегация всегда довольно многочисленна, десятки людей приезжают. Поэтому я бы сказал, что России принадлежит довольно видное место среди других стран. Не первое, конечно: надо отдавать себе отчёт, что играет свою роль, во-первых, традиция, во-вторых, деньги: традиционно первенствующие места принадлежат странам, где много профессорских ставок, в которых много денег дается на исследования, публикацию книг, экспедиции, раскопки и т. д. Поэтому, конечно, страны вроде Соединённых Штатов или Франции в этом смысле нас опережают. Но по количеству людей, которые интересуются, занимаются Византией, я бы сказал, Россия опережает даже многие из богатых стран, по понятным историческим причинам. Так что в этой сфере, пожалуй, нам есть чем гордиться.
Теперь вообще мало читают на иностранных языках. Немецкий язык становится всё более редким, немецкие византинисты жалуются, что по-немецки не читают, поэтому что уж нам жаловаться, что не читают по-русски. Количество языков, на которых читают, сокращаются в мире, это реальность, не имеющая отношения исключительно к России. Мы жертвы в той же степени, как жертва итальянский и многие другие языки. Но, тем не менее, когда российские ученые печатаются по-английски, на них вполне ссылаются и их работы используют. Так что мы — часть мировой византинистики.
Игра со смыслами
— Какие сейчас основные направления византиноведческих исследований в России и в мире?
— Разумеется, византиноведение не отгорожено каменной стеной от других гуманитарных штудий. Поэтому в византиноведении занимаются всем, что модно и в других гуманитарных сферах. Например, гендерные исследования. Это модно везде, это модно и в византиноведении, и в этом нет ничего плохого. Пожалуй, иногда дамы, которые этим занимаются, на мой взгляд, перегибают палку, но это естественная вещь. Или, например, занимаются меньшинствами, диаспорами, малыми группами. Это общая тенденция, эта тенденция есть и в византиноведении.
Или, например, литературоведение. Постструктуралистское византиноведение тоже существует. Надо вам сказать, что это небессмысленная постановка вопроса. Потому что ведь современная литература часто строится на цитате, на откровенной игре с предыдущими смыслами, на перемешивании дискурсов. А византийская литература вся из этого состоит, она вся состоит из цитат, из игры с предыдущим материалом. Так что в этом смысле это интересный подход к делу. Оказывается, что это не Владимир Сорокин придумал, а это существовало тысячу лет назад.
Кроме того, как это ни поразительно, появляются новые методы исследования, которые позволяют нам получить совсем новый материал. Например, активно создается в США в городе Ирвайн, штат Калифорния тезаурус греческого языка: компьютерная поисковая система. Она задумывалась для античной литературы, но когда все древнегреческие тексты оказались туда введены, пришло время и византийских. И сейчас туда введен и продолжает вводиться гигантский корпус византийской литературы.
Это открывает огромные возможности для исследователя, ещё не полностью нами осознанные. Например, нашли где-нибудь в песках Египта папирус (это каждый год происходит). На этом папирусе в начале 4 буквы, потом всё смыто, а в конце ещё 8 букв. В XIX веке какой-нибудь немецкий профессор целую жизнь мог потратить на то, чтобы, подставляя эти буквы к разным текстам, пытаться понять, что это такое. Компьютеру для этого не нужно и одной минуты: мы вводим эти буквы, потом считаем, сколько примерно букв пропало, и он тут же нам говорит, что это такое. Так же, разумеется, он опознаёт цитаты.
Византийский автор, как я только что говорил, постоянно цитирует и не ссылается на источник цитаты, он думает, что читатель это поймёт — или не поймёт, тогда это литературная игра, они были очень литературные люди — но мы-то не чувствуем, мы же не ловим этих цитат, они у нас не на слуху. А тезаурус вылавливает это. Тезаурус позволяет на совершенно новый уровень вывести вопросы исторической семантики: что значит то или иное слово. Можно проследить все встречаемости. Это то, чем я, в частности, занимался. Так что это сфера, которая открывает совершенно новые перспективы.
Вторая вещь — это, например, чтение в инфракрасных лучах палимпсестов: тех византийских рукописей, которые написаны поверх стёртого текста. Сейчас начинается огромная экспедиция по прочтению в инфракрасных лучах всех рукописей монастыря св. Екатерины на Синае. Это так важно, потому что это библиотека, которая существует с VI века и за это время только обогащалась.
Все остальные византийские библиотеки мира — это или покупка, или кража, или просто беженцы что-то принесли. Это всякий раз случайный подбор. А тут это целый комплекс рукописей, который никуда не уезжал, никуда не сдвигался. И там, конечно, огромное количество очень древних рукописей. Когда они будут все просвечены инфракрасными лучами, я уверен, мы получим гигантский корпус текстов, которых мы ещё не знаем, совсем новых. То есть бывают совершенно новые открытия.
Наследники Византии
— Вы говорили, что, строго говоря, у Византии нет прямых наследников. Но есть страны, которые так или иначе чувствуют свою преемственность с византийской культурой, и есть страны, для которых Византия — нечто совершенно далёкое. Это как-то сказывается на подходах к изучению Византии?
— Да, конечно, сказывается. Я думаю, Византией занимаются или страны, которые богаты и просто занимаются всем на свете, например, США или Англия, или те страны, которые имеют что-то связанное с Византией в истории. Это «что-то» бывает разным. Например, в Италии этим занимаются, потому что там была своя Византия (Южная Италия, у Венеции свои отношения с Византией, очень трагичные, но очень важные и для Венеции тоже).
Австрия, казалось бы, к Византии никогда не принадлежала, но в Вене очень давняя история изучения Византии. Почему? Потому что австрийцы воевали с турками много сот лет, и им было важно, кто ещё воевал с турками. У них был такой интерес к Византии. А в южной Германии, где процветала Реформация, было интересно, кто ещё, кроме них, был противником Римского Папы. Тоже свой интерес, уже другой. Людовику XIV было интересно, кто кроме него был «королём-солнце», поэтому при нём первом начались исследования Византии во Франции.
Конечно, православная традиция играет огромную роль. Поэтому в таких бедных странах, как Болгария, Румыния, Греция занимаются Византией, а в Словакии или в Польше не занимаются. Ровно потому, что одни страны православные, другие — нет. Разумеется, у России своя история ещё и в том, что она столько сотен лет уже в свою имперскую эпоху (я имею в виду именно её, а не древность, когда, с моей точки зрения, этого не было) претендовала на преемственность с Византией, когда была Екатерина с её греческим проектом, Крымская война, Леонтьев, «крест на Святой Софии» — тут уж куда деваться?…
Я думаю, что зарождение византиноведения как научной дисциплины, которая получала такое богатое финансирование в конце XIX века в России (в Петербурге, главным образом) — это следствие того, что науке перепадали крохи со стола имперских аппетитов России. Наверное, на Морской собор Кронштадта, воспроизводящий Святую Софию, было потрачено больше денег, чем на византийскую кафедру, но это были ручейки одной и той же реки.
Европа и комплекс неполноценности
— Вы говорили, что, если нас что-то и роднит с Византией, то это пограничное положение между Европой и Азией, и что в этом плане Россия может извлечь из истории Византии важные уроки. Вы можете как-то пояснить эту мысль? Византия осмысляла какими-то своими средствами это своё положение? К чему это её привело? Как нам стоит смотреть на это?
— Я думаю, мы должны всегда помнить, что понятия «Запада» (как чего-то единого) и «Востока» — это очень поздние понятия. Понятие «Запада» возникло, когда Византия уже давно погибла. Или понятие»Европа». Все очень любят спрашивать: Византия — это Европа или не Европа? Те, кто хорошо относятся к Византии, говорят: «Да, Византия — это часть Европы».
Мне кажется, что это бессмысленный разговор. Потому что понятие Европы как символа чего-то очень хорошего, процветающего, отличного, к чему мы все стремимся, возникло в XVII веке. Слово «Европа», конечно, существовало и раньше, но византиец бы очень удивился, если бы ему таким образом поставили вопрос: для него Европа — это просто античное географическое понятие.
Разумеется, Византия смотрела на Европу сверху вниз: они были варвары, а мы, Византия, были самые главные. В России разговоры о Европе всегда связаны с комплексом неполноценности. Или мы говорим: «Мы гораздо лучше, потому что мы духовнее», или «Мы тоже Европа». Но это всё — сравнение себя с чем-то очень важным. А византийцы плевать хотели в течение многих веков: подумаешь, какие-то варвары, латиняне. То есть такой подход к Византии неисторичен.
Тем не менее, глядя на Византию, мы понимаем, что она существовала на рубеже двух цивилизаций. И цивилизация Востока: арабская, потом тюркская — накатывалась на Европу через Византию. От этого уже никуда не деться. И, безусловно, Византия не только воевала с этими силами, но и многое от них почерпывала: и от арабов, и от тюрок. Если мы посмотрим на одну из самых знаменитых мозаик Византии — в Константинополе, в церкви Богородицы Хора, когда входишь туда, там изображен ктитор этой церкви, вельможа XIV века Феодор Метохит, который Христу подносит модель этого собора. Так вот, Феодор Метохит — это совершенный визирь какого-нибудь султана: он в длинном кафтане и в чалме. То есть византийцы почерпывали у своих восточных соседей — часто противников, но дольше всё же соседей — и слова тюркские, и одежду, манеру поведения, блюда кухни — очень много всего взяли от Востока.
Разумеется, и от Запада очень много взяли. Византийцы понимали, начиная с какого-то момента, что-то случилось, что они почему-то стали отставать. Они много сот лет жили с ощущением, что на Западе какие-то дикари живут. И вот в XII веке они поняли, что там что-то происходит: там какие-то интересные штуки новые, там уже и мудрецы свои, и античной философией интересуются, а еще там придумали требуше, придумали корабль с глубоким килем, придумали ветряную мельницу, арбалет, который наши доспехи пробивает… И они попытались в XII веке Запад нагнать.
Это был первый, на мой взгляд, случай догоняющей модернизации. Византия пыталась догнать Европу именно в технологическом смысле. У них не получилось, и расплатой за эту неудачу стал 1204 год, гибель Византии. Но это срединное положение, когда есть с Востока что-то важное одно, и с Запада что-то важное другое — это и объединяет Россию и Византию, но, повторяю, типологически, а не генетически.
Истоки самоцензуры и антисемитизма
— Что еще в византийском наследии кажется Вам наиболее важным для нас сегодня?
— Тут уже, пожалуй, можно поговорить и о культурной генетике, потому что всё-таки наше отношение к жизни в значительной степени объясняется тем, что Россия выбрала православие, восточное христианство, а не — западное. Это имеет огромные последствия, причем как «положительные», так и «отрицательные» — оба эти слова берём в кавычки: что и с чьей точки зрения считать положительным — большой вопрос.
Давай возьмём пример. В России не было ведьмовских процессов. И в Византии этого не было, не сжигали ведьм. Это же хорошо. На Западе все сходили с ума от ужаса перед ведьмами, их всё время сжигали, а в православном ареале этого не происходило. Это хорошо. Но это связано с гораздо более широкой проблемой. Восточное православие не доходило до каждого человека, его не «доставало», не школило. Статус духовного лица был совершенно иной.
Статус духовного лица в западном христианстве — это статус посланца из какого-то другого мира: он был где-то вне политических властей, это была структура, вообще не связанная с политической властью в нашем мире. Благодаря тому, что Папы выиграли у императоров спор об инвеституре, иерархия жила своей отдельной жизнью. И в этом смысле кюре имел моральное право с кафедры в головы крестьян постоянно вдалбливать и вдалбливать, что нужно ходить к Исповеди, нужно каяться в грехах, нужно честно рассказать, а то будешь гореть в аду. И он доходил с этим до каждого человека.
В Византии ничего подобного не было. В Византии поп был предметом доброй, а иногда и не очень доброй насмешки, потому что получал он мало, у него хозяйство было, всё как обычно. Поэтому от него не ждали, что он будет школить и школить. Если смотреть на греческий фольклор, поп — фигура скорее смешная.
В России это ещё усугубилось. Статус духовного сословия в России — это статус приниженный. Это имело огромные последствия. Тот факт, что люди ни за что не считали удушать новорожденных младенцев (это было повсеместно), и то, что они исповедовались один раз в жизни на смертном одре, и то, что они не ходили к причастию десятками лет — всё это стало результатом того, что идеей духовного дисциплинирования паствы православие не занималось, так сложилось исторически. Это имело свои «плюсы» и свои «минусы».
С «плюсами» и «минусами» этого мы имеем дело по сей день. Цивилизованный человек Запада вышел из горнила многовекового дисциплинирования, так что он стал цензором самого себя. Это результат длительного развития, и то, что сейчас Запад в основном секуляристский, не имеет никакого значения, главное было сделано в эти столетия, когда Церковь бесконечно занималась невероятно жестким дисциплинированием людей.
Побочные явления этого были ужасны, например, поголовный ужас перед дьяволом. Человек Западной Европы жил в постоянном ужасе. Все эти химерические изображения дьявола: с рогами, копытами, хвостом, все эти черные мессы, черные пудели, весь этот ужас, в котором он жил, был результатом того, что его постоянно тыкали в его грехи.
В Византии про дьявола никто никогда не думал. Изображения дьявола не существует в православной иконографии. Иногда за дьявола принимают большое темное существо с большим животом, но это Аид, это изображение потустороннего царства, он как бы всех съедает. А бесы все маленькие—маленькие. На знаменитой иконе «Лествица» бесы — это маленькие существа, совсем не страшные. Византийский человек не жил в состоянии повседневного ужаса.
На Руси это еще многократно усилилось. За исключением отдельных взрывов пандемического страха, в целом, я думаю, уровень страха древнерусского человека был на порядок ниже, чем у человека Запада. Это хорошо или плохо? С одной стороны, хорошо, с другой — плохо. Но это, безусловно, по-другому.
Ещё очень важная вещь — отношение ко времени. На Западе было полное помешательство по поводу того, можно ли давать деньги в рост. Почему нельзя? Потому что это значит поставить себе на службу время, а время — оно же Богу принадлежит, значит, христианин не имеет права давать деньги в рост. Это разрешено только евреям, поскольку они не христиане, а отсюда рост антисемитизма.
В Византии ничего подобного нет. В рост — пожалуйста, дают аристократы деньги в рост. Поэтому в Византии антисемитизма нет совсем. Это другая сторона этого же. Отсюда вырастает через много веков на Западе ощущение, что время — это деньги, это очень важно, а на Востоке — нет: сейчас есть время, потом еще будет время. Так что во всем есть свои «положительные» и «отрицательные» стороны, но куда же от этого деваться? Мы в этом живём.
Чудеса и справедливость
— Вы говорили, что как учёный придерживаетесь в своих работах научно-позитивистского, а не христианского подхода при изучении тех или иных явлений религиозной жизни, при этом утверждали, что эти два подхода могут взаимодополнять друг друга. В чём, на Ваш взгляд, состоит это взаимодополнение?
В западных странах, поскольку там есть традиция Реформации, занятия религией как наукой имеют длинную историю. Соответственно, контрреформация привела к тому, что такие исследования появились даже в католических странах. А в наших краях это ещё не очень привившаяся манера. Считается, что есть целые сферы предметов, которыми должен заниматься именно историк воцерковлённый. Мне, конечно, не раз приходилось сталкиваться с этим подходом, люди обижались, хотя я стараюсь ничьих чувств не задевать.
Мне кажется, что ощущение религиозного человека может подсказать мне что то, подправить меня там, где я в своих реконструкциях ошибаюсь, в каких-то очевидных, простых вещах. Я помню, что я писал про Симеона Нового Богослова и про то, как он в своих гимнах мыслит избранничество. Там я говорил, что избранного человека Бог выделил из всех и, не обращая внимания ни на что, ни на какие его грехи, привёл его к Себе. И я пишу, что это в каком-то смысле очень несправедливо, как-то подрывает всех остальных: что же, его избрали, а мы все сиротами остались?..
Я дал почитать эту работу одному своему верующему коллеге, тоже учёному. Вы не понимаете, сказал мне он, что для верующего всякий человек — избранный, ровно каждый, не то что одного взяли, а всех остальных бросили. Это такой способ мыслить. Я очень устыдился, я понял, что он, видимо, прав. Просто это видение, которое мне не дано. Но я вполне признаю, что это видение существует, и оно просто другое.
Что касается таких вещей, как чудеса, то про это я предпочитаю не разговаривать. В конце концов, даже Спаситель не совершил чудес там, где Его не признавали Мессией. Значит, заведомо этого нельзя сделать со мной. Кто не верит в чудеса, тот их и не увидит. Это, по-моему, справедливо.
Парадокс юродства
— Когда я читала описание Вами причин и механизмов возникновения феномена юродства, у меня возникли ассоциации с возникновением монашества: и там, и там это происходит в ту пору, когда христианство становится официальной религией, обусловлено неудовлетворенностью внешней стороной христианской жизни, мыслью о том, что Царство Божие не может быть достигнуто на земле, оба эти феномена связаны с неким вызовом миру, причем миру внешне вполне христианизированному. Почему при существовании монашества возникло юродство? Почему недостаточно было монашеского пути? В каком, на Ваш взгляд, соотношении находятся эти два феномена?
— Разумеется, монашество гораздо старше юродства. У монаха тоже есть проблемы, например, если он пустынник и живет один, то как он исповедуется и причащается? Отсюда всякие легенды, что ворон приносит пустыннику причастие в клюве. Это были проблемы, с которыми надо было что-то делать. Кроме того, монахи были вне церковной структуры, и даже можно подозревать, что в некотором конфликте с ней. То есть там тоже были некоторые проблемы.
Тем не менее, в том чтобы буквальным образом выполнить заповеди нет ничего предосудительного. Нужно оставить всё: дом, семью, богатство — и следовать за Христом. Всё бросили, оставили, ушли. Мы хотим, чтобы Царство Божие настало вокруг нас. А мир отстает, мир живет в грехе, поэтому мы уйдём. В этом нету ничего, что противоречило бы изначальным базовым установкам христианства.
С юродством совсем не так. Юродство изначально начинается с парадокса. Сказано: «не искушай малых сих», а юродивый именно этим и занимается, он искушает малых сих. И на это нужно как-то ответить, нужно как-то объяснить, почему же такая важная заповедь нарушена. Но никакого рационального объяснения тут быть не может, это так, это дано нам. Это парадокс, встроенный уже в систему.
Но чтобы такой парадокс появился, нужно, чтобы общество развилось ещё дальше, чтобы ощущение некоего духовного неблагополучия углубилось, чтобы у огромного количества людей было постоянно ощущение, что-то в жизни не так. Вроде бы, всё в порядке, вроде бы, у нас христианская империя — а что-то не то. Вот это «что-то не то» и воплощается в юродивом, с моей точки зрения. Он гораздо более обращающая на себя внимание, более удивительная фигура, чем монах.
Уплощение образования
— Как Вы относитесь к внедрению в России Болонской системы? Вы говорили, что аспирантура в современных российских ВУЗах является фикцией: как, на Ваш взгляд, будут соотноситься аспирантура и магистратура?
— Болонскую систему принято ругать, причём принято ругать везде. Смешнее всего мне это было слышать от представителей Болонского университета, которые говорят, что все считают, будто бы это мы, а мы не имеем к этому отношения, мы от этого страдаем. Просто подписали документы в Болонье, а мы жертвы этого всего.
Болонская система, конечно, направлена на упрощение и неизбежное уплощение образования. Она имеет целью сделать систему образования стран Европы взаимопроникающей, чтобы человек мог начать обучение в одной стране, продолжить в другой, чтобы всё было взаимоувязано. Она неизбежно что-то срезает, что-то упрощает. Сколько я ни знаю людей на Западе, все они против Болонской системы.
С другой стороны, на самом деле Россия на Болонскую систему не перешла совершенно. Просто сейчас пытаются пятилетний курс обучения втиснуть в четыре года, вот и всё. Но это смехотворно, это совершенная нелепость. Я же вижу, как относятся к такой вещи, как кредиты, единицы оценки, которые студент получает. В России просто пересчитали обычные отметки и назвали их кредитами. Но это не имеет никакого отношения к Болонской системе.
По факту Болонская система не введена, система остается старой в подавляющем большинстве вузов. Но даже в тех вузах, где всерьёз пытаются применять её (например, в Высшей школе экономики) всё равно эта система очень далека от того, что задумано Болонской системой.
Что будет с системой образования, я не знаю, но что-то должно произойти с российской системы аспирантуры, я знаю точно, потому что то, что сейчас делается с аспирантурой — это просто насмешка над здравым смыслом. Разумеется, аспирантура должна быть местом, где молодой человек действительно приуготавливается к научной карьере. Именно в аспирантуре. У нас же аспирант или пишет диссертацию, или не пишет. Про это никто не знает, кроме него, через три года он приносит диссертацию или не приносит.
За исключением отчета, совершенно формального, который он пишет каждый год, трех экзаменов, которые он сдает, никто про него ничего не знает. Это абсурдная система. Она не абсурдна только в одном отношении: в отношении освобождения от армии. Раз уж такая беда случилась, что молодых людей забирают и кидают практически в тюрьму, где царят нравы дикого племени, где их убивают и они вешаются — разумеется, чтобы спасти молодого человека от такого, надо всё ему дать. Пусть он учится в аспирантуре. Но если мы забыли об этом обстоятельстве, то аспирантуру надо решительно переделать. Это одно из тяжелейших наследий советской системы.
Мне приходилось видеть западных студентов. На первом курсе наш студент-классик очень обгоняет своего сверстника. У нас с 1 сентября начинают много греческий учить. К концу 3 года обучения наш студент читает по-гречески, а западный не читает. И у нас огромное преимущество, гигантское. А потом, когда дело доходит до диссертации, выясняется, что американский аспирант уже выучил греческий, более того, он всю литературу прочитал на всех языках. А наш захотел — прочёл, не захотел — не прочёл ничего, наш продолжает жить за счёт того багажа, что получил в первые годы в университете. То есть он теряет все преимущество, которое получил в первоначальном рывке. И это, конечно, ужасно.
У нас давление на обучающегося все время снижается: от 1 курса к последнему году аспирантуры оно от ста до ноля снижается. А на Западе наоборот, начинается с ноля и доходит до ста. Западный аспирант работает как галерный раб, это что-то совершенно невероятное. Но это ровно оттого, что он сознательный человек, сознательно пришел к этому выбору и добирает то, что он недополучил на начальной стадии образования, поскольку он мотивирован, он уже твёрдо решил, что будет этим заниматься. К сожалению, тут надо сказать, что наши аспиранты проигрывают.
Конечно, это должно быть перебалансировано. Основное давление должно идти не на несчастного первокурсника, который и не понимает, зачем с ним всё это делают, а на человека, который сделал сознательный выбор уже в более зрелом возрасте. Как с этим обходиться, я не знаю. Всё-таки надо, чтобы это было не время, когда он работает где-то и при этом числится в аспирантуре, а чтобы он получал такую стипендию, на которую можно было бы жить. А это тяжёлые проблемы, должны быть какие-то фонды, специальные займы — сложная система, которая на Западе существует, а у нас не существует совсем.
— А магистратура может это как-то скорректировать?
— Нет. Идея, грубо говоря, состоит в том, что бакалавр пойдёт работать кем угодно, например, бакалавр искусствоведения будет работать в магазине, подбирать коллекции одежды. Если он хочет идти работать учителем в школу, он закончит магистратуру, а если захочет стать профессором, то пойдет в аспирантуру. Грубо говоря, так. У нас на самом деле бакалавриат просто перетекает в магистратуру, это то, что раньше называлось специалитетом.
А главное, что, к сожалению, в тот самый момент, когда молодой человек решает, что он будет заниматься наукой — тут-то его и оставляют на произвол судьбы. Именно в эту самую минуту его оставляют один на один вообще с миром. Обычно это человек, у которого уже есть семья, значит, он должен зарабатывать, и он должен параллельно что-то ещё писать. Но это нереалистично, так не должно быть. Но, повторяю, изменять это очень трудно.
Глобальная атомизация
— Вы немало говорили о том, что люди сегодня чрезвычайно атомизированы: это проявляется и в политике (не можем объединиться в политические партии), и в науке (нет сообщества). Почему, на Ваш взгляд, это произошло? Есть ли пути преодоления этого?
— Это происходит, среди прочего, по очевидной всем причине — интернетизации. В Интернете человек сидит у себя на стуле дома, он ни с кем не разговаривает. Он может при этом общаться со множеством людей, но все понимают, что сообщество френдов — это не то же самое, что дружеский кружок, френд — это не то же самое, что друг в подлинном смысле этого слова. Это техническая вещь.
Есть другая вещь. При советской власти все получали чуть-чуть денег, и была масса свободного времени. Для дружбы было сколько угодно свободного времени, оно всё было наше. Разумеется, понятие дружбы тогда было совсем иным. Кроме того, на тебя оказывалось политическое давление, интеллигенция была спаяна ненавистью к советскому режиму, это тоже было важно.
Многие воцерковлённые люди жалуются, что тогда была правильная духовная жизнь, даже при том давлении, которое осуществлялось, а сейчас что-то безвозвратно потеряно.
А теперь — необходимость зарабатывать деньги, смена социального круга (а в новом кругу завести новые контакты труднее), гораздо меньшее количество «аксиом», которые мы все разделяем (оказывается, что то, что казалось само собой разумеющимся, далеко не так очевидно).
На Западе это даже гораздо хуже: там люди переезжают вслед за работой в новые города, у нас этого нет, люди приезжают в Москву, но из Москвы уже не уезжают, а на Западе человек едет за своей работой. Если в Италии человек, например, живет в Риме и летает на Сицилию, чтобы работать, то в Америке человек просто переезжает каждые несколько лет на новую работу. Это, конечно, тоже атомизирует человека: он попадает в новые реалии, а с возрастом устанавливать новые контакты всё труднее и труднее. Наверное, это объективные процессы.
С другой стороны, информированность всё-таки возросла. Компьютер несёт не только минусы. Он связывает тебя с огромным количеством людей, даёт информацию мгновенно по огромному количеству вопросов: например, докладов, статей чьих то, которые тут же выкладываются в Интернет — и так далее, и так далее. Мир меняется, к сожалению или к счастью, но, видимо, законсервировать тут ничего невозможно.
Беседовала Татьяна Кучинко
Фото Евгения Глобенко