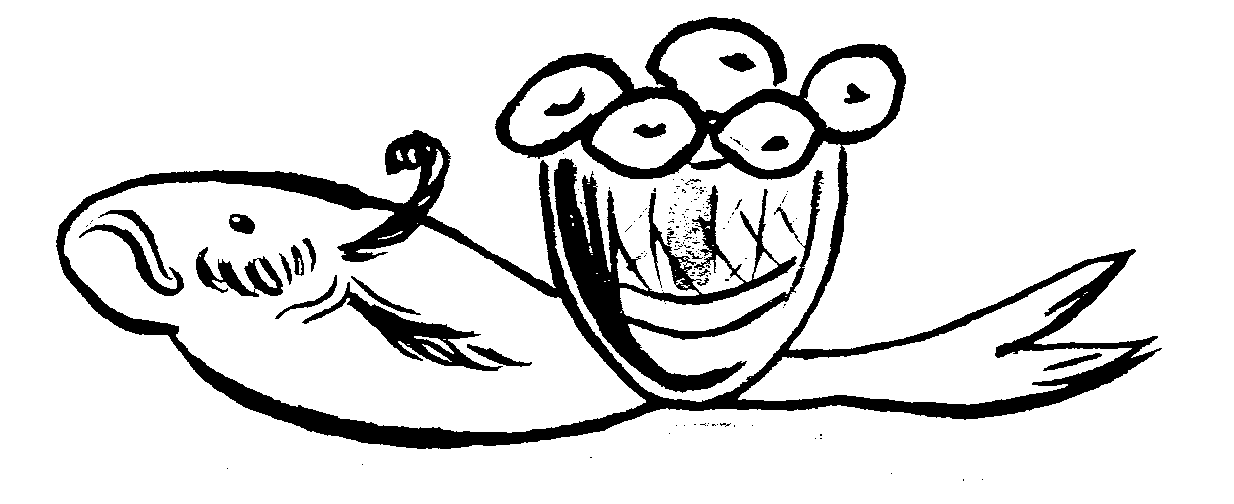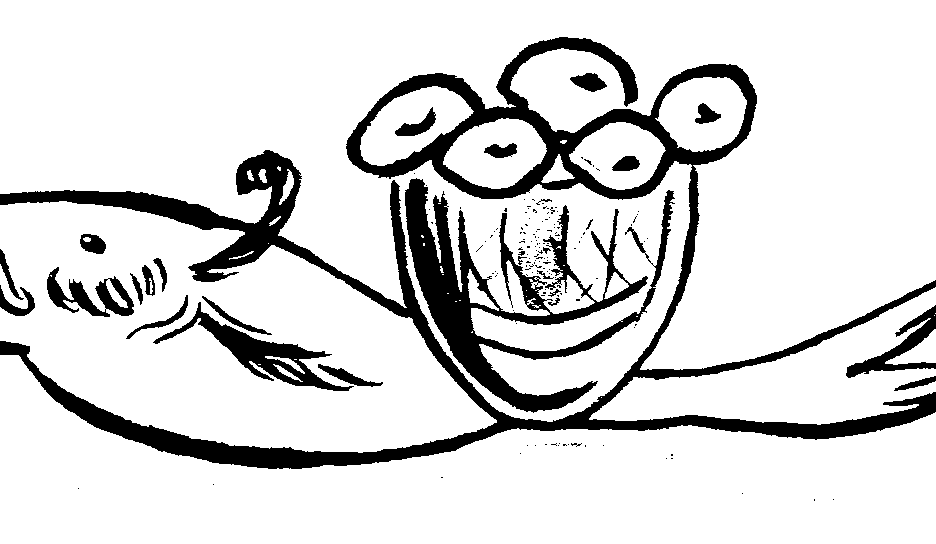
<…> Понятие символической живописи дается самым термином “символический”. Происходя от греческого слова sЪmbolon, обозначавшего в древности “таблички” — эти видимые знаки союза или договора между двумя лицами, и потом перешедшего в абстрактное родовое понятие всякого вообще знака всех мыслимых отношений, это слово тем самым уже противополагает себя обозначению сущности определяемого. Дальнейший филологический анализ понятия “символический” ведет нас к греческому глаголу sumbЈllw, и его значением1 еще более оттеняет смысл sЪmbolon и, вместе с тем, отличительную особенность символической христианской живописи в сравнении с прямой, или исторической живописью. Если в последней основная мысль художника находит в изображении свое полное выражение и во всей полноте и подробности может быть объята чувственно, то в символической видимый образ дает лишь намек на высшую отвлеченную идею, до которой можно только доходить путем мышления, догадываться — sumbЈllein. Отсюда понятно рассуждение о христианском символизме Климента Александрийского: “как бы из-за завесы показывая величественную истину христианского Логоса, — говорит святой отец, — символизм пособляет тем самым памяти, способствует краткости и сжатости языка, напрягает и изощряет ум в открытии этой истины”2.
Уже в первые времена существования христианства, когда последователи его не смели со своим служением Богу показываться открыто и принуждены были ютиться в подземельях и катакомбах <…> робкою и неискусною рукою первые христиане выражали свои религиозные идеи в простых фигуративных, символических образах, вырезывая и чертя их на плитах возле надгробных надписей, на стенах галерей и ниш, на барельефах саркофагов, на камнях, священных сосудах и облачениях. Воспринятая ими новая религия Духа и Истины <…> благословляла творческий дух в благоговейном просторе его вдумчивого созерцания внешней природы и познания в ней следов и веяний христианского Триипостасного Бога, Творца, Искупителя и Освятителя (Рим 1:20, ср. Пс 18). Для созерцающего духа христианина вся природа, вся жизнь человека становилась теперь символом нового учения о спасении, искуплении, все с ним соотнося и все от избытка сердца возбуждая воспроизводить хотя бы в простом и незатейливом символическом рисунке <…>
Первоначально число символических изображений у древних христиан было немногочисленно3, но затем круг христианских символов постепенно увеличивался, необходимо усложняя при этом свое значение. К простым фигурам и признакам прибавлялись целые сцены обыденной, исторической — ветхозаветной жизни и даже мифологии, которые могли пробуждать в душе человека известную христианскую идею, догматическую или нравственную. Сами фигуры и знаки, передававшие прежде очень простые понятия и вытекающие из самых свойств и качеств представляемого предмета, то принимая к себе новые символические дополнения, то присоединяясь к символическим изображениям, делались постепенно слишком сложными, — действительно прикровенным, как говорит Климент Александрийский4, орудием выражения христианских идей <…> Религиозная потребность художника могла соединять в одно целый ряд символов, испещряя ими все предметы культа и жизни и невольно делая тем самым распознавание их доступным только тем, “кои усердны в допрашивании (символизма), в требовании от него ответов, которые уже прежде на нем развили личность, которые при жизни, по своей вере и чистоте жизни, добиваются мудрости и богословия истинных”5. Все употребляемые древними христианами символические изображения можно разделять на три группы. К первой группе обычно относят символические изображения в собственном смысле, которые всецело движутся в сфере аллегорий и изображают понятия загадочными знаками или фигурами. Таковы изображения монограмм Спасителя, креста, сосудов, ваз, дерев, ветвей (преимущественно пальмы), венка, звездного неба, якоря, весов, корабля, рыбы, голубя, орла, агнца, оленя, льва, змия, коня, Орфея (мифологического героя), Улисса, Меркурия, юноши, букв и цифр. Вторую группу составляют символические изображения, с большею или меньшею точностию выражающие притчи Спасителя: виноградной лозы, Доброго Пастыря, десяти дев, сеятеля и некоторых других6. Наконец, к третьей группе символических изображений относятся изображения исторические из Ветхого и Нового Завета, например: грехопадение первых людей, жертвоприношение Каина и Авеля, жертвоприношение Авраама, изображения Ноя в ковчеге, Моисея, Ионы, Даниила, Давида, Иова, Товита, трех отроков, Сусанны, Илии, поклонение волхвов новорожденному Спасителю, воскрешение Лазаря, крещение Спасителя, насыщение Иисусом Христом пяти тысяч человек пятью хлебами и проч.7 <…>
Древле-христианская символическая живопись представляет первую попытку христиан онаглядить свои новые религиозные представления и понятия <…> Само христианство как религия цельного духа не могло препятствовать такому пробуждающемуся творческому стремлению человека: это стремление к искусству было так естественно и законно, что всякое запрещение его религиею равнялось налагаемым ею оковам на человеческий дух. Можно только оговориться, что, не препятствуя развитию и осуществлению этого стремления в принципе, христианство <…> [ни] в лице Спасителя, ни в лице апостолов не дало определенных правил относительно практического применения его, предоставив это распоряжению самих членов Церкви <…> Формою для внешней пространственной передачи новых религиозных верований для первых христиан были символы. Утвердившаяся в современном появлению христианства мире классическом, эта форма имела еще длинную историю в прошедшее время <…>
Не нужно забывать, что христианство есть явление Востока, продолжение чистого иудаизма. Последний же начальную цивилизацию свою почерпнул и оформил под влиянием прежде всего Египта, творческая мысль которого отличалась, как известно, крайним символизмом. Каждое произведение человеческого духа для египтянина было уже символом <…> Иероглифические знаки были замечательным изданием символизирующей фантазии египтян. Они были трех родов: предметные, обозначавшие цельным рисунком каждую вещь, символические в собственном смысле, сокращенно какими-либо отдельными частями намекающими на целое, и звуковые <…> Все таинственное в природе, озадачивающее чем-либо малоразвитого египтянина, принимало у него образ духовной сущности, надземных божеских сил, приобретало свободное, самостоятельное и своеобразное бытие и действие: непостоянная стихия подчас ярого Нила образовала постепенно у египтян представление грозного бога, живительная сила солнца — единого Бога, Владыку добра и милосердия, верная инстинктивная деятельность животных родила благоговение перед таинственною сущностью и бытом животного, невольно апофеозируя их носителей <…> Получался таким образом странный и загадочный египетский политеизм в символических обликах разнообразных богов. И что всего удивительнее — древний египтянин, реалист по натуре, родив разных богов, совокупляя их в одно, производя их друг от друга, совершал практическое idem per idem8: он жаждал истолковать мир непонятных для него явлений, и отысканное их значение, открытый смысл изображал ими же самими, делая их адекватными знаками, адекватным представительным изображением духовной сущности — вся природа для него была символом этой сущности <…>
Среди такой страны символизма, которая, по обстоятельствам первобытного времени, была все же рассадницей и учительницей тогдашней цивилизации, “мудрости”, как выражается 3 книга Царств (4:30), по воле Иеговы (Быт 46:4) должен был обитать ветхозаветный Израиль. Вполне естественно, что указанный духовный опыт египтянина и его интеллектуальное богатство должно было сказаться на самом ветхозаветном пришельце (Исх 12:19). Он невольно должен был если не научиться, подобно Моисею, систематически всей мудрости египетской (Деян 7:22), то непременно расширить горизонт своих мыслей и языка. Конечно, как народ личного духовного Бога (Исх 3:10; 7:4 и мн. др.), ветхозаветный Израиль и в Египте должен был помнить свое историческое религиозное призвание — возвышаясь над чувственною природою (Исх 20:2–5,23 и пар.), быть святым, подобным верховному Законодателю жизни Иегове (Лев 11:44; 19:2; 20:7 и др.), и путем дел и страданий (ср. Быт 41:52; Исх 3:7) выполнять это призвание. Но возноситься духом над природою — вовсе не то, что презирать ее. Ветхозаветному Израилю запрещено было видимо изображать существо Бога (Исх 20:2–5 и пар.), довольствуясь самостоятельным развитием Его в самом себе и ощущением своего единства с Ним (Быт 1:26–27; Лев 9; Иез 20:41), что тем не менее не парализовало могущественного действия на сердце Израиля впечатлений внешнего мира, для того, чтобы во всем этом сознавать дело рук Божиих (Втор 11:3; 32:4). Небеса, по слову Псалмопевца, должны были проповедывать ему славу Божию и твердь вещать о делах рук Его (Пс 18:2). Голос Иеговы для израильтянина мог раздаваться в громах бури и сверкании огнем молнии, Иегова заставлял трепетать как лист пустыню, ломать кедры, как хворост, и скакать горы, что молодые буйволы (Иов 38:4; Пс 76:19; Иов 38:1; Ис 30:30; 2 Цар 22:15 и т. д.) <…> Фантазия еврея имела право прилепляться к вещам видимого мира не потому, что их действительность, в объективной общей своей связи, сама по себе содержательна и интересна, но потому, что мир для нее дорог по тем внутренним чувствам, какие он будит в душе, возносящейся к великому Иегове и Его Помазаннику — славному Мессии. Разница между религиозным созерцанием египтянина и иудея заключалась в том, что там духовная, таинственная сущность отождествлялась с природой, а здесь последняя должна была напоминать эту сущность. И если у египтян успели уже образоваться более или менее целесообразные формы, в каких явления природы легко можно ставить в наглядную связь и соотношение с наличным запасом духовных созерцаний, то почему эти формы созерцаний и яснейшие восприятия не могли быть усвоены ветхозаветным Израилем, конечно, с переменой их внутреннего содержания? Формотворенная работа египетского духа, естественно, должна обратить внимание ветхозаветного еврея и быть принятой им как полезное руководство к созданию чувственных, наглядных созерцаний “помыслов” своего Иеговы (Пс 32:11; 138:17). Отсюда у еврея (как и у египтянина) связь идеального с реальным, но запечатленная строгим единством вселенского Я, которое — Лично, и Одно (в противоположность политеизму) с высот неба проникает Собою каждое явление мира (Исх 3:14; Иов 25:2 и мн. др.). Вот почему Климент Александрийский, излагая употребительные символы египтян, заключает: “символы египетские, по своей загадочности, указывавшие на нечто иное и возбуждавшие любопытство, имеют большое сходство с символами, бывшими в ходу у евреев”9. И в другом месте: “удивляться ли, что и Моисей пользовался тою же символической формой изложения своих мыслей? Свою мудрость, подобно другим древним, он тоже изложил прикровенно и символически”10 <…> Израильский народ обнаружил в Египте замечательную восприимчивость к познанию различных ремесел и искусств, так что при сооружении скинии многие “мудрые сердцем” из сынов Израильских (Исх 31 и 35:10; 36:2,4,8 и мн. др.) при помощи Божией (Исх 31:3,6; 36:1–2) уже работали “из золота, серебра и меди”, резали “камни для вставливания” и резали “дерево для всякого дела” (см. Исх 31:4–5), сделали “десять покрывал из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти; и херувимов сделали на них искусною работою” (Исх 36:8). Сравнивая скинию Израиля с существовавшими тогда египетскими храмами, предметы еврейского богослужебного культа и облачения священников с таковыми же у египтян, нельзя не признать, что все это у евреев во многом напоминало культ египтян. Что касается зависимости еврейского символизма от египетского, то это доказывает Пятикнижие Моисея <…> Запрещая Израилю боготворить видимые предметы, поклоняться им как Богу (Исх 20:2–5), Господь указал Моисею много предметов, форма которых должна возносить дух наблюдателя к единому чаянию его и всех народов — Богу и Христу, Мессии Его. Внешний опыт здесь впервые приглашался таким образом на помощь внутреннему религиозному, суть которого в Богосознании. Достаточно в доказательство вспомнить назначение еврейской скинии и ее утвари. Здесь каждый предмет, каждый цвет и форма его имели “двигать вперед веру”, а не одно чувство зрения (ср. 2 Кор 5:7). Верхний покров скинии и внешняя завеса своим гиацинтовым, пурпурным, червленым и льняным цветами обозначали, что природа стихий открывает собой Бога, рассуждает Климент Александрийский. “И подлинно. Пурпур добывается из воды, лен доставляется землей, гиацинт своим пасмурным цветом напоминает воздух, а червленность — огонь”11. Святилище, где стоял жертвенник курений, обозначал землю, “занимающую центр мира”12. Святое святых означало небо. Светильники, хлебы предложения, ковчег завета, изображенные херувимы — все это должно было символически указывать на обитающего в небе Царя Славы — Иегову и Его Сына Мессию.
В Палестине — этой стране обетования (Втор 9:28), евреи нашли уже готовую высокоразвитую культуру, которая не могла не оказать на них, и в значительной степени, своего влияния; в последующее время им пришлось пережить влияние ассиро-вавилонян, греков и римлян. Присущий всем этим народам символизм, создавший своеобразное изобразительное искусство, не мог, в чистейшей своей сущности, не влиять восполняюще и расширяюще на утверждающуюся иудейскую символику. Символизм времени царей, пророков — живой свидетель этого чужеземного влияния на формальное развитие иудейского религиозного мышления. В это время напоминатели и истолкователи израильскому народу высшего смысла его всемирно-исторического религиозного призвания (в зависимости от идеи славного будущего царства Мессии) считают прямо необходимым для своих целей пользоваться связью природы с невидимым, духовным миром. Сыны природы — все они от Самуила до Малахии с благоговением созерцают в этой природе вещие намеки на сверхприродное, трансцендентное, и поэтически-философски разъясняют темноту и запутанность младенческих религиозных представлений пестунствуемого (Иез 34:13) ими народа. Отсюда непогода реки, дня является у них символом гнева и ярости, днем судным Иеговы (Наум 1:2–6; Иоил 1:17–20,11,12), теплый солнечный день, когда пахарь идет об руку с жнецом, виноградарь с сеятелем — днем мира и благодати того же Иеговы (см., напр., Мих 4:4), лев, орел как самый сильный зверь и как самая сильная птица являются символом силы и могущества, высоты и славы (Иез 32:2; Иер 48:40; Иез 17:3), агнец, голубь — символом чистоты и милости, смирения и кротости (Ис 11:6; Пс 67:14), олень, конь как быстроногие животные — символом непринужденности (Ис 35:6; Зах 10:3), плодовитое дерево, виноградная лоза, пальма — символом счастья и награды (Иер 17:8; Ос 14:8; Пс 91:13), волк, лиса, змей — символом жадности и хитрости, нечестия и лукавства (Ис 11:6; 65:25; Иез 13:4; Пс 57:5; 139:4), замкнутый круг — символом вечности (Иов 22:14) и т. д. Чувственное же и загадочное известное видение славы Иеговы под образом четырех животных пророком Иезекиилем (гл. 10) еще нагляднее свидетельствует, какой прогресс с течением времени делает у иудейского народа эта возможность чувственного созерцания своего Бога. Если на Синае израильский народ, по мудрой педагогике Провидения, не видел никакого подобия Бога, а слышал только шум и гул стихий Природы (Исх 19:16–19), то здесь слава Иеговы выступала пред ним, в лице Иезекииля, в наглядном чувственном виде, приспособляя формы языческого созерцания к расширению и сочетанию элементов специально-духовного еврейского монотеизма13 <…>
Уже одно то, что дух еврея, не изменяя своему духовному призванию, находил возможным созерцать дивного Иегову под различными образами, посвящать Ему даже архитектурное свое искусство, говорит, что эти образные представления, не противореча закону, запрещавшему делать подобие Бога (Исх 20:2–5), легко могли изображаться, объективироваться и письменным знаком. Можно еще говорить о крайней ограниченности живописных и вообще пластических изображений в древнееврейскую эпоху, потому что грубо-чувственный человек не всегда мог понять тонкое различие между символом и символизируемым Божеством, мог легко допустить полное смешение первого с последним, что, собственно, и имеет в виду заповедь запрещения находить на земле подобие Бога, но о полном отсутствии у евреев религиозной живописи, символически представительных знаков говорить совершенно нельзя. Изображения херувимов, сделанные Моисеем в первой скинии, по повелению Божию, изображение ковчега Завета, к которому сам Моисей не стеснялся обращаться с молитвою, как к Богу: “восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя <…> возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым” (Числ 10:35–36), ясно указывают на возможность религиозных изображений древнееврейского народа. В храме, построенном Соломоном в Иерусалиме, мы находим и воспроизведение предметов природы. На внутренних стенах его, вместе с символическими херувимами, были нарисованы пальмы, колокинты (род огурцов) и распустившиеся цветы. Если последние изображения могли иметь еще орнаментальный смысл, то изображение пальмы, по признанию всех библеистов-археологов, сохраняло символическое значение и указывало на победное шествие царства Божия, царства Мессии14. Символическое значение имели значки или крестики, которые сохранялись на стенах еврейского храма “харам-еш-шериф” и указывали собой на особенное священное и таинственное ограждение этого храма15. Наконец, в пользу символической живописи, имевшей место среди еврейского народа, могут говорить и еврейские катакомбы, которые были открыты в последнее время вместе с христианскими. Стены этих катакомб покрыты символической живописью — изображением библейских сцен, растений, пальмовых ветвей, крылатых гениев, птиц, семисвечника и т. п.16. Итак, с несомненностью мы можем заключать о присутствии в иудейском древнем мире не только символизма созерцания, но и символизма пластики (понимаемой в широком смысле этого слова).
Христианство, в котором через Христа — Сына Божия должны были получить осуществление все чаяния народа Израильского (Еф 3:11 и мн. др.), и, получивши, продолжать прежнее же, по существу, водительство народа к Богу и Его пришедшему Сыну в духе и истине, не могло отвергнуть символизма как средства познания предметов Божественных <…> Развитие человеческого духа, его Богосознания, а с ним и все небесное, всякое познание о нем, должно посредствоваться и осуществляться через символы, и теперь, по Апостолу, нужно не переставать молиться о людях и просить Бога, чтобы Он исполнял их познанием Своей воли во всякой премудрости и всяком разумении духа, чтобы они вели себя достойно Бога… возрастая в познании о Нем (см. Кол 1:9–11), по домостроительству Божию, чтобы исполнилось относительно людей слово Божие, проповедуется людям (и теперь) тайна (ср. Кол 1:25–27). Вот почему христиане, коих сам дух, как мы уже видели, в целях наибольшего нравственного усовершенствования, побуждал сохранять не только словом, но и знаком проповедуемые их верой тайны, за образами или формами сохранения этих тайн должны были обратиться прежде всего не к кому другому, как к ветхозаветным иудеям. Если образы или символы иудеев имели целью не только объективно созерцать глубочайшее существо Божие и Его свойства, но и указывать на исполнение в дали будущих мессианских времен многоразличных и многочастных пророчеств (Евр 1:1), то те же символы и образы с мудрою целесообразностью могли быть приложены и к новозаветному времени — одни как прежние созерцания того же Неизменяемого Единого Бога, а другие как благодарственные созерцания уже исполнившихся обетований в пришествии и воплощении Мессии — Иисусе Христе, Сыне Божием. Нечего много говорить, что эти последние символические созерцания соответствующим образом должны были пополняться (plhrТw) новым (ср. Ин 13:35; ср. 1 Ин 2:7–8) или большим содержанием, как и все ветхозаветное в учении Божественного Спасителя (Мф 5:17). Таким образом мы можем видеть в Новом Завете символ пальмы как выражение торжества праведного над соблазнами жизни или верующего христианина над смертью посредством Воскресения, голубя как вестника мира и кротости, чистоты и невинности — всегдашнего настроения христианина; агнца, льва, орла, пышных деревьев, корабля и всех прочих, которые в своем употреблении были освящены уже примером Ветхого Завета.
Но иудейский символизм не был единственным историческим влиянием на возникновение христианского символизма <…> Мы разумеем религии Греции и Рима с их символизмом, которые охватили ко времени появления христианства все центры образованного мира. Как некогда иудейство в начальной истории своей должно было необходимо столкнуться с мудрым и ученым в то время Египтом и заимствовать от него плоды его культуры, так точно и христианство, богатое содержанием, но бедное в лице первых своих представителей (преимущественно язычников, то есть сынов греко-римской империи) ясным и точным выражением этого своего содержания, встретилось теперь с язычеством Греции и Рима, богатым, наоборот, формами, но бедным содержанием.
Справедливо признают, что антропоморфизм греческой религии, при всей чувственности его внешнего склада, был прогрессивным шагом языческого миросозерцания к высшему и духовному <…> Глубочайшим внутренним мотивом мифологии Греции было именно смутное чаяние, что самочувствующая и самосознающая жизнь человека есть первоначальное, действительное бытие, и ею нужно измерять все явления видимого мира как ее откровения. К сожалению только, многоразличие видимого мира ввело в заблуждение синтезирующую так мысль эллина и раздробило это живое, самосознающее существо на целый ряд личностей, свободная воля которых стала причиной всех процессов и изменений природы. Но как бы то ни было, свободная творческая фантазия греков постигла, что божественность не открывается предпочтительно в явлениях физической внешней природы, а является как самосознательная, духовная мощь и владычица людской жизни. Постигши это, она отказалась божество прикреплять к небу, солнцу, морю или какому-нибудь определенному животному, не могла изображать его и их символами, а придумала для него образы личного духа, образ человека, который, по своей божественности, должен уже возвышаться над материальною сущностью и ее условиями <…>
Соответственно такому направлению созерцающей мысли Греции и для изобразительного пластического искусства наступила новая эпоха. Чаяние религиозной истины, разрешаясь пластически, ликом божественным должно было убедить людей в том, что верх могущества есть и верх благости и красоты <…> Здесь уже не считали нужным передавать с трезвою верностью события и явления настоящего, но стремились в мифе онаглядить поэтически просветленный символ человеческой жизни, устранить из нее все случайное и, наоборот, выставить в ней все существенное. Прекрасная природа Греции, богатая изящными формами, разнообразием и нежными оттенками колоритов, проявления которых всегда умеренны и преисполнены художественной гармонии, само прирожденное духовное богатство эллинского народа, соединяющее, согласно свидетельствам самих древних (Платона, Аристотеля, Перикла и др.) свежую молодость фантазии со всею зрелостью ума в одну дивную форму человечности, легко могли уже определить собой неистощимое создание красивых и изящных форм в изображении светлых изящных богов.
Такой характеристики греческого религиозного миросозерцания и его выражения достаточно, чтобы недолго останавливаться нам на религиозных представлениях другого указанного культурного народа пред пришествием Xриста — римлян. Возбудителями духовной жизни римлян были те же греки с своим антропоморфизмом религиозного миросозерцания. Вместе с областями греков римляне покорили себе и всю культуру этого народа, отторгнув ее от родной почвы и непосредственной цели. У самих римлян принцип земной пользы, государственности своими формулами и заветным испробованным уставом мешал развернуться всякому самобытному творчеству. Практическая религиозность, анимизм понятий были здесь лишь единственным следствием общей всем неудовлетворенности, одним мистическим самосозерцанием — неудовлетворенность ведь тоже вредно отражалась на общем складе установившейся государственности!.. Гораций, Овидий, Проперций и проч. были лишь подражателями греческой поэзии (александрийской или мелической), не представляя исключения из общего явления — отсутствия в произведениях римского искусства строго-национальных сюжетов. Мифология римлян, если не считать таковою перечня безличного, бледного олицетворения явлений природы (что потом исчезло), была продолжением и развитием мифологии греческой, и если первая, мы говорили, представляет прогрессивный шаг размышляющего человечества в признании Божеством самосознающей свободной личности, то такая же тенденция “естественного закона” (Рим 2:14–15) должна наблюдаться и в религии Рима. Только вместо стремления греческого народа уйти вглубь отдельной личности, в своем внутреннем идеальном мире найти утешение и опору для мятежной жизни на земле, дух римлянина с свойственным ему практицизмом решил оперировать над вещами внешнего мира: вместо того, чтобы гнаться за идеальными мечтаниями, для него лучше было попробовать покорить себе эти вещи мира. Этим желанием — основаться как можно лучше и приятнее на земле — объясняется появляющийся вскоре среди римлян скептицизм и недоверие к надземным обитателям идеального мира, которых чтили там ранее17. Лукреций, Сенека, Персий и др. в разнообразных формах мысли и словах объявили суеверием, ребячеством веру в этих управляющих миром самобытных богов и рекомендовали принципом жизни pietas sine diis18, в смысле самостоятельного, правильного познания мира и верной оценки его зол и бед, рождающих спокойствие духа19. Конечно, такой призыв к атеизму только подорвал без смысла прежнюю веру в богов, и на место их не дал римлянам ничего удовлетворительного. Перенесенные в Рим — проснувшийся идеализм греков и стремление их к внутреннему самопознанию с целью найти там божество, начали здесь регрессивно шагать к наивному зооморфизму звездочетов и астрологов древнего Египта. Разуверившись в себе, в Риме снова начали останавливаться пред таинственной символикой египетских богов, надеясь в загадочных иероглифах прочитать загадку жизни. Императоры Каракалла и Коммод торжественно пристали уже к служению древней пантеистической Изиды и совершали ее таинства, жрец в Эмессе Гелиогобал снова объявил богом солнце и камню приносил человеческие жертвы, оставляя для гадания их внутренности. От художественного греческого антропоморфизма в мифах и пластике изобразительное искусство снова повернуло к животному символизму.
<…> Христианство как религия единого Бога, сущность Которого в любви (1 Ин 4:16), должно было совершенно отрицательно отнестись к возвращающемуся грубому политеизму греко-римской империи; но в то же время оно явилось на землю удовлетворить именно внутренний сокровенный мотив этого политеизма <…> Если весь трагизм язычества заключался в недостаточности наличных сил человека для точного и ясного определения мирообразующего начала, без всякого высшего авторитета, волей-неволей довольствуясь в своем созерцании слабыми, случайными и меняющими постоянно форму контурами этого начала, то христианство дало миру не только авторитет правды своего учения в живом историческом лице Богочеловека, но этого же Богочеловека и определило как полную и совершенно определенную истину <…> Человеческий дух мог теперь спокойно и объективно осмотреть все пройденные им предыдущие стадии понимания этой открывшейся, наконец, истины и начала вещей <…> В привлекательных и отталкивающих формах прошлого, в разных “перерядах” его он должен был узнать слабые предвестия той же истины, которая, в смысле гармонического сочетания небесного, высшего с низшим, земным, определенно сказалась ему в христианстве <…> Утвердившиеся в языческой мифологии образы Божества христианин находил вполне возможным перенесть и в христианство <…> Воспроизводя языческие образы, христианин, конечно, менее всего думал о реальности какого-нибудь Меркурия, Орфея, Улисса, как настоящий язычник, но в фантазийных комбинациях их жизни, какие создавали их авторы — художники, он видел удачное внешнее выражение сокровенных дум и чувств человеческого духа, христианского по своей природе. Поясним это примерами. Нередко у язычников Меркурий мыслился и изображался как покровитель стад, с бараном на плече. Существовало даже предание, что он, явившись так, однажды спас от чумы целое беотийское селение20. Существовало изображение сатира, несущего козу на плечах21. Христианин, зная и видя эти мифологические изображения, мог легко ставить их в связь с идеями своего нового учения. Спаситель пришел на землю, чтобы спасти людей. Мало этого — Спаситель, по Его же словам, увидим далее, Пастырь Добрый, а люди — овцы, и готовый образ Меркурия, сатира мог удобно удовлетворить мысль, ищущую подходящую изобразительную форму такого религиозного созерцания. Отбрасывались языческое содержание, его дух, но оставалась изящная пластическая форма. Таким же образом благодатная сила учения Спасителя ставилась в связь с древнегреческими смутными чаяниями надежды и утешения в элевзинских мифах, и христианами она воспроизводилась в образе главного героя этих мифов, Орфея, за его “вечную мелодию новой гармонии, смягчавшей злобу и печаль и забвенью предававшей всякие страдания”22. Христианское древо-крест, орудие знамения верующих от всех соблазнов мира, будило в их сознании далекую мысль и образ Улисса, спасавшегося благодаря мачте (тоже дереву) от соблазнительных песен сирен. Словом, символизм Греции и Рима, выражавший собой одухотворенный антропоморфизм божества, был близким шагом к христианству, и христианство, не трогая как бы тела язычества, внешней природы, очистило дух его от наслоений и извращений и установило дивную гармонию или синтез этих двух сторон мира <…>
Заимствуя таким образом созерцания христианских идей из обычного символизма стран Востока — неодушевленной природы и жизни людей или мифов, христиане кроме этого имели и непосредственный источник для своих символических изображений — это откровенное слово своего Учителя Господа Иисуса Христа и первых своих наставников — Апостолов. Божественный Учитель, Иисус Христос, понимал общую наклонность мышления современников к символизму и, по свидетельству Евангелия, проповедовал многими притчами, и без притчей не говорил им (Мк 4:33–34; ср. Ин 16:25). Значит, употребление символизма в первохристианской общине находило свое высшее освящение в примере самого Спасителя. Образные рассуждения Спасителя о предметах духовного мира — отношения самого Его к Богу Отцу и Бога Отца к Нему, участие в деле искупления Святого Духа, отношение Троичного Бога к людям, Его будущее царство на небе, то в виде Доброго Пастыря, то сеятеля, то виноградной лозы, то хлеба жизни и проч. — должны были несомненно запечатлеться в сознании верующих, создав круг символов, взятых непосредственно из слов новозаветного учения Спасителя. К этим символам нужно прибавить образные представления богодухновенных Его учеников — Апостолов и мужей апостольских, которые, подобно древним пророкам, будучи просвещаемы от Духа Божия, возвышались над уровнем общего понимания Божественного учения и, как “совершенные верующие” (см. Кол 1:9–11), давали мудрые вспомогательные указания относительно их понимания прочими. Впрочем, их дух не только уже углублялся в смысл развертывавшейся пред ними жизни природы, открывая лишь в ней новые формы вечного присутствия Божественного Учителя — указания на бессознательное ощущение природою всех таинств христианского искупления; по руководству Божественного Учителя, они начали размышлять и о связях прошлого ветхозаветного времени с новым благодатным временем пришедшего Мессии. Многие исторические факты, таинственный смысл которых смутно предощущался далекими их современниками, представлялись теперь уже в надлежащем, “полносильном” смысле. Все случайное, по-видимому, и прошедшее в библейской истории символизирует, оказывается, то, что вечно и непреходяще и что показано в новозаветное время. Так, увековеченным объективно символом спасающей Церкви объявляется исторический факт спасения Ноя в ковчеге23, символом крестной, послушливой смерти Спасителя и Его воскресения служит исторический факт жертвоприношения Исаака Авраамом или образ Ионы24, символом бессеменного зачатия Спасителя и духовного богатства Его учения является чудесный факт источения Моисеем воды из скалы в пустыне и проч.25. С другой стороны, эти просвещенные мужи и истолкователи христианства указывают глубокий назидательный смысл и во всей жизни Самого Спасителя, запечатлевая, что в каждом моменте жизни последнего — вечное и неизменное руководство к уразумлению истинно-христианской жизни. С этою целью Его неоднократные исцеления больных указывают на вечную Его мощь не только в деле внешнего оздоровления, но и духовно-нравственного, воскресение из мертвых указывает на общее будущее наше воскресение к жизни вечной26 <…>
Обобщая мысленно все сказанное по вопросу о происхождении древле-христианской живописи, мы можем видеть, что первохристианская религиозная живопись <…> приняла форму символическую потому, что символизм при появлении и до появления на земле христианства был обычным языком всего мистического и с особенною силою развивался на религиозной почве <…>
Но, кроме указанных общих причин, происхождению и утверждению в первохристианском живописном искусстве символизма способствовали еще и особые, исключительно свойственные той далекой эпохе условия социальной жизни первых христиан. Принесенное в мир христианство было многими не понято как следует, и его высокие, небесные идеи любви и самопожертвования, осуществившиеся в бедном Назарянине, Который к тому же, по религиозным представлениям христиан, есть славный Царь мира, умер и воскрес, вызывали у современников одни насмешки. Эти новые идеи не соглашались с ложными, но утвердившимися представлениями гордого иудея о Мессии и Его заветах, не укладывались в сознание и язычников, тоже привыкших измерять все одною внешнею силою <…> Впрочем, вскоре оказалось, что одними насмешками и издевательствами по отношению к распространяющимся идеям христианства ограничиться было нельзя: эта “истина” была серьезнее всех бывших до нее и быстро покоряла сердца общества, легко подрывая существующий строй эгоизма и власти. В результате — христианству была объявлена война, в которой соединились иудеи и язычники; общими силами они хотели уничтожить ненавистную новую религию духа и любви… Это им не удалось, но заставило христиан всячески оберегать свое новое, дорогое уже сердцу учение от этих насмешек и издевательств. Символ — как нельзя более в этом случае был для них удачной безопасной формой созерцания своих идей. Он “вместо того, чтобы всем без различия открывать смысл содержавшихся им божественных тайн и доверять знание вещей божественных и невеждам, и могущим оказаться людьми нечестивыми”, был понятен только для тех, “кто предназначен был к ношению царского достоинства”27. Символы для христиан в это тяжелое время были исповеданием того, что “учения священные не могут быть опрометчиво открываемы первому встречному и сокровища мудрости не могут быть отдаваемы на обесчещение и унижение тем, у которых все нечисто”28. Страх таким образом пред насмешками и издевательствами над лучшими чаяниями и упованиями своими со стороны иудео-языческого мира заставлял первых христиан прибегать к прикровенному, символическому изображению (=сохранению) христианских идей, заимствуя нередко эту прикровенность, эти символы выражения даже от самих язычников. Но все-таки это было уже вторичным мотивом зарождающегося символизма в христианской живописи — символизм шел дальше этой простой необходимости скрываться, обусловливаясь прежде всего другими указанными выше причинами <…>
1Последнее значение sumbЈllw ‘доходить, догадываться’.
2Строматы // Ярославские епарх. ведомости. 1892. — С. 566.
3Но эта немногочисленность символических изображений, по свидетельству Климента Александрийского, не мешала первым христианам иметь определенную систему символизма и иератического языка (Педагог, III кн.).
4Строматы. — С. 555.
5Там же. — С. 566.
6О некоторых из этих изображений см. Луковникова Е. Древнехристианская изобразительная символика // Альфа и Омега. 1995. № 3(6). — Сс. 160–168. — Ред.
7Классификация заимствуется у проф. Покровского (см. Очерки памятников православной иконографии и искусства. Вып. 1. СПб., 1893. — Сс. 22–23). Ср. также классификацию, оставленную нам и Климентом Александрийским (Строматы. — С. 533).
8Idem per idem (лат.) ‘то же самое через то же самое’ (разновидность логической ошибки). — Ред.
9Строматы. — С. 551.
10Там же. — Сс. 559–560.
11Там же. — С. 543.
12Там же.
13Это видение пророка показывало, что период жизни еврейского народа, когда он, по нравственной структуре своей, мог соблазниться наглядным чувственным представлением своего Божества, кончился. Так как теперь (во времена Иезекииля) Израилю приходилось жить среди исполинских человеческих фигур богов, блиставших золотом, то пророк, пользуясь этим блеском и величием ложной религии, хотел возвести мысленно соотечественников к ясному представлению такого же величия Иеговы.
14См. Олесницкий А. А. Ветхозаветный храм в Иерусалиме. СПб., 1889. — Сс. 298–299.
15Там же. — С. 593.
16Фон-Фрикен. Римские катакомбы и памятники первоначального христианского искусства. М., 1872. Ч. 1. — Сс. 75–77.
17Сравнительно с греками у римлян на почве культуры скорее появились разочарование и скептицизм.
18Pietas sine diis (лат.) ‘благочестие без богов’. — Ред.
19Идеал Лукреция, как известно, выражен в его “De rerum natura” (“О природе вещей”). Он, по нему — ratio ‘разум’, №do» ‘наслаждение’, katasthmatik» ‘спокойное состояние, безмятежность’: “Nonne videre nil aliud sibi naturam latrare, nisi ut, qui corpore subjunctus est, dolor absit mensque fruatur jucundo sensu сura semota metuque” (lib. VI) ‘Разве не видишь, что природа не требует ничего иного, кроме того, чтобы исчезла скорбь, сопряженная с телом, и ум, свободный от забот и страха, наслаждался бы приятными размышлениями’.
20См. статью проф. Покровского “Добрый пастырь в древне-христианском символизме” // Христианское Чтение. 1878.
21Там же.
22Климент Александрийский. Увещание к эллинам / Пер. Н. Корсунского. Ярославль, 1888. — С. 60.
23Ср. 1 Пет 3:20–21.
24Основания для этого символа можно находить в Мф 16:4; 12:39; Лк 11:29–30 (образ Ионы) и творениях святого Киприана (образ Исаака) — см. об этом Dictionnaire Martignu. — Pр. 2, 4 и д.
25Об этом символе можно находить в творениях блаженного Иеронима — см. подр. Martignu. — Рр. 620, 635.
26Так рассуждают святые Иустин Мученик, Епифаний Кипрский, Иоанн Златоуст.
27Строматы. — С. 551.
28Там же. — С. 566.