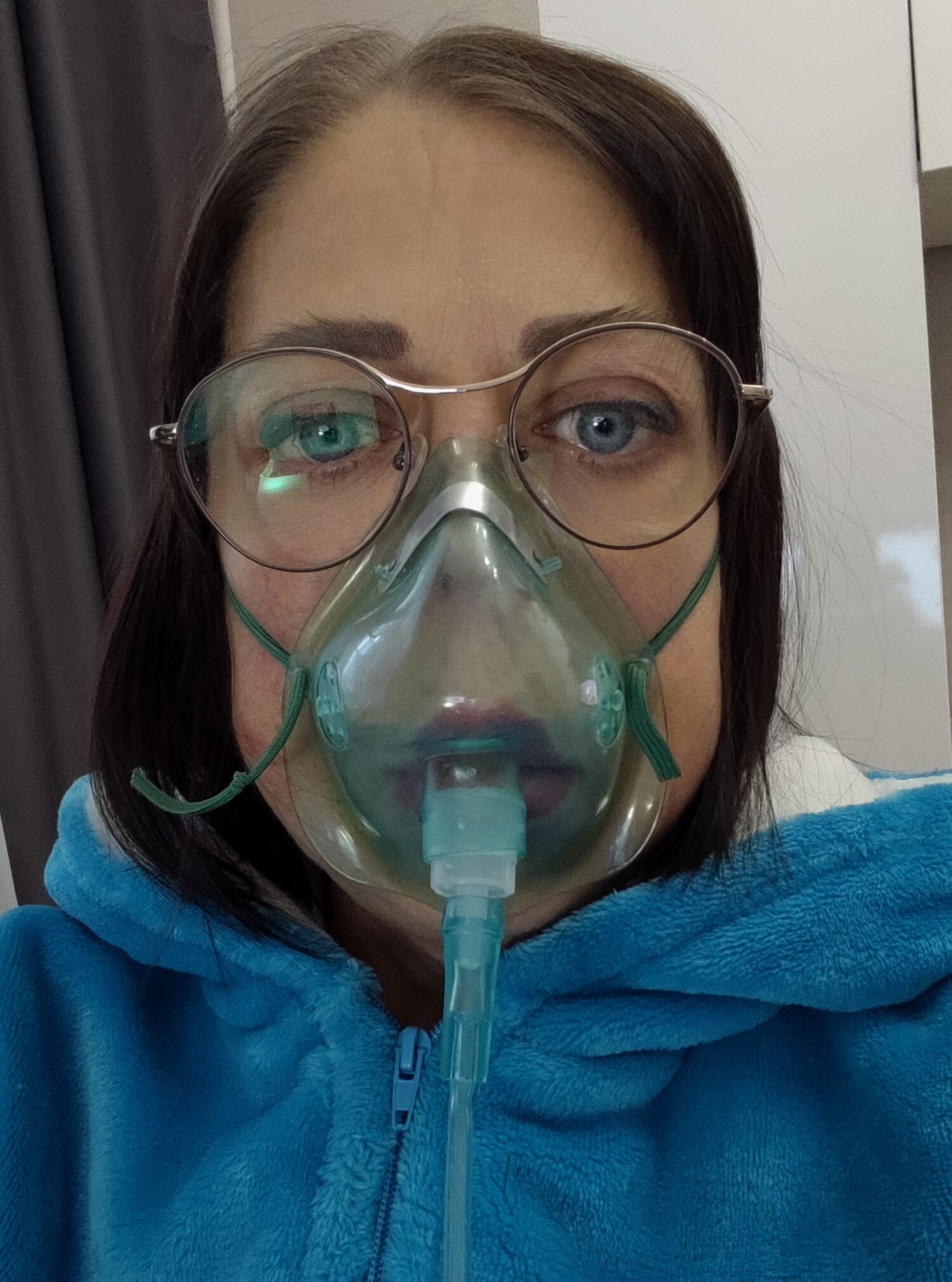Возможна ли христианская проповедь в современном массовом кинематографе? Если мы формулируем свою задачу таким образом, нет ли в этом профанации? Способно ли массовое кино говорить о предметах серьезных? Если оно решается касаться вопросов религии, то каким образом? Ведь восприятие массового кино не предполагает духовного напряжения. Скорее наоборот — оно предполагает простоту душевную.
Что такое хорошо и что такое плохо
Правомерен ведь и другой вопрос: а возможно ли элитарное христианское кино? А ответить следует: да, вероятно, возможно, но не противоречит ли элитарность тем целям и задачам, которые могут быть поставлены перед таким кино? Возможно, тут есть противоречие. Христос обращался к грешникам, мытарям и блудницам, и не к интеллекту их невысокому, а к сердцу и совести. Соответственно, получается, что претензия говорить о вере посредством элитарного искусства противоречит смыслу христианской проповеди. Да и в целом, как это ни странно звучит, массовое искусство больше приспособлено для того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное. Элитарное кино ценит прекрасную форму, способ выражения, оно позволяет себе быть циничным и не стремиться утверждать идею добра. Массовое же, обращенное к менее искушенным социальным слоям, менее сложному эстетическому сознанию, чрезвычайно заинтересовано в соблюдении моральных норм. Успех американского кино во всем мире связан, быть может, не только с агрессивным способом навязывания себя самого, но и с нравственным содержанием любого триллера. Критик С. Добротворский еще в 1990-е писал: «…Пресловутый Голливуд, над загадкой которого тщетно бьются отечественные режиссеры, это вовсе не клиповый монтаж и многокамерная съемка. Голливуд — это прежде всего умение показать, что такое хорошо и что такое плохо под таким углом зрения, что любой зритель должен либо согласиться, либо признать, что у него самого непорядок с моралью и элементарными критериями человечности». Как раз у массового кино не только больше возможностей, но и больше шансов быть услышанным — по причине большей доходчивости. Если принять во внимание еще и особенности нашего времени, ставшее постоянным ворчание о всеобщем падении нравов, и что наши современники, искренне желая иной раз вернуться к вере, оказываются не в состоянии найти правильную дорогу, возможно, сегодня самая актуальная задача — религиозный ликбез; возможно (если и впрямь нравы пали так низко), в ликбезе сейчас больше смысла, чем в сложной проповеди для продвинутых.
Разновидности присутствия
Можно выделить следующие разновидности присутствия христианской темы в кино. Во-первых, фантастические сюжеты, исключительные по степени влияния на современное массовое сознание, в основе которых лежит имитация христианской образности: «Терминатор» и «Матрица». В первом случае речь идет об эстетизации страха человечества перед ядерной войной. (Как известно, попытки реалистически рассказать о предполагаемых ужасах Третьей мировой, такие, как «День спустя» или «Письма мертвого человека», признательности у публики не снискали и в мировой фольклор не вошли.) В «Терминаторе» есть герой, спасающий мир, мать героя и отец, которого фактически никто не видел, поскольку в момент действия всех трех фильмов он еще не родился. Впрочем, спасение человечества и трактовка образа главного героя в данном случае далеки от идеи христианского искупления. Наиболее наглядным это становится в третьем «Терминаторе», который, кстати, никому не понравился. В нем содержится ответ на непростой для массового кинематографа вопрос: что будет делать спаситель мира и человечества, когда его предполагаемая миссия окажется выполненной и ему будет нечем заняться? Ответ, предлагаемый авторами кино, такой: герой создаст ситуацию, придающую смысл его безрадостному существованию, и сделает востребованными его уникальные боевые навыки, поставит человечество в необходимость быть спасаемым — то есть спровоцирует Третью мировую войну.
Что же касается «Матрицы», то в ней ролевой расклад несколько нарушен, да к тому же наслоения буддистской мифологии и мифологии североамериканских индейцев смазывают картину; но все равно главных действующих лиц трое, и среди них — вдохновитель главного героя на подвиги, как бы принимающий на себя роль его отца, сам главный герой и его подружка, которую зовут Тринити (чтоб никто не вздумал ошибиться, ведь английское Trinity происходит от латинского Trinitas — Троица); а главного предателя зовут Сайфер (английское слово Cypher можно перевести и как «шифр», и как «ноль, ничтожество»). Но это все — игры для глазастых зрителей, а не попытка внятного разговора о подлинной вере.
Несколько особняком стоит многосерийное произведение Дж. Лукаса «Звездные войны». Тут христианским мировоззрением пропитан весь фильм. Чтобы не громоздить здесь непростой анализ этой фантастической саги, ограничимся небольшим рассуждением о судьбе одного из главных героев — Энакина Скайуокера (Дарта Вейдера). Перейдя на «темную сторону», обретя власть, он, казалось бы, бесповоротно предал добро. Никто не сомневался уже в том, что на путь света он не вернется. И тут важной, решающей становится вера его сына Люка в то, что в ужасающем пугале и олицетворении зла Дарте Вейдере осталось добро. Пусть где-то глубоко и незаметно, но оно есть. И оказывается, что веривший сын был прав: в самом конце Дарт Вейдер вновь переходит на сторону добра. Фактически получается так, что вера человека в неуничтожимость добра оказывается сильнее любого зла, что зло есть в нас лишь до той поры, пока мы сами его в себя пускаем, что зло — величина очень незначительная, зависимая, что его можно победить и, наконец, что любой злодей может раскаяться и обрести свет, а сила не в силе, а в вере.
Второй вариант развития темы можно обозначить как присутствие ее в фильмах, которые не совсем об этом. Например, исключительный по силе воздействия эпизод в знаменитом фильме Уильяма Уайлера 1959 года «Бен Гур», действие которого происходит во времена Христа. Какой-то человек подходит к закованным заключенным и подает им напиться. Римский солдат кидается к нему, хватает за плечо, кричит: «Кто разрешил?!» Человек поднимает голову, разворачивается и смотрит солдату в лицо (а лица самого этого человека зритель не видит); солдат смущается, умолкает и отходит… И сразу понятно, что воду заключенным подает Христос, и вот таким ненавязчивым и незаметным способом обозначено то, что мир, в котором все еще формально правят римляне, в действительности принадлежит уже вовсе не им, и вся история поэтому подсвечена совершенно иным светом, все события обретают иной смысл. Таким образом, становится возможен не прямой, а косвенный разговор о присутствии Христа в мире.
Рассуждение о Лаокооне
Третий вариант — «Страсти Христовы» М. Гибсона. Этот фильм наше телевидение теперь регулярно показывает на Пасху с откровенно агитационной целью — чтобы мирное население понимало, о чем речь. Следует сказать, что для православного зрителя этот фильм как минимум спорный. Образ Христа здесь попытался передать Джеймс Кэвизел. Для католического мира изображение Христа грешным человеком более или менее в порядке вещей — для нас же это попросту невозможно. Образ безгрешного Бога просто не может быть олицетворен актером по определению.
В свое время эта картина вызвала споры, в частности, о правомерности такого натуралистического изображения страданий Христа. Но Мэл Гибсон — добрый католик, а для католиков телесные страдания Христа всегда имели большее значение, чем для православных, сосредоточенных на духовной стороне евангельской истории. Этот фильм вообще надо бы поставить особняком по причинам, которые могут не иметь прямого отношения к христианской вере. Трансляция физической боли силами искусства — вот существенная проблема. Ее специально разбирал Г. Э. Лессинг в «Лаокооне», сравнивая возможности сценического действия («Филоктет» Софокла) и статую, запечатлевшую троянского жреца в момент тяжелых мучений. Демонстрация чужой физической боли не вызывает у нас сострадания — напротив, отвращение, писал Лессинг. В связи с чем Софоклу, например, пришлось принять определенные меры для того, чтобы сделать приемлемым для зрителя сюжет из истории Троянской войны (Филоктет мучился от трофической язвы на ноге), а именно дополнить физическую боль нравственными страданиями и превратить Филоктета в жертву обмана. Не то со статуей, где скульптор изобразил не кульминационный момент развития событий и не высшую точку боли, а только подступление к ней. Позднее К. Кларк, английский искусствовед, описывал то же самое, добавив к «Лаокоону» Пергамской школы еще и ее же «Марсия», изображенного в момент обреченного ожидания боли. Но кульминации в искусстве изображение боли дошло в изображениях Христа. И вот Гибсон вносит свой вклад в традицию, причем понятно, что его занимает не революция в эстетике. Как католик, он таким образом выражает свою веру и таким же образом пытается сделать ее доступной другим (как тут не вспомнить, что обязанность каждой твари — петь хвалу Творцу доступным ей способом) — в данном случае перед нами именно тот случай. А возможно, еще и следствие болезни нашего времени — «замыленного» зрительского глаза, требующего все более ярких спецэффектов, все более неожиданных поворотов сюжета, все более страшных ужасов. Год назад вышли на экран «Рождественские истории» Р. Земекиса (см. «Нескучный сад», 2010, № 1), в них главным аргументом в пользу сострадания бедным и нравственного перевоспитания вообще стали кошмарные кидающиеся на зрителя призраки — такие, что дети в зале плакали. Гибсон делает то же самое: тычет зрителя лицом в историю, которую он, современный зритель, как предполагается, помнит плохо, ибо развлечен всякими посторонними занятиями. И делает это Гибсон без скидок, не считаясь с тем, что далеко не ко всякой жесткости на экране зрительский глаз привык, — с воспитательной целью он обращается к современному погрязшему в разврате миру с визуальной проповедью. Она проста и незамысловата и, поскольку это кино, решена на уровне образов. Хотя, с другой стороны, массовый ли это фильм, если актеры говорят на арамейском, если на всех — почти настоящие, специально сотканные на ткацком станке исторически достоверные одежды, правдиво воспроизведен быт и так далее? И специально он не дает отвернуться, отвести взгляд — не чтобы поразить жестокостью, а чтобы вспомнил наивный зритель и почувствовал, как это было; если он не в силах мысленно представить страданий Христа, глядя на иконы, или если он не понимает духовного смысла страданий, то поймет физическое их измерение. И тем внезапнее и величественнее воскресает Христос в финале.
То, что это не жестокость, стало понятно при сравнении со следующим фильмом режиссера — «Апокалипсисом», где речь идет об индейцах доколумбовой Америки. Вот здесь-то как раз Гибсон проявляет милосердие к зрительскому глазу, ни разу не показав вскрытие грудной клетки очередной жертвы на языческом алтаре — камера всякий раз отплывает, как будто главный герой отводит глаза. Христианская тема представлена в фильме так же ненавязчиво, лишь указанием и намеком — погоня за главным героем завершается тем, что его ошарашенные преследователи рассматривают с берега прибывшие европейские корабли. Все! Конец человеческим жертвоприношениям. Но пришествие христиан и не представлено как победа добра или подобие моральной поддержки главного героя. Его как раз Гибсон, видимо, жалеет и спасает от насильственной христианизации — герой с семьей уходит в лес.
Кинематограф не виноват
 Четвертый вариант, может быть, самый сложный в современном массовом кино. Он касается экранизации произведений, написанных совершенно точно верующими христианами с целью привнесения в мир религиозной идеи в своеобразной художественной форме; но сложности у авторов начались уже на уровне опубликованных текстов, поскольку в обоих случаях метафора веры привела читателей к тому, что они изначально не совсем верно, а то и совсем не верно стали прочитывать эти произведения. Я имею в виду Дж. Р. Р. Толкина с его «Властелином колец» и «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса. А зрителю, не читавшему книги-первоисточники, не знающему ничего о Толкине и Льюисе (а предположить такого зрителя, думаю, несложно), понять, что речь идет о метафорах, связанных с христианством, еще сложнее. При просмотре экранизации Льюиса, конечно, может навести на мысли о христианстве воскресающий на алтаре лев Аслан, но сам фильм снят таким образом, сцена бомбежки столь впечатляюща, и так трогателен мальчик, с угрозой для жизни выносящий из шатающегося от разрыва бомб дома фотографию воюющего где-то отца, — что все происходящее с детьми, их бой с силами зла можно принять скорее за метафорическое изображение Второй мировой, как схватки сил Добра с абсолютным Злом, совершенно невозможное в нашей отечественной культуре. Очень трудно без предварительной подготовки расшифровать эту метафору христианства.
Четвертый вариант, может быть, самый сложный в современном массовом кино. Он касается экранизации произведений, написанных совершенно точно верующими христианами с целью привнесения в мир религиозной идеи в своеобразной художественной форме; но сложности у авторов начались уже на уровне опубликованных текстов, поскольку в обоих случаях метафора веры привела читателей к тому, что они изначально не совсем верно, а то и совсем не верно стали прочитывать эти произведения. Я имею в виду Дж. Р. Р. Толкина с его «Властелином колец» и «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса. А зрителю, не читавшему книги-первоисточники, не знающему ничего о Толкине и Льюисе (а предположить такого зрителя, думаю, несложно), понять, что речь идет о метафорах, связанных с христианством, еще сложнее. При просмотре экранизации Льюиса, конечно, может навести на мысли о христианстве воскресающий на алтаре лев Аслан, но сам фильм снят таким образом, сцена бомбежки столь впечатляюща, и так трогателен мальчик, с угрозой для жизни выносящий из шатающегося от разрыва бомб дома фотографию воюющего где-то отца, — что все происходящее с детьми, их бой с силами зла можно принять скорее за метафорическое изображение Второй мировой, как схватки сил Добра с абсолютным Злом, совершенно невозможное в нашей отечественной культуре. Очень трудно без предварительной подготовки расшифровать эту метафору христианства.
В случае с «Хрониками Нарнии» массовая культура в самом худшем значении этого слова взяла свое, превратив христианское повествование в шоу не только со спецэффектами, но и с наборами игрушек в «Макдоналдсе», среди которых был и игрушечный лев. Так всемирный общепит обнаружил свою нечувствительность к вопросам христианства (несмотря на многие тщательно культивируемые протестантские добродетели: благотворительность и т. д.), потому что у христианских младенцев все же не принято играть с фигурками Христа и святых.
«Властелин колец» Толкина, по мнению некоторых критиков, апофатический богословский текст, повествующий о Боге. Однако, на мой взгляд, мало кто из современных читателей и зрителей способен догадаться, что именно писатель и постановщики кино имели в виду, — для этого нужна особая, чуть ли не богословская проницательность и подготовленность.
Может быть, по отношению к «Хроникам Нарнии» и «Властелину колец» вопрос должен быть поставлен следующим образом: сохраняет ли религиозное произведение свой первоначальный смысл, если уже практически никто его не считывает? А в том, что никто эти религиозные смыслы не прочитывает, кинематограф не виноват: он такой же, какие и мы.
См. материал по теме