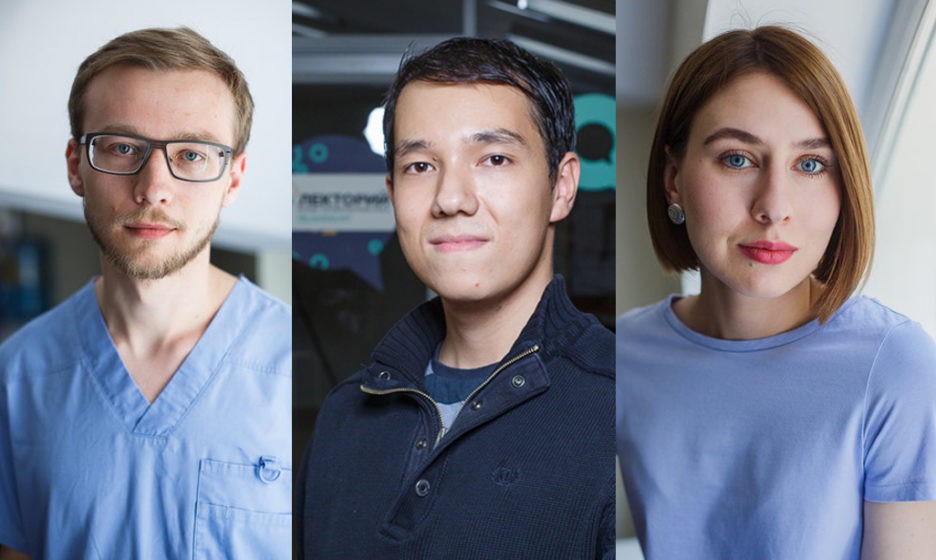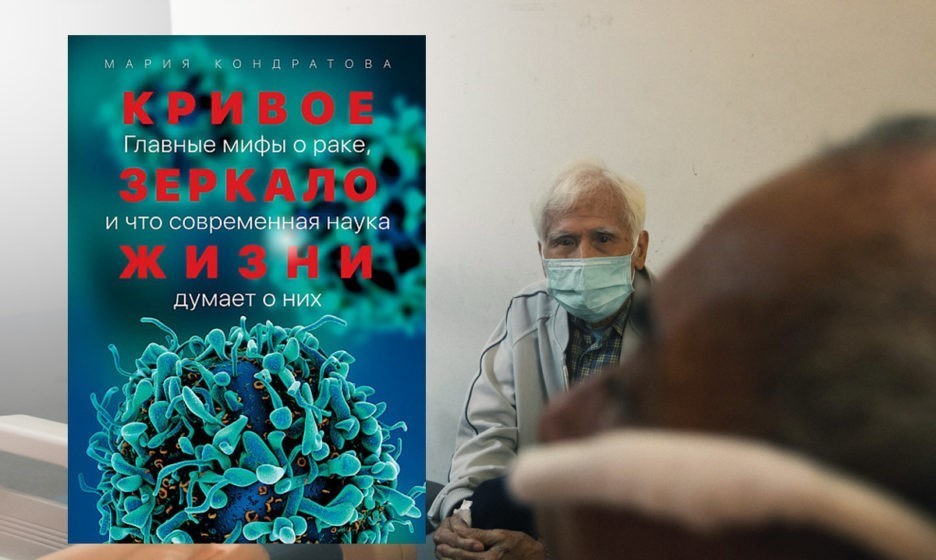Как говорить с пациентом, которого нельзя вылечить, зачем в онкологической больнице висит рында, почему болеть инфарктом модно, а раком – страшно и, может ли врач стать другом пациента? Рассказывает онколог Марина Черных — главный врач Онкорадиологического центра в Подольске.
“Сколько тебе лет — будешь указывать, как меня лечить?”
Я всегда говорю, что так выгляжу, потому что малые дозы радиации меня сохраняют в таком виде, а пациентам, которые обвиняют меня в молодости, предъявляю возраст своего старшего сына, обычно успокаиваются.
У меня была пожилая пациентка, сама – врач. Меня попросил ее проконсультировать коллега, потому что ситуация была сложная, мы выбирали тактику лечения. Она категорически отказывалась лечиться у меня, всегда была со мной на «ты», прямо говорила «сколько тебе лет и сколько – мне? И ты будешь указывать, как меня лечить?». Раздражение, конечно, есть. Я не могу сказать, что спокойно на это реагирую. Хочется начать показывать свои корочки, сколько всего важного я сделала. Сдерживаюсь.

Онколог Марина Черных
Вообще у нас в стране есть предубеждение к онкологии. Когда кто-то попадает в онкологический центр, все почему-то считают, что это абсолютная боль, трагедия. В России болеть раком страшно, а инсультом и инфарктом модно. У нас все с придыханием говорят «у меня инсульт», или «у меня инфаркт», а про рак стараются молчать. Это только вопрос нашей психологии.
Да, никому не хочется болеть ничем. Мы все хотим быть здоровыми, счастливыми, и умереть в возрасте 98 лет. Это наша общая психологическая защита от всевозможных факторов риска. К сожалению, так не бывает. Главная задача врача-онколога — объяснить пациенту, что болеть – не страшно. Конечно, в этом нет ничего хорошего и приятного! Но нельзя допустить того, чтобы болезнь внесла необратимые коррективы в твою жизнь. Надо продолжать жить, радоваться семье, детям. Многие пересматривают свое отношение к жизни, у меня миллион таких примеров из практики.
Я лечила молодого мужчину, чуть за 30. У него была довольно запущенная история — заболевание головы и шеи, четвертая стадия. Он уже практически прощался с собой, у него не было никакого желания лечиться, что-то делать, он был в постоянной депрессии, проходил очень непростое лечение. Мне стоило больших усилий убедить его лечиться! И у нас получилось. Не сразу, но получилось. Он потом сказал: «Я счастлив, что заболел, болезнь полностью меня изменила». Он недавно перешагнул пятилетний рубеж ремиссии, поменял работу, много преподает в Америке, стал путешествовать.
Недавно я проходила во Владивостоке курс паллиативной помощи. У нас был прицел на тех пациентов, которых мы не можем спасти, но однозначно можем им помочь. Мы развиваем направление паллиативной помощи и нам показывали, как надо общаться с пациентами. Мы должны с ними больше говорить. Нас, к сожалению, этому не учат.. Мы учимся 6 лет в институте, выходим из института и не умеем с человеком на приеме просто разговаривать!
У кого-то на это хватает собственных внутренних сил, эмоций, а у кого-то не хватает. И ты сидишь, говоришь вроде бы все правильно… А человек тебя не слышит. Значит, надо говорить иначе. И мы пошли этому учиться, не студенты, а сформировавшиеся врачи онкологи. Нам там дали потрясающую карточную игру, и я сейчас со многими пациентами в непростой клинической ситуации играю, даю ее домой на выходные. Вы не поверите, но это работает.
К сожалению, формально, прием первичного пациента – 12 минут, с онкологическими пациентами так не получается. У меня уходит 40 минут на первичного пациента, с которым надо решить, что мы будем делать, какие цели преследуем, как он видит свою дальнейшую жизнь, что у него в приоритете? Если это тяжелый пациент, нам иногда приходится решать, что для него важнее – продолжительность или качество. Иногда с пациентом надо выпить чашку чая. Какие там 12 минут? Не хватает.

Онкорадиологический центр в Подольске
Я все еще жалею пациента
Каждого пациента, которого не удалось спасти, я помню. Но один случай особенно хорошо. Я тогда только пришла в ординатуру, всего полгода проработала.
Мы с моим научным руководителем вели молодую пациентку, чуть за 30. Я не только ее лицо, все нюансы болезни помню… Мы тогда ей поставили III стадию рака молочной железы, 13 лет назад линейка лечения была еще довольно простая. За последние 10 лет все сильно изменилось. Сейчас лечение более персонализированное, с разнообразными подходами, а тогда все было довольно просто. Научный руководитель сказал мужу, что надо готовиться, прогноз неблагоприятный. А у них ребенку два года, я помню, как звали сына. Он еще малыш, а у его мамы рак.
Она очень активно лечилась, всегда была очень позитивно настроена, хотя мы были готовы к самому плохому. Приходит год, два, три, она приезжает только на контроль, потому что прошла все — химию, лучевую терапию, гормонотерапию. Через пять лет она спросила, можно ли родить второго ребенка? Я ей честно ответила, что формально да, нет никаких противопоказаний, как женщина отвечу – подумай о сыне, ты ему нужна здоровая, активная. Еще через два года гинеколог по месту жительства, сказал, что ей пора отменить эндокринную терапию. Не знаю, было ли это связано с тем, что она хотела еще ребенка… Вот почему она мне тогда не написала и не позвонила?

Опухоль начала прогрессировать в течение полугода. Женщина ушла еще через несколько месяцев. Как я себя ругала… Почему она мне не позвонила? Могла ли я тогда еще чем-то помочь? Что-то еще назначить? Ответа так и не нашла, до сих пор об этом думаю, а она уже ушла… Два года прошло, как ее нет.
Сейчас я тоже переживаю за другую пациентку, с которой знакома много лет, с начала болезни. Это — невероятная женщина, биолог, журналист, она мне дала значительно больше, чем я – ей. Мы с ней подружились, потом она уехала в другую страну и проходила лечение там. Когда я видела ее в последний раз, ездила в гости, я сдержалась, чтобы не сказать: «Хочу еще что-нибудь сделать, активнее тебя лечить», потому что я – уже не ее врач, а ее подруга. У нее есть свой врач, которому она доверяет, было бы неправильно лезть в их отношения. Но все равно продолжаю себя пилить по этому поводу.
Столько лет в профессии и, да, я все еще жалею пациента. Ругаю себя за это. Но ведь я – человек, у меня есть свои эмоции, свое отношение к истории. Вот, приходит ко мне молодой пациент, которого невозможно спасти. Как не реагировать эмоционально? Я всегда говорю своим пациентам, что онкологическое лечение – это не санаторно-курортное лечение.
Будет больно, плохо, будут лучевые реакции, и вы будете терпеть. Мы будем за вас бороться, а вы – терпеть.
В этом смысле я их никогда не жалею! Но в остальном, да. Очень жалко.
Я сама говорила папе, что у него – рак
Был февраль 2011 года, я ждала младшего сына. Моему папе поставили диагноз – рак. Я до сих пор не знаю, было ли это мое провидение или стечение обстоятельств, но мне надо было уезжать на месяц на море, меня решили отправить отдохнуть, а родители собирались остаться с моим старшим сыном дома, в Москве. Меня при этом мучило беспокойство, но не за маму, у которой много разных заболеваний, а за папу.
Я ему сказала: «Давай сделаем ЭКГ, сдадим кровь, ведь я на месяц уезжаю, а ты с Васей останешься». Он ответил: «Отстань, меня ничего не беспокоит». Я абсолютная противница онкомаркеров как метода диагностики, но у папы были повышенные маркеры желудочно-кишечного тракта. Мне все сказали, что это — ерунда, он бывший курильщик, да, я и сама это знала. Но, когда уехала, не могла отделаться от мысли, что с моим папой что-то не то.

По возвращению я отправила его на гастроскопию. Это была ранняя стадия, папе сделали эндоскопическую операцию. Я сама говорила папе, что у него – рак. Мы вдвоем обсуждали, что будем делать дальше, к чему готовы, а к чему – нет. В голове-то у себя я была не дочкой пациента, а врачом-онкологом, который помнит всю статистику по этому заболеванию… Но я гнала от себя эту мысль, графики выживаемости, графики прогноза. В тот момент я подумала, что абсолютно правильно сделала, что стала врачом-онкологом.
Прошло 8 лет, мой папа жив-здоров. Не устаю молиться за его врача – Сергея Сергеевича Пирогова. Моему папе 71 год, и он всегда говорит: «Когда выбираешь мне лечение, помни, что мне нужно качество, а не количество». Это очень правильно.
Мы, врачи-онкологи, в борьбе за пациента иногда забываем спросить у него самого – а хочет ли он все попробовать?
Конечно, не заставишь семью жить в аппарате МРТ. Но диспансеризацию проходить надо. Машины мы регулярно отдаем на техобслуживание, у стоматолога уже привыкли регулярно бывать, а все остальные органы нам почему-то не важны. Другой вопрос, что диспансеризация у нас часто проводится «для галочки». Мне всегда очень грустно, когда я встречаю учителей и врачей с запущенными стадиями рака, потому что это те пациенты, которые проходят регулярное медицинское обследование, имеют медицинскую книжку. Значит кто-то из врачей на них точно недавно смотрел! У нас есть две крайности — либо бесконечные поиски рака, либо ничего не делание и очень маленький процент разумного отношения к своему здоровью — небольшой набор необходимых обследований.
Дружу с пациентами и ругаю себя
Я с рождения хотела быть врачом и больше никем. Даже не знаю, что бы со мной случилось, если бы не поступила в медицинский институт. Наверное, пошла бы в медицинское училище, и все равно бы потом поступала на врача. Никакой другой истории бы не было, хотя в семье у меня нет врачей. Я — коренная москвичка, мой дедушка — военный, ветеран Великой Отечественной Войны, он всю жизнь отдал военной специальности, преподавал в МГУ на военной кафедре. Водители — советские военные инженеры. Я росла в невероятной родительской любви. Училась в обычной в школе в Москве. У меня, кстати, было тяжелое поступление в университет. Я поступала в Казанский медицинский ВУЗ, в Москве было очень сложно пробиться. Два года училась там, а потом уже переводилась в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.

Помню и первый халат, и шапочку. Это сейчас обилие вариантов медицинской формы, студенты ходят модные. Тогда у нас ничего не было, были скромненькие синтетические халатики и шапочка, которую, я все время крахмалила, чтобы она была беленькая и красивенькая. Это невероятное ощущение – надеть форму. Мой старший сын учится в школе при Первом медицинском, в 10 классе он прислал мне фотографию, как он стоит в белом халате, это незабываемое чувство причастности к чему-то очень важному. Оно у меня не ушло за все эти годы в медицине, несмотря на то что в ней сейчас происходит. Я занимаюсь тем, чем должна.
После института я 13 лет работала в онкологическом центре им. Блохина. Это моя онкологическая “альма-матер”, куда я еще в институте пришла работать медсестрой. Именно там я поняла, что хочу идти в онкологию, хотя сначала попала туда совершенно случайно. Но у меня был великий учитель – профессор Михаил Иванович Ничушкин, абсолютный фанат своей профессии. Я приходила на работу и видела, что он уже в 7 утра делает обход, а за ним ходят другие врачи. Первое время в медицинском институте ты ничего не знаешь о специальностях, только общие направления: хирургия, терапия и т.д. Все мальчики хотят быть хирургами, девочки — акушерами-гинекологами. Так складывается, что лишь единицы видят другие области. И тут передо мной «выплыла» онкология. И началась моя эпоха жизни в онкоцентре, эпоха академика Давыдова, невероятной личности в отечественной онкологии. Это были 13 самых счастливых лет.
Я не знаю, насколько это правильно, до сих пор не решила для себя этот вопрос… Можно ли дружить с пациентами, могут ли у тебя складываться отношения, выходящие за рамки сухого приема? Но я с ними дружу и иногда себя ругаю, что, может быть, поступаю не совсем правильно. Понимаете, онкологические пациенты — это пациенты, которые приходят на прием к одному врачу годами. У меня до сих пор есть те, кого я начинала лечить, когда была ординатором. В течение такого длительного времени сложно не выйти на новый уровень отношений. Со многими я перезваниваюсь, встречаюсь и вне работы.

А одна пациентка, наоборот, стала нашей сотрудницей. У нее была опухоль мозга, задет речевой центр, до болезни она работала в Останкино, много общалась с людьми. Она была совсем молоденькая, приезжала ко мне с мамой. После лечения лишилась работы, и я позвала ее к нам, сказала «зато всегда будешь под медицинским контролем». Теперь работает у нас администратором, речь восстановилась.
Бывают, конечно, и негативные моменты. Одна пациентка написала на сайт негативный отзыв обо мне. Негатив заключался в том, что она пришла ко мне, напуганная другими докторами, что у нее рак, и это – ужас, а я ей сказала, что у нее все хорошо, и я ей помогу. Ее основная претензия ко мне – «да как так можно». Что ж, значит я не подобрала нужные слова, чтобы правда осталась на моей стороне. Несмотря на то, что высказалась она в грубой форме, я приняла это, как завуалированный комплимент.

Мой муж — врач, мы с ним учились в одном институте, сидели за одной партой, он работает в Институте трансплантологии. Раздражения у семьи – масса, муж и дети все время жалуются! Но у нас есть абсолютное понимание того, что я, сидящая дома – это гораздо хуже, чем я работающая! Недавно я стала заведующей отделением, это совершенно другой виток истории, загруженности и ответственности, потому что здесь я отвечаю не только за себя и пациентов, а за весь мой коллектив. Коллектив я, кстати, набирала сама. Это — люди, которые схожи со мной по темпераменту, настроению, желанию работать. В этом году к нам пришел ординатор. Спросил у меня утром, какой будет рабочий день. Ну, я ему назвала официальные цифры с 8 утра до 4 часов дня. В девять вечера мы все еще были на рабочем месте, обсуждали тактики лечения, что-то делали. Он сказал: «Ладно, я все понял по поводу графика». Я ему ответила: «Ты же видишь, я никого не заставляю». Просто все считают, что должны быть здесь, когда они нужны.

Простите, что у нас не было лавочек
У меня есть пациент, которому 4 года назад поставили диагноз. Грамотный современный мужчина, он всегда задавал очень правильные вопросы и никогда не лез в доктор-Гугл. Он не метался по другим врачам, а пришел и доверился. Узнавал, что с ним происходит сейчас, и чего ему ждать, какие у него могут быть осложнения, может ли он строить определенные планы? Просто решил для себя, что доктор прав, и шел по рекомендациям.
Врач обычно ждет, что все безоговорочно будут его слушать. Это – идеально. Хотя я всегда за второе мнение. Я уверена в своих назначениях, но пациенту иногда нужно получить второе мнение, чтобы тоже быть уверенным. У этого есть и обратная сторона – чаще всего мы говорим одно и то же разными словами, а пациенту кажется – «мне все разное говорят».
У моей подруги, известного врача-невролога был случай, о котором она написала пост в Instagram, видимо не выдержала, потому что она невероятно терпелива с пациентами, всегда их слышит. Ее пациентка летела куда-то в самолете, зная ее тонкую душевную организацию, врач была рядом с ней и, когда пациентке стало плохо, оказала всю необходимую помощь. В конце перелета она услышала, как эта женщина с соседкой по креслу обсуждает отвратительную медицину и врачей, которым ничего не нужно.
Мы, врачи, очень плохо подкованы юридически, нас этому не учат, и абсолютно не защищены. В стране считанные единицы юристов по медицинским вопросам. Наверное, есть и проблемы в законодательстве. Именно поэтому я стала получать второе высшее образование по специальности “организатор здравоохранения”, хочу защитить себя и коллег. У нас был пациент, который лечился два месяца, заболевание было не самое сложное, мы ему помогли, и он тут же написал в Минздрав жалобу, что у нас нет лавочек во дворе, а мы тогда только открылись. Мне было так обидно, потому что я знаю, сколько внимания, заботы уделяли ему наши медсестры, как мы старались все те два месяца, что он был с нами. А ведь мне приходится отвечать на эти жалобы «простите, что у нас не было лавочек». Сейчас мы их, конечно, поставили.

В Онкорадиологическом центре
Мы максимально стараемся сокращать внутри центра очереди. У меня есть чат всех врачей области, там пишут, кому нужны МРТ, кому нужны КТ, и я стараюсь как можно быстрее записать этих пациентов. Тяжелые пациенты с болевыми синдромами берутся без очереди на всю диагностику и лечение. Если мы говорим про экономию, то мне, главному врачу, это экономически невыгодно, но лично для меня это социально важно.
Мои медсестры понимают, почему мы закончили лечить в 11 ночи. Они знают, если сегодня мы не выйдем в 11 ночи, то кому-то будет еще неделю дома больно. Но иногда я просто физически не могу помочь. Есть определенные ресурсы, за которые мы переступить не можем.

Пока глобально не решены системные проблемы, важны личности. В Европе профсоюз закрыл бы мне аппарат КТ в 4 часа дня, меня бы сняли с должности, если я принимаю пациента в 11 ночи. Понятно, что для государства – лечение онкологических пациентов – тяжелый груз, лечение становится все дороже, а пациенты должны его получать в срок. Это очень трудно, и за один момент этого не решишь.
Но мы все делаем с удовольствием, работа все равно любимая. Я до сих пор, наверное, поставлю внутривенный катетер и сделаю все виды инъекций — это мои навыки медсестры. Я не боюсь сделать клизму пациенту, вынести судно, у меня с этим нет никаких проблем. Я хочу, чтобы мой сын, когда будет учиться на врача, прошел все эти этапы, чтобы он понял ценность этого труда на всех этапах медицины. Знал, что медицина — это не только великий врач в белом халате, потому что у него на стенке висит диплом, а еще и огромный труд младшего и среднего медперсонала. Вот что стоит за сложным диагнозом и лечением, после которого пациент выздоравливает.
Видели у нас в коридоре рынду? Пациент, которому мы объявляем о ремиссии, подходит к ней и звонит, а мы ему аплодируем и поздравляем. Там еще рядом стихотворение, которое написала наша медсестра. Сначала мы думали, что никто не будет звонить, все застесняются, но, вы знаете, звонят и очень громко.
Фонд «Правмир» помогает онкобольным взрослым и детям получить необходимое лечение. Помочь можете и вы, перечислив любую сумму или подписавшись на регулярное ежемесячное пожертвование в 100, 300, 500 и более рублей.