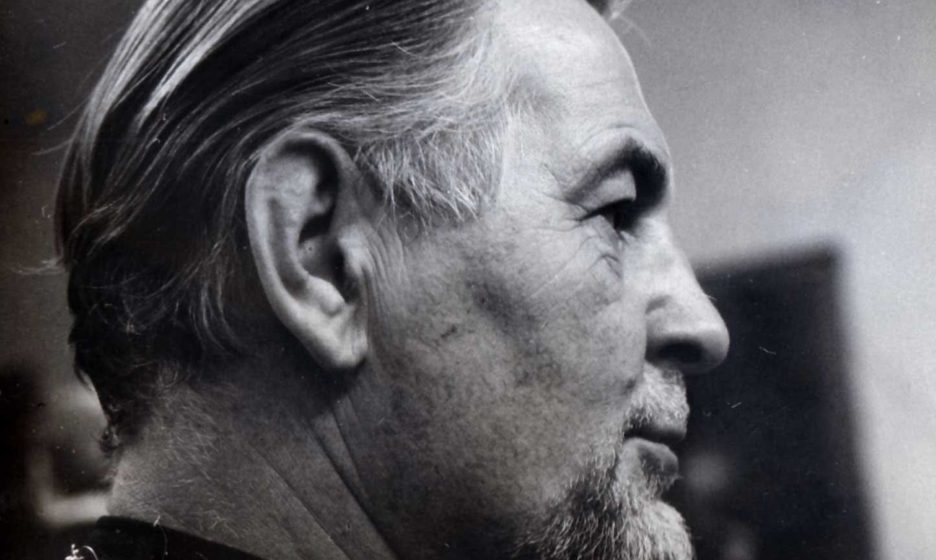
Беседы на «Радио Свобода»
Парадоксы русского культурного развития: максимализм
Культура связана с чувством меры, с ощущением границы. Уже древние греки, создатели одной из величайших мировых культур, в каком-то смысле матери нашей современной всемирной культуры, в центр понимания культуры поставили понятие метрóс – прилагательное, означающее как раз меру, гармонию, а следовательно и естественную ограниченность любого совершенства. Мера предполагает порядок, строй, структуру, форму, соответствие формы содержанию, законченность, завершенность.
Творцы этой культурной традиции очевидно понимали, что самое трудное в творчестве — это как раз самоограничение, признание границы и своего рода смирение перед нею.
Один из парадоксов русской культуры, между тем, заключается в том, что важнейшей ее чертой с самого начала оказалось как раз своеобразное отрицание вот этого «метрос», своеобразный пафос максимализма, стремящегося к устранению и меры, и границы.
Парадоксальность этой черты состоит в том, что пафос максимализма присущ именно самой русской культуре. И раньше, и вне России максимализм, фанатизм, отрицание культуры во имя каких-либо других ценностей очень часто приводили к уничтожению культурных ценностей, но это явно было проявлением внекультурным или антикультурным.
У нас — в этом и заключается парадокс — ощущение это, порыв этот был присущ самим носителям культуры, ее творцам. И это вносило и вносит особую поляризацию внутрь самой культуры, делает ее хрупкой и часто спорной, даже словно бы призрачной.
Истоки этого максимализма надо искать в принятии древней Русью византийского христианства. О смысле и значении этого основоположного факта русской истории написаны сотни книг, так или иначе он всегда стоял в центре русских споров и исканий, и всё-таки особое значение его для судеб русской культуры заставляет вновь и вновь обращаться к нему.
Остановимся только на одной стороне этого явления, которая поможет нам объяснить постоянное в русском культурном самосознании напряжение, постоянную его отнесенность к некоему поистине взрывчатому максимализму.
Многие русские историки отмечают факт сравнительно легкого принятия Русью христианства в его византийском облике. Но гораздо реже обращалось внимание на то, что в процессе этого принятия было принято далеко не всё, что составляет понятие христианского византинизма. И коренная разница сводилась здесь к тому, что христианская Византия была наследницей богатейшей и глубочайшей греческой культуры. Такого культурного наследия Киевская Русь не имела.
Для византийца христианство было увенчанием длинной, сложной и бесконечно богатой истории, «оцерковлением» целого мира красоты, мысли и культуры. Такой культурной памяти и такого чувства «увенчания» и завершения древняя Русь иметь не могла. Но в таком случае естественно, что Византия, с одной стороны, и Русь, с другой, по-разному воспринимали присущий христианству «максимализм».
Что христианство максималистично, об этом не приходится спорить. Всё Евангелие построено на максималистическом призыве: «Ищите прежде всего Царствия Божьего», на предложении бросить всё, от всего отречься, всем пожертвовать — во имя прихода в конце времени Царства Божия.
И нельзя сказать, что христианская Византия как-либо «минимализировала» этот призыв, смягчила его категоричность. Но в разработанной Византией сложной системе христианской догмы ее максимализм был представлен в некоей «иерархии ценностей», в которой нашли себе место и тем самым так или иначе были оправданы и ценности «мира сего» — и в первую очередь ценности культуры. Весь мир был как бы покрыт величественным куполом Святой Софии, Божьей Премудрости, изливающей свой свет и свое благословение на всю жизнь и на всю культуру человека.
Но куполу киевской Святой Софии, построенной по византийскому образцу и вдохновению, покрывать и благословлять было, собственно, нечего: у древней, почти только что появившейся на свет Киевской Руси не было никакой «иерархии ценностей», которую нужно было бы согласовывать с максимализмом Евангелия. Для того соотношения, сложного, но стройного, между культурой и христианским максимализмом, которое составляет сущность христианской Византии, на Руси, собственно, не было ни места, ни данных, ибо не было одной из составных частей этого соотношения, а именно старой, богатой и глубокой культуры.
Древней Руси не пришлось переживать долгого, сложного и часто очень мучительного процесса согласования культуры и христианства, христианизации эллинизма и эллинизации христианства, — процесса, которым отмечены пять-шесть веков византийской истории [: у Древней Руси еще нечего было согласовывать] [1]. У нее еще почти не было истории. Но это значит, что византийское христианство было воспринято Русью одновременно и как вера, и как культура и что, таким образом, присущий христианской вере максимализм оказался практически и одной из главных основ новой культуры.
Принимая византийское христианство, Русь не заинтересовалась ни Платоном, ни Аристотелем, ни всей традицией эллинизма, которые и для христианской Византии оставались живой и жизненной реальностью. Византийской «культуре» древняя Русь не отдала ни частицы своей души, внимания, интереса.
Историки подчеркивают, что, несмотря на обилие церковных и политических связей с Константинополем, Русь всей душой потянулась не к нему, а к Иерусалиму и Афону. К Иерусалиму — как месту реальной истории Христа, Его уничижения и страдания, и к Афону, монашеской горе, как к месту реального христианского подвига. Больше, чем все тонкости византийской догмы и всё великолепие византийского церковно-культурного мира, самосознание Руси пронзил образ евангельского распятого и уничиженного Христа, а также образ героя-монаха, подвижника. Русское христианство удивительным образом началось без школы и без школьной традиции, а русская культура как-то сразу оказалась сосредоточенной в храме и богослужении.
Конечно, начала создаваться и русская христианская культура. Но одно дело, когда храм строится в центре древнего, отягощенного культурой греческого города, в котором одной из задач храма оказывается соединение культуры с христианством, «христианизация» ее, и совсем другое, когда этот же храм оказывается всем — и верой, и культурой. А именно так случилось на Руси. Ее культура, подлинная культура, оказалась сосредоточенной в храме, в котором ее сутью стало, так сказать, «самообличение», призыв к максимализму, требующему отказа от «мира».
Всё подлинное, прекрасное и великое в древнерусской культуре есть одновременно и призыв уйти, отказаться, отрешиться. Если же не уйти, то отдать свои силы построению некоего последнего, совершенного, всецело устремленного к небу и небом живущего «царства», в котором всё без остатка подчинено «единому на потребу».
Так максимализм стал судьбой русской культуры и русского культурного самосознания. Культура как «мера», культура как «граница» и «форма» меньше всего вдохновляла его и в прошлом, и в последующее время, когда непосредственная связь между христианством и культурой оказалась оборванной.
В каком-то смысле можно даже сказать, что у нас в России не возникло, не образовалось самого понятия культуры как совокупности знаний, ценностей, памятников, идей, совокупности, передаваемой из поколения в поколение для сохранения и преумножения, а одновременно и как мерила творчества. Потому что христианская культура, нашедшая свое выражение в храме, в богослужении и в быте, по самой своей природе оказалась чуждой идее развития и творчества, стала сакральной и статической, исключающей сомнения и искания, — никакой же другой культуры у нас больше не было.
И поэтому всякое творчество, всякое искание, всякая перемена ощущались как бунт, как почти кощунство и анархия, и, таким образом, суть культуры, как творческого преемства, не создалась. [Всякий творец оказывался тем самым и революционером: творить, создавать принципиально новое он мог только на развалинах не допускающего никакого развития и пересмотра здания.]
Таковы истоки максимализма, в смысле отрицания меры и границы, которые так часто приходится встречать в сложной диалектике русского культурного самосознания. И этот максимализм не удалось выкорчевать даже петровской культурной реформе, так резко приобщившей Россию к западной культурной традиции. Тут тоже можно говорить о знаменательном парадоксе: одно из производных этого приобщения к западной культуре, великая русская литература XIX века, явилась для Запада тем, что изнутри взрывает именно «меру» и «ограничения» западной культуры, вводит в нее взрывчатое вещество такого искания, таких прозрений, такого напряжения, которые подтачивают ее стройное размеренное здание.
Знаменитые слова о русском мальчике, который, получив карту звездного неба, через полчаса возвращает ее исправленной, не лишены глубокой правды. Русские после Петра оказались изумительными учениками. Вся техника западной культуры была усвоена Россией меньше, чем в сто лет. Но, научившись, ученики естественно и почти бессознательно вернулись к тому, что в них было заложено с самого начала, — и именно к тому максимализму, который на Западе был почти целиком «обезврежен» веками умственной и социальной дисциплины.
И это касается, хотя и по-разному, всех трех слоев русской культуры, трех культурных групп, о которых мы говорили в прошлой беседе. И в культуре народной, и в культуре, которую мы назвали технически-прагматической, и, наконец, в культуре державинско-пушкинско-гоголевской — всюду видно постепенное накопление взрывчатого максимализма, как и ощущение невозможности удовлетвориться только культурой, может быть — из-за отсутствия в ней навыков, методов, позволяющих решать возникающие перед человеком вопросы. А это, в свою очередь, подводит нас ко второму парадоксу русского культурного самосознания: к заложенному в нем минимализму, противостоящему тому максимализму, о котором мы говорили сегодня.
[1] Здесь и далее текст, вычеркнутый в машинописи, помещен в квадратные скобки


