
Беседа 10. Отрицание культуры во имя прагматизма
Есть слова, внешне простые и незамысловатые, но их трудно перевести на какой-либо иностранный язык так, чтобы они сохранили то свое значение и смысл, которые они имеют на русском языке. К таким словам принадлежит и слово «польза», такое распространенное в русском языке. И можно сказать, что мало о чем говорили так много и с таким воодушевлением среди русских интеллигентов второй половины прошлого века, как о пользе.
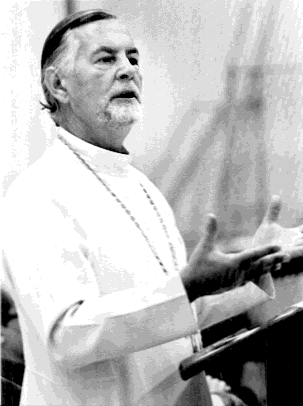
Протопресвитер Александр Шмеман
В той диалектике русского культурного самосознания, о которой мы говорили в предыдущих беседах, в середине прошлого века наступил момент, когда слово «польза» было, в сущности, отожествлено с понятием культуры. Культуру стали измерять степенью приносимой ею пользы или, еще проще, как бы подчинили ее соображениям необходимости извлечения из нее пользы.
Но что же подразумевалось под «пользой» и почему так крепко воцарилась она в русском сознании, приобрела почти религиозный ореол? А главное, почему во имя этой «пользы» готовы были пожертвовать доброй половиной, и притом высшей половиной, подлинной культуры? Во имя «пользы», например, скинули со счетов культуры Пушкина, а «сапоги» поставили «выше Шекспира».
Все эти вопросы совсем не простые, с ними связаны очень глубокие травмы в русском сознании. В предпочтении культуре «пользы» странным образом сошлись и прагматический пафос Чернышевского, и разрушительный задор Писарева и Добролюбова, и народничество, и презрение к «стишкам» Смердякова, и опрощенство Толстого, и, наконец, мечта о какой-то специфической «пролетарской культуре». Тут обнаружилась какая-то неудержимая тяга к снижению, которая в разное время окрашивается в цвета той или иной идеологии, но на деле всегда остается в сущности одинаковой.
Все помнят, наверное, Базарова из тургеневских «Отцов и детей» и его литературно неубедительную возню с лягушками. Неубедительную потому (и это очень важно), что лягушками, то есть зоологией или анатомией, а шире вообще наукой, Базаров, в сущности, не интересовался. Его волновала, захватывала судьба «народа», а дальше — судьба всего человечества, его счастье; на меньшее Базаровы не соглашались. Путь же к счастью всего человечества Базаровы видели в служении именно «пользе», которая совпадала у них в то время с естественными науками.
Для следующего поколения «пользой» стало «хождение в народ» с тем, чтобы просвещать его, нести ему непосредственную пользу и слиться с ним. Спустя еще немного времени мы видим другие формы, другие воплощения этой «пользы». В «Жизни Арсеньева» Бунина молодой герой этой автобиографической книги, то есть сам Бунин, на короткое время становится толстовцем, поселяется у какого-то ремесленника на юге России и начинает учиться делать бочки.
Поколения за поколениями русских людей, при этом из самых разных сословий, жадно бросались на любую «пользу», которая казалась им своеобразным абсолютом, всепоглощающим божеством. И во имя этой «пользы» они готовы были отказаться от всего и прежде всего от культуры в том пушкинском смысле, о котором мы говорили в прежних беседах.
Вопрос, таким образом, в его первой форме надо ставить так: каким образом отъединились одна от другой сферы «культуры» и «пользы», как и почему подлинная культура стала казаться «бесполезной» и почему «культурой» стали считать самый упрощенный и часто поверхностный прагматизм?
Для Пушкина этого раздвоения не существовало. Он видел в культуре, в подлинной культуре, величайшую из всех возможных польз, и он не мерил культуру, творчество, искусство никакими посторонними им мерилами «пользы». Но вот Гоголя уже мучила эта проблема «пользы»: он посчитал недостаточным, бесполезным то, что он написал «Ревизора» и «Мертвые души», решил, что он призван учить и проповедовать, приносить «пользу», для чего и разразился своими «Выбранными местами из переписки с друзьями» — книгой, которая никогда не перестанет удивлять.
Тургенев тоже все мучился, что молодежь видит в его романах недостаточно «пользы». О других не стоит и говорить: они все подчиняли, все старались растворить в этой «пользе».
Можно привести два источника этого раздвоения, разрыва между культурой и прагматизмом. С одной стороны, это внутренняя пронизанность русского сознания после Пушкина западными идеологиями XVIII и XIX веков, прежде всего идеологией Просвещения и вытекающими из нее философскими рационалистическими системами.
Пушкин воспринимал и впитывал в себя западную культуру, а его преемники начали впитывать в себя западные рассуждения о культуре, причем рассуждения, в которых рассудочность уже преобладала над непосредственной интуицией, в которых, иначе говоря, уже была трещина между целостным восприятием жизни и ее рациональным объяснением.
Русское сознание особенно увлекалось социально окрашенными западными идеологиями, теми мечтами о справедливости, социальном равенстве и грядущем земном рае, которыми была окрашена интеллектуальная жизнь Западной Европы после французской революции.
В России это увлечение не могло не преломиться с самого же начала скорбной заботой о темном русском крестьянстве, оставшемся, в своей крепостной зависимости, не затронутым современной культурой. И получалось так, что само понятие «культура» стало синонимом тонкого слоя благоденствующих людей, отсюда и возникло то чувство вины перед народом, которое с течением времени постепенно стало доминирующим чувством и которое заставляло видеть в культуре как таковой роскошь, пир на глазах у бедствующих и нуждающихся.
Поэтому стало складываться и убеждение, что культура, чтобы стать приемлемой, должна быть полезной страждущему народу, она должна измеряться по отношению к народу, к его нуждам. А под влиянием этого убеждения начался процесс принципиального упрощения культуры, отказа от ее утонченности и трудной доступности.
Пушкин, если бы ему пришлось, в его время, участвовать в спорах о задачах и смысле культуры, наверное, сказал бы, что цель состоит в том, чтобы поднять народ до культуры, то есть, попросту говоря, сделать его культурным народом. Но измученные чувством вины преемники Пушкина решили, что нужно, напротив, культуру снизить до уровня народа.
Кажется, нигде, кроме как в России, не строили сознательно и самоотверженно своеобразную «культуру для народа». Постепенно начали сочинять и издавать поток «книжек для народа», выросла некая «полукультура», создался особый «полукультурный» язык, кажущийся, по сравнению с языком «Капитанской дочки» и «Героя нашего времени», страшным падением.
Все это означало, что внутри самой культуры произошло раздвоение. Одна часть ее принципиально обратилась в сторону народной пользы и во имя этой пользы отреклась, аскетически отказалась от культурной «роскоши», то есть от утонченной подлинной культуры, составившей другую ее часть.
И вот надо сказать, что до народа специально обращенная к нему культура практически не дошла; вместе с тем само это раздвоение трагически снизило общий культурный уровень в стране. Через несколько десятилетий после Пушкина, Лермонтова и Тютчева чуть не вся Россия зачитывалась Надсоном и плакала над его стихами.
Необходимо указать и еще один более сокровенный источник всеобщего служения интеллигенции упрощенно понимаемой «пользе». Западный прагматизм и радикализм пал в России на подготовленную почву. «Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?» — эти евангельские слова, если они и не вспоминались, как таковые, определили собой, почти с самого начала петровской России, отношение к пользе огромной части русского общества. В подсознании народа, включая и интеллигенцию, в послепетровской России осталась таинственная память о совсем другом подходе к жизни, к государству, к нации, к творчеству, — о подходе, вскормленном веками византийско-христианского мироощущения.
В этом мироощущении не было и нет места какой-то автономной «культуре», как нет места и самодостаточному, своими интересами, своей славой и величием определенному государству. Все подчинено последней, высшей пользе, которая выходит за пределы мира и истории, — и поэтому все в мире упирается в этот последний вопрос: «Какая польза…».
Какая польза, в последнем счете, от четырехстопного ямба «Евгения Онегина», от заботы Пушкина о развитии русского театра? Отрекшись от Византии, а часто и от христианства, русское послепетровское сознание, даже и в своей новой, обмирщенной, секуляризованной форме словно сохранило предельную серьезность, продиктованную сознанием «суеты сует» этого мира, — и эта серьезность разъедала изнутри то, что людям казалось легковесной забавой культуры.
Для них остались две возможности: либо насытить культуру до последнего предела этой «серьезностью», сделать ее не только прагматической, но высшей и всеобъемлющей пользой, либо вообще отказаться от нее ради «единого на потребу», как бы это «единое на потребу» ни понималось в то или иное время.
И вот дотлевают в камине страницы «Мертвых душ», в ноябрьскую стужу выходит из Ясной Поляны Лев Толстой, задыхается Блок. «Есть в напевах твоих сокровенных роковая о гибели весть …». Все это, так или иначе, о «пользе», все это о требовании, предъявляемом культуре, — быть не просто культурой, а спасти, преобразить, создать новую землю и новое небо.
Русская культура как бы мечется между двумя этими крайностями и пределами. Она навсегда озарена ясным солнцем Пушкина — и она навсегда как бы отравлена мечтой, страстью, жаждой «пользы». В этом ее и глубина, и ее трагедия. В этом ее богатство — и ее падение.
Отречение от культуры во имя прагматизма естественно приводит нас, таким образом, к теме отречения от нее во имя религии.
Предыдущие беседы о русской культуре:
- Русское культурное чудо
- Что сделал с русской культурой утопизм
- Судьба России и ее культуры почти всегда решалась на верхах
- Истоки максимализма в русской культуре

