
Беседа 11. Отрицание культуры во имя религии
И русские, и иностранные авторы часто говорили о религиозной глубине, о религиозном вдохновении русской культуры. Действительно, начиная с определенного времени каждый большой русский писатель так или иначе отражал в своем творчестве свои религиозные искания или свой религиозный опыт – от Гоголя до Пастернака и Солженицына, не исключая и таких официально не религиозных, неверующих писателей, как Тургенев или Чехов.
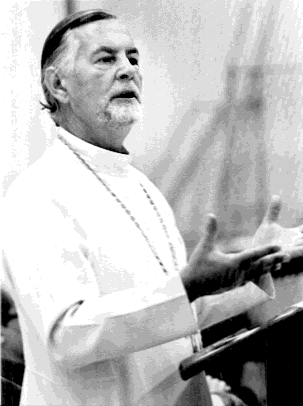 Русская литература, а за ней и вся русская культура несомненно пронизаны религиозной темой или хотя бы некоей религиозной тональностью. Вместе с тем в разговорах о религиозности русской культуры мало когда замечают, что в действительности для самой русской культуры гораздо чаще речь шла о выборе между культурой и религией, а не о религиозности самой культуры.
Русская литература, а за ней и вся русская культура несомненно пронизаны религиозной темой или хотя бы некоей религиозной тональностью. Вместе с тем в разговорах о религиозности русской культуры мало когда замечают, что в действительности для самой русской культуры гораздо чаще речь шла о выборе между культурой и религией, а не о религиозности самой культуры.
Упорные и настойчивые религиозные искания, сомнения, вдохновения, придававшие русской культуре такое высокое значение, в то же самое время как бы разлагали изнутри русское культурное сознание, так что ни о каком синтезе религии и культуры говорить в этом случае не приходится.
Наоборот, мы имеем здесь дело с разновидностью того общего положения, о котором мы уже говорили в связи с темой об отрицании в России культуры во имя «прагматизма», так же, как подвергали культуру сомнению во имя пользы [, будь то польза государства, народа, революции и так далее,]* так же ставили ее под вопрос и во имя религии.
Можно сказать, что, достигая определенной степени религиозности, писатель, творец как бы ставил перед собой вопрос: для чего я пишу, во имя чего, во имя какого высшего идеала? И начинался распад, разлад, часто трагический и болезненный, между его творческим сознанием и его религиозной верой или исканиями, распад, разлад, наносивший урон в первую очередь хрупкому зданию русской культуры.
Разлад этот начался не сразу, и для понимания его причин и следствий для нашей культуры уместно опять начать с Пушкина, к которому так или иначе сходятся все творческие нити, все пути.
Примечательно, что у Пушкина не было и намека на это раздвоение, на этот разлад. Между тем нет никакого сомнения, что Пушкин был верующим человеком. И не только верующим, но и носителем вполне определенного христианского мироощущения. Так, тонкий знаток и критик русской литературы профессор Георгий Петрович Федотов назвал «Капитанскую дочку» самым христианским произведением русской литературы. И, может быть, именно эта оценка Федотова и позволит нам разобраться в сложном вопросе взаимоотношений внутри русского творческого сознания между религией и культурой.
В «Капитанской дочке», как и в подавляющем большинстве пушкинских произведений, нет открыто религиозной темы, нет в ней, тем более, и никаких специфически религиозных исканий или размышлений. Следовательно, Федотов имел в виду что-то другое, называя «Капитанскую дочку» «самым христианским» произведением в русской литературе, несмотря на наличие в ней религиозного пафоса Гоголя, Достоевского и Толстого.
Что же именно подразумевал Федотов? Конечно, то, что в своем подходе к людям и событиям, в своей оценке их, во всем, так сказать, освещении своего творчества Пушкин оставался верен той общей концепции мира, жизни, нравственности, которую можно и нужно назвать христианской. [Добро и зло, красота и уродство, гнев и жалость, а за всем этим нечто еще более глубокое и невыразимое – какой-то почти непередаваемый свет, который льется в пушкинском творчестве, – все это укоренено в некоем абсолюте, и абсолют этот – христианский, евангельский.]
Пушкин, если так можно выразиться, не пересматривал христианства и, судя по всему, не очень вдумывался в его метафизические и философские глубины. Но он принимал мир таким, каким он его принял от многовековой, христианством созданной традиции. В этом мире есть небо и есть земля, есть очевидная и непроходимая грань между добром и злом, есть критерии красоты и уродства. Есть и то, что, может быть, важнее всего: как нужно относиться к людям, не идеализируя их, с одной стороны, а с другой – естественно видя в них объект и любования, и сострадания, и жалости, и уважения. В этот простой и ясный свет погружены, в нем живут и действуют и Гринев, и Савельич, и Мироновы, и, наконец, сам Пугачев.
Пушкин – верующий, но про него нельзя сказать, что он религиозен в том смысле этого слова, который оно получило позднее, когда религиозными стали называть людей, нарочито, страстно, исключительно обращенных к религии. Мы знаем, что Пушкин отдал дань скепсису XVIII века, в молодости он даже богохульствовал, написал, например, «Гавриилиаду». Но все это было поверхностным и не могло нарушить целостности пушкинского мироощущения, которое осталось, как уже сказано, в своей основе несомненно христианским.
Но именно потому (и это необходимо подчеркнуть), что Пушкин обладал еще целостным христианским мироощущением и, не задумываясь, принимал его, в нем не было разлада между его сознанием и его творчеством.
Как мы уже говорили в одной из предыдущих бесед, для Пушкина было характерно постоянное сознание границ культуры. Он знал, что вера, религия – несомненно над культурой, выше их, но культура не противостоит им, ибо все в мире – и большое, и малое – так или иначе укоренено в создавшем их Боге. [Отражая красоту, воплощая в меру сил неизъяснимое и несказанное,] культура делает угодное Богу дело, и чем лучше она его делает, тем строже подчиняется своим собственным законам.
Так если и не рассуждал, то чувствовал Пушкин, – и именно распад целостности этого чувства, ощущения после Пушкина и поставил совсем по-новому вопрос об отношении культуры к религии.
Распад этот совершился под влиянием тех же двух «открытий», сделанных русским культурным обществом в тридцатые и сороковые годы прошлого века: под влиянием западной мысли, с одной стороны, и мира русского религиозного опыта и традиции – с другой.
Один историк западноевропейской мысли XVIII века назвал эту мысль – «процессом против христианства». Сначала рационализм эпохи Просвещения, потом французская революция и, наконец, критический анализ немецкой философии мало-помалу разрушили то целостное христианское мировоззрение и мироощущение, которым еще могли жить люди XVIII века и которым жил Пушкин.
В результате западная культура, западное сознание раскололись – за Бога, против Бога. Религия, перестав быть самоочевидной и часто бессознательной основой культуры, стала одним из объектов культуры, всего лишь одной из ее тем. И в эту страстную борьбу, еще не подошедшую к своему концу, начиная с Гоголя, включилась и русская культура.
Однако, став только «темой» культуры, страстное, взбудораженное, израненное историческими неудачами религиозное сознание неизбежно обернулось в каком-то смысле и против культуры. Культура постепенно стала приобретать для религиозного сознания характер восстания против Бога, отрицания Его всеобъемлющих и абсолютных прав. Поэтому религиозное сознание постепенно стало соглашаться признавать культуру только в ту меру, в какую она становится «служанкой религии», – в сущности так, как философия в Средние века должна была включаться в борьбу за Бога и за Его права.
Но тут сказался и второй источник раздвоения и распада, а именно – соприкосновение русского культурного сознания с таинственным для него и притягивающим миром народной веры, с ее видимой целостностью, непричастностью к разъедающему анализу и скепсису, с миром, в сущности, другой культуры, другой традиции, всецело, радостно и непоколебимо сосредоточенной на «небесной красоте».
Зачем вообще культура, если эта простая вера создает такую нравственную красоту, как у Лукерьи из «Живых мощей» Тургенева или в Платоне Каратаеве? Отец Матвей Константиновский в жизни Гоголя, Оптинские старцы, к которым потянулись люди культуры в поисках утраченной цельности, мужики, знающие, как жить «по Богу», у которых так хотел учиться Левин в «Анне Карениной», – все это словно призывало оставить призрачный мир земного творчества во имя духовного «делания», во имя «единого на потребу».
И вот, поразительно: рассыпавшееся христианское мироощущение, благодаря которому мир, несмотря на все зло и всю тьму в нем, у Пушкина остался в сущности миром светлым, этот мир у писателей «религиозного сознания» стал миром темным, непросветленным, религия стала отожествляться с одной только возможностью: с уходом, отказом, отречением. Светит и сияет только «народный мир», мир веры. Все остальное, а это значит – мир культуры, отражается «рожами», погружается в безысходную тьму «шинели», в кошмарную галерею «Мертвых душ».
Так после Пушкина русская культура как бы повисает над пропастью. Ее удачи в некотором смысле парадоксальны, так как удачи эти были не следствием планомерного развития культурной традиции, культурного строительства, а удачами только личными, нередко оборачивающимися – как у Гоголя и Толстого – страшной личной трагедией.
Один западный критик заметил, что у русских есть великие писатели, но нет литературы в западном понимании этого слова, как преемства традиции, как общей круговой поруки творчества. Действительно, только в короткую пушкинскую эпоху был некий писательский круг, был литературный мир, у которого и на верхах, и на низах было что-то общее, общая тональность. После пушкинской эпохи писатели оказались в одиночестве: в одиночестве Достоевский, в одиночестве Толстой, в одиночестве Чехов.
Создалось творческое, не обязательно житейское, одиночество. Словно каждый русский писатель был приговорен к тому, чтобы в муках совести и сомнений создавать свой творческий мир и в одиночестве спрашивать себя: для чего это создание, мое творчество? И часто бросать его, отказываться от него, ради, опять-таки, «единого на потребу».
В основу русской культуры неизгоняемо вошло это религиозное сознание. Сомнение не в религии, а в религиозной оправданности творчества. Это сомнение, повторяем, приводило к потрясающим личным удачам. Но одновременно оно лишало русскую культуру того незыблемого, самоочевидного фундамента, без которого бесперебойный рост ее невозможен. Удачи и срывы – такой оказалась судьба русской культуры.
* Здесь и далее текст, вычеркнутый в машинописи, помещен в квадратные скобки.
Предыдущие беседы о русской культуре:
- О «пользе» русской культуры
- Русское культурное чудо
- Что сделал с русской культурой утопизм
- Судьба России и ее культуры почти всегда решалась на верхах
- Истоки максимализма в русской культуре

