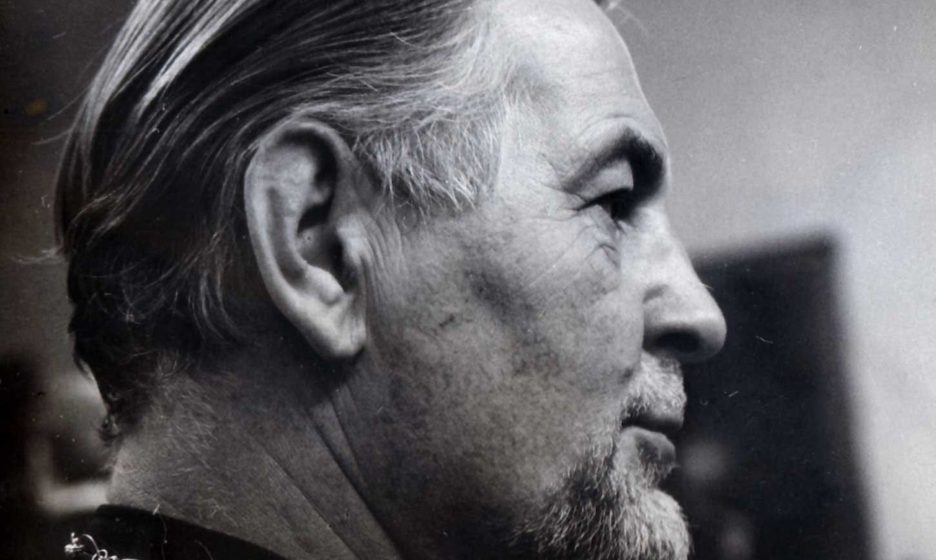
Беседа 12. Отрицание культуры во имя социальной утопии
«Социальность, социальность или смерть!» – это восторженное восклицание Белинского, когда он только что обратился в социалистическую веру, часто цитировали. И его действительно можно было бы поставить эпиграфом к истории русского сознания, русской мысли, русской мечты, начиная с 40-х годов XIX столетия.
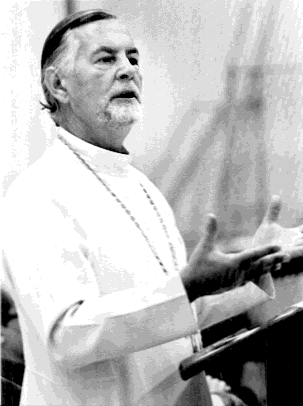
Протопресвитер Александр Шмеман
Социальный вопрос или, точнее, социальная утопия именно с тех пор для большой части русской интеллигенции стала какой-то всеобъемлющей, всепоглощающей страстью. Упрощая, можно сказать так: если в XVIII веке строили культуру, то в XIX веке интерес к культуре оказался чуть ли не целиком подчиненным интересу социальному. И это, конечно, глубоко отразилось на судьбах русской культуры.
Впрочем, не только русской: надо заметить, что одержимость «социальностью» в XIX веке была общей для всей Европы, и Россия не составляла тут исключения. XIX век в Европе был веком Прудона, Маркса, Энгельса, Бакунина, веком революций, Парижской коммуны, начала рабочего движения и развития социологии и экономики как научных дисциплин.
Но в отличие от России эта социальная страсть на Западе не стала всепоглощающей страстью, и она не остановила, не подавила собой продолжения культурной традиции и строительства. Так, например, историю французской или английской литературы XIX века можно изучать совершенно отдельно от общественного и революционного движения, развивавшегося в те бурные десятилетия. Можно говорить о жизненной или литературной драме Флобера, Бодлера, Рембо, не сводя ее к социальной проблематике. И это потому, что культурная традиция на западе Европы была слишком сильной и прочной, чтобы ее могла размыть и поглотить новая социальная страсть.
Что же касается России, то тут нужно признать, что страстное увлечение «социальностью» привело у нас к понижению культурного уровня, стало источником глубоких и значительных «перебоев» в русском культурном сознании.
Сведение всего к «социальности», безоговорочное подчинение ей культуры стало знаменем и, так сказать, питательной средой нового явления русской жизни, а именно знаменитой, многострадальной, замечательной, но и во многом для прошлой России опасной интеллигенции, появившейся как раз в XIX веке.
Если нашей отправной точкой и мерилом взять опять Пушкина, то надо сказать, что у него не было еще ни одной отличительной черты «интеллигента», не было, прежде всего, внутреннего подчинения культуры социальному вопросу. Это совсем не значит, что Пушкин был чужд социальным интересам, не переживал трагически отсутствие политической свободы, порабощение крепостных, социальное неравенство и так далее.
В своем «Памятнике» он по совести мог сказать о себе, что в свой «жестокий век восславил он свободу и милость к падшим призывал». Его интерес к Пугачевскому бунту и глубина его исторического анализа говорят о несомненном понимании им социальной проблемы России в широком смысле этого слова. Скажем просто: не меньше, чем будущие русские интеллигенты, Пушкин был за свободу, справедливость, человеческое достоинство, элементарное равенство.
Но Пушкин чужд основной черте интеллигенции – утопизму. Поэтому 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге, когда произошло историческое рождение интеллигентского сознания и жизненной установки, Пушкин отсутствовал не только физически, но и, так сказать, духовно.
Восстание декабристов было вступлением утопии на историческую сцену России. Пушкин мог сочувствовать личному подвигу и героизму декабристов, но он не мог разделять их утопической страсти. Не мог прежде всего потому, что в его иерархии ценностей культура стояла на первом, а не на втором месте, и от нее, от ее создания и укоренения в России зависело улучшение социального положения, а не наоборот. Вот эта иерархия ценностей и оказалась в интеллигентском сознании перевернутой: на первое место был поставлен социальный вопрос, а культура подчинена ему.
Русская интеллигенция не как особый слой населения, а как тип создалась в русском обществе в итоге двойного процесса: сравнительно быстрого распространения просвещения за пределы высшего дворянского сословия и одновременно почти трагической невозможности творчески и созидательно применить это просвещение на практике, в жизни.
Рождение интеллигенции как массового явления совпало у нас с годами реакции после восстания декабристов, с постепенным превращением империи при Николае I в чиновничье-военное государство, в колоссальную неповоротливую бюрократию. Тогда перед сравнительно образованным русским человеком впервые встал выбор: или он превратится в подобие того чеховского чиновника, который в старости вдруг открыл, что в миллионах написанных им казенных бумаг ему никогда не пришлось поставить ни одного восклицательного знака, выражающего, как он только что узнал, восторг, гнев, вообще сильное чувство, или ему придется уйти в призрачный мир мечты о чем-то несбыточном, то есть уйти именно в утопию. И вот утопия стала своего рода второй натурой этого образованного человека, в нее уходил жар его души, всё его воображение, вся энергия.
Утопия пришла в готовом виде – из западных источников, из наспех препарированных и упрощенных всемирных и всеобъемлющих схем Гегеля и его последователей, из учебников физики и химии, из бурлящего всевозможными идеями Запада.
Восторг, пережитый молодыми Герценом и Огаревым на Воробьевых Горах, был явлением не единичным, а почти коллективным. В кружках, в салонах, а потом и на конспиративных квартирах постепенно зародилась и разрасталась та нескончаемая, восторженная и возвышенная беседа, состоявшая почти из одних восклицательных знаков, которая длилась потом для этой части интеллигенции почти до самого конца Российской империи.
И вот что важно отметить: чем дальше шло время, тем очевиднее снижался культурный уровень беседующих и восклицающих. Если в московских салонах сороковых годов – у Хомякова и Чаадаева, у Елагиных и Грановского – беседа эта еще была насыщена подлинной, глубокой и тонкой культурой, на которой еще лежал отсвет Пушкина, то в 60-е годы – в поколении Писарева и Добролюбова – этой культуры уже не было, она выветрилась, куда-то исчезла, сменившись какой-то серой полукультурой, изучать которую можно по знаменитым «толстым журналам» второй половины XIX века.
Тут как будто действовал какой-то странный закон: чем шире, чем, так сказать, «всемирнее» была утопия, тем уже и суше становился ее культурный коэффициент. Надо было действительно забыть «Капитанскую дочку» и «Героя нашего времени», эти высоты русского языка, чтобы увлекаться романом Чернышевского «Что делать» и плакать над стихами Надсона.
Культуру в это время в интеллигентских кругах стали понимать исключительно прагматически: как минимум необходимых, обязательно практических, обязательно «полезных» сведений для «народа», просвещение сводилось лишь к всеобщей «грамотности», без какой-либо заботы о национальной культуре. Над русской культурой воцарился интеллигент, «идеалистический и беспочвенный», по выражению Федотова, аскет, презиравший не только материальные блага жизни, но и всякую, по его мнению, ненужную «изящность», фанатически одержимый одной, только одной мечтой, в которой, однако, культуре фактически места не было.
Трагический парадокс русской культуры состоял в том, что, начиная с определенного времени, она оказалась на собственной своей родине как бы «чужестранкой». Она перестала быть нужной бюрократически-военному аппарату империи, больше того: этим аппаратом она была поставлена под подозрение. Но она перестала быть нужной и поклонявшейся революции интеллигенции, которая тоже поставила ее под подозрение. Утопия имперская и утопия революционная как бы заключили между собой негласный союз – против высшего «реализма» Пушкина, против той правды о России, которую он чувствовал и к которой русскую культуру призывал.
И можно только удивляться, что, несмотря на этот двойной гнет – со стороны всё дальше отходившей от культуры империи и со стороны отрицательно настроенной к ней интеллигенции, русская культура всё-таки продолжала существовать, питаемая незаметными источниками русского творчества. Больше того, можно даже сказать, что это двухстороннее давление давало ей новую глубину, новое творческое измерение, так как культура эта волей или неволей оказалась вынужденной дать ответ на двойное направленное против нее отрицание, изнутри преодолеть его.
Не преувеличивая, можно сказать, что от Достоевского и Толстого началось освобождение русской культуры от внутренней, психологической ее порабощенности военно-бюрократической и революционно-интеллигентской частям России, на которые она распалась после смерти Пушкина.
Прагматическое отрицание культуры, отрицание религиозное, наконец, отрицание культуры социально-утопическое – вот те три измерения, то чистилище, через которое пришлось пройти русской культуре после ослепительного ее воплощения в Пушкине. Через это чистилище она прошла.
Означало ли это возврат к Пушкину, к начертанной им программе и как отразилось прохождение это на самой ткани русского культурного сознания? Какой высоты, какой глубины достигло оно? [С какими новыми трагедиями пришлось ей встретиться?] Вот дальнейшие вопросы, ответ на которые нужно искать прежде всего у двух гигантов, на двух мировых вершинах русской культуры – у Достоевского и Толстого.
Предыдущие беседы о русской культуре:
- Отрицание культуры во имя религии
- О «пользе» русской культуры
- Русское культурное чудо
- Что сделал с русской культурой утопизм
- Судьба России и ее культуры почти всегда решалась на верхах
- Истоки максимализма в русской культуре


