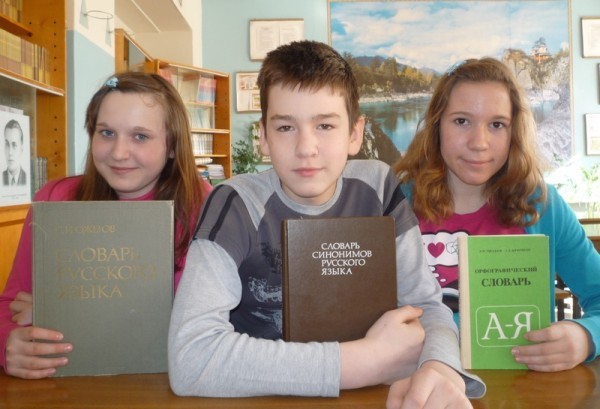– В последнее время появилось довольно много проектов, связанных с лингвистикой. Это и публичные лекции, и выступления лингвистов по телевидению, собственные программы на радио, колонки и многое другое. Вы замечаете сейчас в обществе всплеск интереса к языку?
– С моей точки зрения, этот интерес есть всегда. Мне вообще кажется, что если не выдумывать какую-то бредовую национальную идею, то национальная идея в России – это именно русский язык.
Я заметила, если человек слышит, что я работаю в Институте русского языка, он ко мне сразу как-то особенно начинает относиться. Он сразу мне говорит: «Ой, как интересно! А я хотел узнать…»
– А что, кстати, спрашивают? Что хотел узнать?
– Как правильно произносить, говорить. Ну и происхождение слов: «А правда? А я слышал…» Причем даже сам человек может говорить, скажем, не очень грамотно, но ему всё равно интересно.
– Неужели не набрасываются с вопросами, типа: «Да как же вы разрешили кофе среднего рода?»
– Иногда бывает, конечно. Я обычно все терпеливо объясняю. Но чаще просто проявляют интерес и уважение.
У меня был случай, я тогда работала в Службе русского языка и жила далеко, в Солнцеве. Опаздывала, ловила машину до метро. А водитель говорит: «Давайте я вас прямо до института довезу». Я про себя думаю: «У меня и денег столько нет. Ну ладно, как-то…» Подъезжаем, мне открывают дверь, я достаю деньги. А он говорит: «Вы что, не надо ничего, вы такой важной работой занимаетесь». Представляете?
– То, что вы говорите, для меня удивительно. Мне кажется, многие люди считают, что лингвисты как раз занимаются какой-то неважной работой.
– Это встречается, но, как правило, так считают люди с высшим образованием. Это удивительно! Они уверены, что сами-то очень важной работой заняты. Хотя, пожалуй, это все-таки не с образованием связано, это психология.
– Были вопросы, которые вас ставили в тупик? Вопросы от обычных людей.
– Ну, конечно, когда спрашивают, скажем, о происхождении слова. Нас приучили к тому, что никогда нельзя высказывать гипотезы. Надо проверять. И я довольно часто говорю: «Мне кажется, что это так, но вообще я должна проверить». И даже были случаи, когда я оставляла телефон или email. И люди перезванивали!
– А я часто сталкивалась с тем, что люди не прощают лингвистам вот этой приблизительности, неуверенности, наличия вариантов…
– Конечно, так тоже бывает. Да, варианты все не любят – это я помню по тому времени, когда еще вела передачу «Грамотей» на «Маяке». Но я, кажется, слушателей более-менее приучила к тому, что есть варианты и что не может быть безапелляционных утверждений.
Выступал у меня, например, Владимир Плунгян (известный лингвист, член-корреспондент РАН), его спрашивают: «Сколько в мире языков?» Он говорит: «От пяти до семи тысяч». Конечно, люди приходят в ужас, говорят: «Что ж такое? Лингвисты с точностью до двух тысяч посчитать не могут?»
Но он объяснил, почему так, что считается языком, что не считается. И потом в какой-то момент у меня выступал кто-то действительно не из больших ученых, из преподавателей, по-моему, учителей. И очень уверенно отвечал на вопросы.
Так потом мне несколько слушателей написали: «Ну, это не настоящий ученый. Настоящий ученый никогда точно ничего не знает». Так что к такому восприятию тоже можно приучить людей.
– Как вы думаете, а что такое, по мнению обывателя, вообще русский язык? Не сводится ли представление о нем к «жи-ши» и другим правилам?
– Все-таки нет, потому что у людей есть представление о том, что надо говорить красиво. Это может совершенно не соответствовать тому, как они реально говорят, или тому, как говорят люди вокруг них. Русский язык – это такая священная корова. Это язык Тургенева, которым надо всем говорить.
– Кстати о священной корове. Государство очень часто говорит о защите русского языка. Имеет ли то, что декларируется, отношение к реальной заботе о языке и, например, о каких-то образовательных проектах, программах, которые нужны обществу?
– Нет, конечно. Вообще это абсолютно не связанные вещи, это демагогия.
Во-первых, сама идея защиты. Я всегда спрашиваю у чиновников: «От кого?» Потому что, прежде всего, русский язык надо защитить как раз от тех, кто пишет законы безграмотным языком и издает бессмысленные постановления.
В образовании всё время проводят какие-то реформы, которые только затрудняют работу учителей, требуют бесконечных отчетов и так далее.
– Но я сейчас говорю еще и о таких приземленных вещах, как финансирование. Все знают, что Служба русского языка – она, в общем, в плачевном состоянии.
– Да, она умирает. Служба русского языка без денег. Много-много лет она работала на энтузиазме и на том, что аспирантов обязывали работать бесплатно. Но сейчас другое время, сейчас никого, в общем-то, не заставишь работать бесплатно. И все очень заняты, зарплаты в Институте русского языка маленькие.
Знаете, когда одна из наших сотрудниц, доктор наук, ведущий научный сотрудник, пришла оформлять пенсию, то в cобесе ей сказали: «Наверное, в вашей справке о зарплате забыли нолики». Никто не поверил, что в Институте русского языка средняя зарплата — 25 тысяч рублей.
И, конечно, плюс к этому заставить человека бесплатно работать на Службу русского языка – очень сложно. Денег на нее никто никаких не дает.
Собственно, у меня у самой был опыт радиопрограммы «Грамотей», которая 5 лет выходила на гранты. И в тот самый год, который был объявлен годом русского языка, эту программу закрыли. А я за неделю до этого говорила со слушателями, которые надеялись, что в год русского языка им привезут новые учебники, а то они учатся по рваным, по которым еще бабушки учились…
– Я знаю, что и «Грамота.ру» делается во многом на энтузиазме и особого финансирования тоже не видит.
– На энтузиазме, да. Причем ведь сейчас совсем другие технические возможности. Можно было бы сделать многоканальный телефон, чтобы люди дозванивались. Можно организовать дежурства. Ведь многие недовольны тем, что Служба русского языка или «Грамота.ру» не круглосуточные. Это всё можно было бы сделать, были бы деньги.
– Так почему же на это денег не дают, но зато много тратят на проекты, связанные с преподаванием русского как иностранного, финансируют фонд «Русский мир»?
– Наверное, потому что гораздо приятнее съездить провести какую-нибудь конференцию про русский язык в Австралии или на Канарских островах, чем в деревне под Тулой. Хотя я думаю, что гораздо полезнее было бы именно в деревне проводить что-то.
Кстати, даже на преподавание русского как иностранного средства идут выборочно. Я преподаю русский язык и в Америке, и в разных местах. И могу сказать, что на учебники русского как иностранного тоже деньги особо не выделяются. У нас мало хороших учебников. А «Русский мир» финансирует только определенные проекты. Это Русский дом в какой-нибудь стране, где проходят встречи, водят хороводы, пекут блины. Но это не изучение русского языка.
– Зато, наверное, как говорят чиновники, это работает на улучшение имиджа страны за рубежом.
– Я уверена, что ничто лучше не работает на улучшение имиджа России, чем пропаганда русского языка. Когда ты учишь язык страны, ты совершенно по-другому к этой стране относишься.
– А вообще в мире есть сейчас интерес к русскому языку?
– Я знаю два типа людей, которые учат русский язык. Первые – это те, кто изучает нашу великую культуру XIX века. И писателей XX века, таких, как Набоков, Солженицын.
То есть это люди, которые заинтересовались русской культурой. Вначале увидели спектакли, послушали музыку, прочитали «Анну Каренину» в переводе и захотели учить русский язык.
Вторая категория учит его чисто утилитарно. Это какие-то государственные люди, которые делают дипломатическую карьеру, военную. И в последние годы появлялось всё больше людей, которые хотят учить русский язык для того, чтобы заниматься совместным бизнесом. Но сейчас, я думаю, эта часть отпадет.
– Я знаю, что вы изучаете речь двуязычных детей.
– Да, я этим тоже немного занималась, потому что преподавала в разных странах. Я сама всегда завидовала людям, которые с детства знают два языка. Потому что ты никогда так не выучишь язык, как его знает ребенок.
Но у двуязычных детей, конечно, есть свои проблемы. Настоящих билингвов в мире вообще очень мало, процентов 5. Как правило, один язык все равно главный, а второй, например, язык бытового общения.
Мы просто даже не понимаем, как много слов мы узнаем не дома, а в школе: «клетка», «закон сохранения энергии», «склонение».
– Но это просто термины.
– Не совсем термины. Это то, что знает всякий человек в России. Он, может быть, не объяснит, что такое склонение или что такое падеж. Но слово это он знает. А у двуязычных детей очень большая часть лексики выпадает.
Вот, скажем, очень образованный молодой человек закончил Гарвард, но он уехал из России, вернее, родители уехали, его увезли, когда ему было 12 лет.
И он пишет бабушке письма по-русски так, как пишут 12-летние дети. По стилю, по лексике. При том, что по-английски он пишет диссертации!
– Получается, что второй язык у первого, у родного отнимает?
– Что-то отнимает. Но он отнимает то, что мы получаем, например, с образованием, уже во взрослой жизни.
– Вам нравится, как в российских школах преподают русский язык и литературу?
– Мне кажется, что все-таки очень по-разному преподают. В школе многое зависит от учителя. Мне нравится, что сейчас много учебников, много программ. Учителя могут выбирать. Много дополнительных материалов.
Периодически появляется идея, что надо всё реформировать. А мне кажется, не надо совершать никаких резких движений. Поскольку школ и учителей очень много, представить себе, что мы одномоментно переучиваем всех учителей в России, — понимаете, это совершенно невозможно. Это приведет только к полному хаосу.
Мы сами тоже пишем учебник и вносим изменения аккуратно, по чуть-чуть.
– А какие изменения?
– Какие-то простые вещи. Дело в том, что в учебнике всё время происходит какой-то обман. Дается утверждение, а через страницу, например, дается упражнение, которое этому утверждению противоречит. Например, что «ж» у нас всегда твердо произносится. И поэтому «жи-ши». И тут же задание: «Напишите транскрипцию слова дрожжи». А там ж со знаком мягкости!
Конечно, большинство детей не обращает на это внимания.
А есть умные дети, которые поднимают руку и спрашивают учителя: «Как же так? А вот же оно мягкое». Мы объясняем такие моменты.
– Как вы думаете, а можно было бы ввести в школьный курс русского языка церковнославянский язык? Насколько это было бы полезно?
– Знаете, я большая сторонница этого. Честно сказать (притом, что я сама православная), я с сомнением отношусь к курсу преподавания основ православной культуры. Чтобы создать традицию, чтобы выучить учителей, которые смогут это хорошо объяснить, смогут детей не оттолкнуть от Церкви – на это нужно очень много времени потратить, это очень долгий и сложный процесс.
А если бы в школах ввели, даже пусть как необязательный, церковнославянский язык, — это другое дело! Если бы дети просто для языка читали церковнославянские тексты, мне кажется, это было бы гораздо полезнее и дало бы, конечно, большой плюс в изучении русского языка, в понимании живописи, литературных сюжетов.
Это ключ к культурному бэкграунду.
В общем, я бы продвигала изучение церковнославянского в школах.
– Современные школьники говорят ужасно? Их принято ругать — за рваную речь, за жаргонизмы, за англицизмы. Все так плохо?
– Ой, да по-разному они говорят. Я однажды так развлекала слушателей: читала текст о том, что ужас что стало с языком, как плохо говорит молодежь и так далее. И все кивали головами, а я спрашивала: «А когда этот текст написан?» Никто не мог догадаться. А это был текст, написанный 3 тысячи лет назад о латыни.
Многие современные школьники очень хорошо говорят. Почему?
Я считаю, что как раз молодое поколение в чем-то более раскованно и говорит лучше.
Я окончила школу в 1974 году. И тогда действительно писали все намного лучше, потому что в школе очень много занимались этим. Был жесткий орфографический режим. И мы вообще не думали о том, что что-то другое может пригодиться в жизни.
Сейчас, как мне кажется, в бизнесе, в тех же средствах массовой информации, как бы мы их ни ругали, человек все-таки довольно много должен говорить спонтанно.
Люди существуют в таком режиме, которого раньше не было. Раньше это всё писалось, проверялось, расставляли ударения три редактора, два корректора, и надо было суметь прочитать по бумажке.
– А соцсети влияют на речь сейчас?
– Мне кажется, что сейчас упал престиж грамотного письма, и в этом есть влияние интернета, соцсетей. В чем оно выражается? В том, что глаз просто привыкает. Например, к тому, что «не» и «ни» не различаются теперь совсем. И уже перестали это различать люди, в общем, образованные.
В наше время считалось стыдно написать с ошибкой. Если тебе кто-то указывал на то, что ты сделал ошибку, можно было провалиться сквозь землю. Я одной девушке на конференции сказала: «Вы извините, вы, наверное, спешили, не успели, не проверили. Надо на таком-то слайде исправить ошибки». Она улыбается, совершенно не смущаясь, мне говорит: «Да-да, спасибо».
А потом через месяц случайным образом я попадаю на этот доклад в другое место. И там презентация с теми же ошибками.
То есть человеку всё равно, потому что уже это как-то не стыдно.
– Что вам сейчас кажется наиболее опасным явлением в языке, в речи? Что ему действительно угрожает?
– Грубость. Вот что мне кажется опасным.
В позднем советском языке было очень много, скажем так, высокого стиля. И дальше этот высокий стиль стал восприниматься уже пародийно, потому что так никто не говорил, это вызывало просто смех.
И начался всеобщий стеб. Это привело к тому, что наши три штиля стерлись, исчезли. Высокий отпал. Средний стиль стал уже восприниматься почти как высокий. А вот низкий стиль – он победил во многом. И кажется вроде, что ничего страшного.
Но такая грубость в речи – она приводит к более жестким отношениям, разжигает больше злобы. Раньше, наверное, только пьяный человек на заборе мог написать «чурки», «хохлы» или «укропы». А сейчас так можно в дискуссии написать — это считается нормальным.
Это все очень плохо, мне кажется, потому что как только человек начинает эти слова употреблять, он сам впадает в нехорошее состояние. Это нездоровье общества.
– Удается ли сейчас лингвистам убедить людей в том, что язык все-таки не гибнет? И что вы можете сказать тем, кто думает, что он умирает?
– Иногда у меня бывает отчаяние, и кажется, что ничего не получается. А потом вдруг я где-то выступаю или с кем-то разговариваю, и слышу, что все-таки люди все понимают. Я думаю, что надо нам всем над этим работать и успокаивать людей.
А почему не гибнет? Потому что не меняются только мертвые языки.